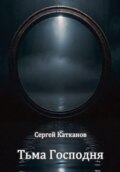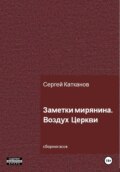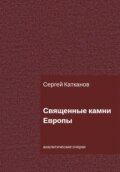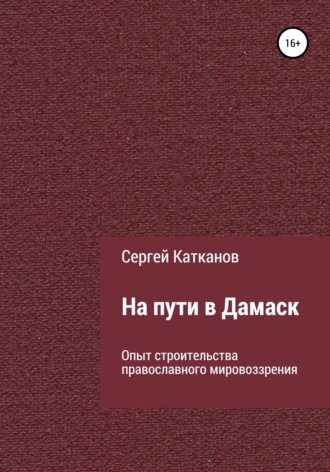
Сергей Юрьевич Катканов
На пути в Дамаск. Опыт строительства православного мировоззрения
Относительно того, что «кто святее, тот и прав»… Наверное, так и есть. Жаль только агиометра до сих пор не изобрели, так что с применением этого критерия истины у нас большая напряженка. Кураев, например, пишет, что архиепископ Серафим (Соболев) призывал атеистов попросту убивать, после чего его книги вообще невозможно продавать в православных магазинах. Если архиепископ действительно это утверждал, это действительно помрачение нравственного сознания. Но я не сомневаюсь, что он жил праведно, и, между прочим, зарубежники его канонизировали. Но что же у него с «чутьем на истину», если он считает, что атеистов надо убивать? И что у зарубежников «с чутьем на святость»? Да ведь и у нас агиометра нет.
А как проходили вселенские соборы, где искали истину, это многим лучше вообще не знать. То что святитель Кирилл Александрийский, столп православия, на третьем вселенском соборе действовал подкупом и обманом, не зная, кажется, вообще ни каких нравственных ограничений, это как? А вот ересиарх Несторий вел себя вполне достойно, проявлял смирение, не искал своего, и в конечном итоге на деле доказал, что готов пожертвовать собой ради мира церковного. Если бы тогда смотреть на личности, то православие погибло бы, потому что, как бы скверно не поступал святитель Кирилл, но он отстаивал Истину. И я не осуждаю святителя, не спорю с тем, что это был действительно святой человек, но человек бесспорно очень сложный. Я не знаю, что происходило у него в душе, когда он решал вопросы Истины при помощи взяток.
Кстати, некоторые не вполне корректно выраженные мысли свт. Кирилла вскоре появившиеся монофизиты положили в основание своей ереси. И про Нестория ведь вполне можно сказать, что он всего лишь не вполне корректно формулировал свои богословские мысли, и от некоторых крайних суждений он довольно быстро отрекся. Так у кого из них было больше чутья на Истину? Кто был праведнее? Кажется, Господь утвердил Истину совершенно независимо от личных качеств действующих лиц этих споров.
Я, конечно, не лезу в богословие, но тоже ведь рассуждаю. И если исходить из того, что дар рассуждения дается за праведность жизни, так мне вообще нельзя браться за перо. Я в грехах, как в шелках, но порою могу быть прав, а человек, душа которого куда чище моей, может быть не прав. Дар дается ни за что. Просто дар и все.
С какими страшными испытаниями порою сталкивается наша вера, когда мы узнаем некоторые факты, буквально травмирующие душу. Но нельзя отрицать очевидное. Надо принять правду, как она есть, и все же устоять в Истине.
То, что я тогда написал, в принципе правильно, но это голая схема, множество жизненных фактов в нее не укладываются. Готовы ли мы принять реальность такой, какая она есть, или так и будем прятаться от жизни в идеальном мирке теоретических схем?
17.12.95
Плохо, что массы людей далеки от Православия. И как же быть? Нам говорят, что надо пододвинуть Православие к людям. А мы говорим, что необходимо пододвинуть людей к Православию. И в ответ видим плутовато-скорбную мину, по которой читаем: это одного пододвинуть, потом сотого, тысячного – с ума сойти можно. А тут взял Православие, один раз пододвинул и никаких больше проблем. Они же просто работать не хотят. А если серьезно, то вариантов нет. То, что вы пододвинете к людям, уже не будет Православием.
06.04.96
Слушая проповедников, представляющих современные самодельные "вероучения", я иногда думал: а ведь у современных людей сегодня едва ли не столько же оснований согласиться с "белыми братьями", сколько в свое время со Христом. Да, "закон и пророки" говорили именно о Христе, сегодня мы несомненно это знаем. Но в свое время приняли Христа безграмотные рыбаки, а знатоки Писания не приняли. То есть основанием для принятия были отнюдь не свидетельства Писания. Народ Израиля ждал мессию, но приходили и другие, называвшие себя этим именем.
И вот, когда несколько лет назад бесстыжий Юоанн верещал, что "Писание говорит обо мне", неспособные доказать абсурдность этого утверждения, получается, что вынуждены были верить? Христиане предостерегали от "белых братьев", но и фарисеи предостерегали от Христа. Христос говорил, что последовавшие за Ним, сохраняют верность религии Авраама. Но и Мун говорил, что принявшие его сохраняют верность христианству. Христос говорил правду, Мун лгал, но как могли в этом разобраться простые люди, отнюдь не знатоки Писания?
Сейчас, мне кажется, я понял в чем дело. Знанием Писания, богословием можно доказать, что Христос – Бог, а Мун и Юоанн – самозванцы. Но это путь единиц. Что же касается просто народа, то спасение или погибель приходят по принципу: "Подобное тянется к подобному". Чистые души тянулись ко Христу, мутные души – к мутным лжеучениям. Господь не попустит погибнуть искренне жаждущим правды, ибо сказано, что они блаженны.
***
Ощутишь, что человек не родной по крови – брат, когда ощутишь, что у вас один Отец Небесный, Который заботится о вас обоих. Костя рассказывал о поездке в Лавру, а я чувствовал, что Господь о нем заботился так же, как и обо мне в других ситуациях. И я чувствовал, что мы с Костей – братья.
Публикации разных лет
Словесная икона
Почему в Русской Православной Церкви богослужения до сих пор совершаются на славянском языке? Ведь славянский язык – мертвый. Почему не перейти на живой русский язык? Разве в Православной Церкви запрещено служить на современном языке? Многим, наверное, приходилось слышать подобные вопросы.
Начнем с того, что славить Бога действительно можно на любом языке. Это не противоречит церковным догматам и канонам. Значит, и на русском служить можно. Остается выяснить, лучше ли это?
Опыт перевода богослужения на современные языки уже есть. Например, украинские раскольники перешли на родную "мову". Знаете, как у них звучит именование Богородицы "Невесто неневестная"? "Дивка непросватана". Когда я впервые услышал эти слова в раскольничьем Владимирском соборе Киева, ухо резануло, как от мерзкого кощунства. Тогда еще подумал: а почему бы в тюремных храмах не служить на блатной "фене"? Ведь запретов нет. И зеков это может привлечь понятностью, близостью к их жизни…
Разговорный язык – это язык улиц и площадей. Если мы перенесем его в храм, богослужение затопят стихии мира сего. Любому человеку, имеющему хотя бы самый небольшой молитвенный опыт, известно, как трудно заставить себя сосредоточиться во время службы и не "уноситься мыслию далече" – к житейским делам и заботам. А мирской язык, на котором ведутся житейские разговоры, поневоле будет приводить на память мирские мысли, то есть во время молитвы в храме мы станем еще рассеяннее.
Содержание всегда пропитывает собой форму. Содержание создает форму, а форма хранит содержание. Возвышенные и величественные формулы церковнославянского языка уже сами по себе настраивают душу на мысли о духовном. Священный богослужебный язык соответствует понятию о Церкви, как о Царстве не от мира сего, свидетельствует об инородности происходящего в храме и за его пределами.
Есть такое понятие: намоленая икона. Это икона, перед которой молились, может быть, на протяжении веков, а потому она сама уже стала ретранслятором Божественных энергий. Так же и славянский язык – намоленый, потому что на нем православные молятся уже вторую тысячу лет. Этот язык стал средой Богообщения, его называют словесной иконой, иконописцем которой является Дух Святой.
Догматически почитание церковнославянского языка можно было бы обосновать так же, как и иконопочитание: как там мы поклоняемся не доскам и краскам, а в видимом образе почитаем невидимый первообраз, так и тут мы чтим не звуки и грамматические формы, а в слышимом образе почитаем неслышный первообраз.
Говорят, что ведь нет же славянского языка, например, в Элладской или Грузинской Церквях. Так ведь там и Троице-Сергиевой Лавры нет, и Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, и святых мощей преподобного Серафима Саровского. Слава Богу, что у нас, русских, все это есть. Слава Богу, что у нас есть церковнославянский язык, которого нет у других. Этот язык вполне может считаться местночтимой святыней Русской Православной Церкви.
Впрочем, во многих других Поместных Церквях так же существует двуязычие. В византийской культуре языком Библии служил особый восточногреческий диалект "кини". Текст Ветхого Завета, труднопонятный для современного грека, используется в Богослужении. Так же текст Нового Завета малопонятен среднестатистическому прихожанину Элладской Церкви.
Древнегрузинский при всем своем большом отличии от современного грузинского, в Богослужении сохраняется. И в Армении древнеармянский язык так же сохраняется именно как язык Литургии, язык священный. В Эфиопии Богослужение совершается не на современном языке амхарэ, а на древнем священном языке геэз. В Египте арабский язык в повседневном употреблении полностью вытеснил коптский уже в начале второго тысячелетия, тем не менее египетские христиане сохранили свой язык, как язык Писания и Богослужения.
Но славянский язык стоит еще выше приведенных примеров. Дело в том, что это язык отнюдь не мертвый, а искусственный, созданный специально для перевода священных книг и Богослужения равноапостольными Кириллом и Мефодием. Поэтому, когда говорят, что ведь в свое-то время славянский язык был для всех понятным, поэтому и сейчас надо служить на всем понятном языке, это неправда. Церковнославянский язык и тысячу лет назад не был полностью понятен носителям живого древнеславянского языка.
Возникнув в Римской империи, Церковь приняла, как свой язык не народно-разговорный, а книжно-литературный, который сильно отличался от языка повседневного общения. Выросшие в обстановке такого двуязычия Кирилл и Мефодий создали церковнославянский язык, как аналог греческого книжного языка. Он уже тогда был весьма далек от наречий, на которых говорили предки нынешних славянских народов, изобиловал греческими словами и оборотами, воспроизводил некоторые синтаксические принципы греческого литературного языка.
А проблема перевода богослужебных текстов на русский язык? Здесь мало талантливого переводчика, нужен святой переводчик. Необходимо тонко чувствовать богословские оттенки формулировок. Тому, кто знает историю вселенских соборов, хорошо известно, как много значило для выражения догматов безупречное словоупотребление. Одно неточно выбранное слово, передающее общий смысл, но с утратой оттенков, и вот уже открываются ворота для вхождения в Церковь ереси. На первом вселенском соборе судьба православия зависела от одной буквы: омоусиос или омиусиос? Ну и кто сегодня настолько свят, чтобы найти богословски безупречные русские аналоги славянским словам и выражениям? Ни один православный человек не дерзнет взяться за такую задачу, это могут сделать только люди духовно неразвитые, не осознающие грандиозности задачи.
Да и не все вообще можно адекватно перевести, в русском языке порою просто нет слов для отражения некоторых понятий. Как можно перевести, например, "благорастворение воздухов"? А "младенец, ложесна разверзающий"?
Вот и подумайте теперь, так ли уж страшно, что церковнославянский язык не вполне понятен русскому человеку? От кого мы это слышим? От людей, которые как-то однажды побывали в церкви, но ни чего там не поняли, поэтому больше не хотят идти? Им стоило бы напомнить евангельские слова о том, что Царствие Небесное берется усилием и только прикладывающие усилие войдут в него. Человек должен потрудиться, чтобы воспринимать православную традицию во всей ее глубине и полноте. Надо не православие двигать навстречу людям, чтобы стало легче, а самим двигаться навстречу православию, преодолевая трудности.
Когда же о непонятности славянского языка говорят люди образованные, это просто неловко слушать. Для нас овладеть совсем небольшим количеством неупотребляемых в обыденной жизни слов – дело не сложное. Не на много сложнее освоить некоторые непривычные грамматические конструкции. Мы затрачиваем большие усилия для овладения сложными терминологиями различных областей научного и технического знания. Зачем же побуждать Церковь к отмене языка, необходимого для выражения высших форм богословия и духовного опыта?
Умеренные сторонники русификации Богослужения считают, что от славянского языка отказываться не надо, следует лишь заменить на русские некоторые непонятные лова. Но так ли уж сложно запомнить, что при слове "выну" не надо ни чего вынимать, по-славянски это значит "всегда", а под словом "живот" не следует понимать наше ненасытное чрево, по-славянски оно значит "жизнь". Бывают, конечно, случаи, когда двусмысленность некоторых славянских слов режет ухо. Например, "нужник" – прикладывающий усилие, "ссать" – сосать, "срачица" – сорочка. Эти слова хотелось бы заменить, но тут вспоминается высказывание одного подвижника: "Ежели начать, то где остановиться?" Отвори только ворота заменой пары-тройки слов и через десяток лет с удивлением обнаружишь, что от языка вообще ни чего не осталось.
Главная цель сторонников русификации Богослужения – сделать православие более популярным, доступным и соответственно увеличить количество прихожан в храмах, таким способом не может быть достигнута. Опыт свидетельствует, что все как раз наоборот, любая попытка "упрощения веры" приводит к тому, что храмы пустеют. Когда в 20-е годы ХХ века обновленцы все упростили до крайности, желая приблизить веру к людям, к ним вообще перестали ходить. Тем временем православные храмы, по прежнему дышавшие суровой древней строгостью, не могли вместить всех желающих. Те же процессы происходят в католической церкви. Они упростили христианство насколько могли: посты отменили, мессу сократили, сидеть разрешили, латынь заменили на современные языки. И с этого времени католические храмы опустели. Ни кого не привлекло то, что месса теперь служится не на латыни, а на понятном языке. Люди, напротив, восприняли "облегченную веру", как нечто несерьезное, не заслуживающее внимания.
То же будет и у нас, если мы отменим церковнославянский язык. Храмы не наполнятся, а опустеют. Эта популяризация не принесет ни одного положительного последствия, а вот раскол нам гарантирован. Этого не понимал патриарх Никон, решивший кое-что изменить в богослужительных текстах, из-за его легкомыслия Церковь уже четвертый век умывается слезами. Неужели мы хотим еще одного раскола, похлеще того? А он обязательно будет, надо знать православных. Вот священник в одном из современных храмов возглашает: "И всю жизнь нашу…" Верующие слышат "жизнь" вместо "живот" и тут же теряют доверие к этому священнику.
И ведь не на столько верующие не правы. Склонность к русификации богослужения всегда свидетельствуют об оскудении веры. Это симптом глубоких духовных перемен самого плачевного свойства. Церковнославянское богослужение – это неотъемлемая часть очень сложного синтеза, которым является церковная жизнь. Здесь тронь хоть что-то – посыплется все.
Да, мы порою не каждое слово в Богослужении понимаем, но в молитве важен не дословный перевод, а единство формы и содержания, которое воздействует не столько на рассудок, сколько на душу. К тому же слова нашей молитвы воздействуют не только на нас. Вспомним, как оптинский старец, ответил одной женщине, которая жаловалась на то, что не разумеет смысла псалмов, которые он велел читать ей ежедневно: "Не разумеешь, все равно читай – бесы разумеют".
Однажды пришлось столкнуться с таким доводом в пользу русификации Богослужения: "Зачем нам читать Евангелие на книжном славянском языке, если Господь обращался к людям на разговорном арамейском?" Но ведь священник в храме во время проповеди так же обращается к людям на разговорном языке. И что-то не припомню, чтобы Господь ратовал за перевод Пятикнижия Моисея на просторечный арамейский язык.
Кроме прочего, в современном мире церковнославянский язык является объединяющим людей и в пространстве, и во времени. Приезжаем мы, например, в Сербию или Болгарию, на улице людей не понимаем, но едва переступив порог храма, слышим родную и понятную церковнославянскую речь.
Этот язык так же соединяет нас со многими поколениями наших предков вплоть до начала христианства на Руси. Тысячу лет назад наши предки говорили на другом языке, а молились – на том же самом, что и мы. Разве это не здорово?
Территория креста
За нами щелкнул замок и, сделав всего несколько шагов, мы оказались в исправительной колонии, в совершенно ином мире, который живет по правилам для нас непонятным, да и неизвестным. Мы – это священник, трое певчих церковного хора и журналист. Любой свободный человек, если он не работает в исправительной системе, на территории зоны – иностранец, не знающий языка. Но вот, пройдя всего несколько сот метров, мы поднимается на второй этаж административного здания и, переступив порог одной из комнат, попадаем… на свободу. Здесь – замечательная домовая церковь с настоящим иконостасом. Церковные подсвечники, богослужебные книги на аналое, купель для крещения – все близкое и понятное. Мы на воле, потому что территория храма – это территория свободы. Не потому ли тянет сюда тех заключенных, которые внутренне это чувствуют?
Они стояли вдоль стены храма по тюремному молча и дисциплинированно. Они обращались к священнику так, как это очевидно, принято за колючкой: "Можно спросить?" И все-таки зеки знали, что для батюшки они такие же люди, как и свои прихожане. Знали, потому что священники вологодского храма святителя Николая во Владычной слободе уже довольно давно посещают колонию в поселке Паприха Грязовецкого района. Для них, для преступников, поет маленький, но настоящий церковный хор, для них батюшка привез Святые Дары, он будет сегодня причащать тех, кто к этому готов. За них и вместе с ними священник молится, всем дает целовать крест…
Странно видеть крест на зоне. Как будто пересекаются два совершенно разнородных и непримиримых мира – преступный и церковный. Впрочем, что тут непримиримого? Что есть крест? Символ страдания. Но крест так же символ спасения. А колония? Место исполнения наказания, то есть место страдания. Но колония – исправительная, значит она призвана стать местом спасения. Получается, что крест не только не чужероден здесь, но даже напротив – он самый выразительный символ зоны.
В жизни любого человека бывают очень тяжелые периоды, после которых душа либо просветляется, либо темнеет окончательно. Одних страдания облагораживают, других – озлобляют. Последнее, увы, случается чаще, и все-таки, когда мы страдаем, наши души всего ближе к Богу – только руку протяни, только было бы желание протянуть руку. Так во всем мире, а зона – лишь наиболее выразительное отражение этого факта.
Эти несвободные люди пришли в храм по своей свободной воле, они могли бы провести время иным разрешенным способом. Все точно так же, как и по другую сторону колючки: одни телевизор смотрят, другие в церкви молятся. Почему эти зеки, в основном – довольно молодые, пришли в храм? Это личная тайна каждого.
Вместе с заключенными мы выходим в коридор, батюшка начинает исповедь и теперь к нему заходят по одному. Зеки спрашивают меня: "Вы что-нибудь о предстоящей амнистии знаете?" Откровенно признаюсь, что не в курсе дела, но разговор с этого завязывается. Они говорят, что когда приезжает священник (примерно два раза в месяц), в храм приходит 20-30 человек, работающие специально берут отгул. Бывает возможность и в одиночестве здесь помолиться. Один зек говорит: "У иного, может быть, атомная война в голове, а придет сюда, помолится и выходит уже гораздо спокойнее".
Я слушаю их и думаю про себя: "Вот вам и амнистия". Не говорю это вслух, меня бы не поняли, ведь им сейчас больше всего хочется внешней свободы. Но если бы они вообще не ценили свободу внутреннюю, то и на исповедь не пошли бы. Ведь исповедь – это своего рода духовная амнистия. Человек освобождается от накопившихся грехов, они перестают давить, терзать и разлагать его душу. Значит, его наказание смягчается и внешняя несвобода уже не столь тяжела. Убедившись в этом здесь, на зоне, они может быть и, освободившись, будут жить, понимая, как страшен грех.
Потом мы вместе с зеками идем на проповедь, которую подготовил для них отец Евгений. Они слушают очень внимательно, думаю, что многие из них только здесь в колонии услышали священника и убедились, насколько близко православие к повседневности и современности. Как-то один заключенный признался батюшке, что на зоне он впервые узнал: священник – такой же человек и с ним можно запросто разговаривать. А на свободе что мешало в этом убедиться? Времени не было? Скорее, необходимости не чувствовал. А здесь почувствуешь, да еще и как. И время есть. Значит, на зоне появляется шанс очистить душу. Не многие этот шанс используют, а кто-то, может быть, освободившись, уже не вспомнит о Церкви.
Здесь отец Евгений многих крестил, но крещеный – еще не значит спасенный. Все очень непросто, и зона – не то место, которое способствует розовому оптимизму. Что будет с этими людьми потом? А пока, прощаясь с батюшкой, они задают ему только один вопрос: "Когда приедете снова?"
Код Брауна
Две девчонки-вологжанки выбирают в магазине диски с фильмами. Время от времени слышится приглушенно-восхищенный шепоток: "Код да Винчи… Код да Винчи…" Девчонки явно обеспокоены приобретением этого "шедевра". Очень сильно обеспокоены. И что такого очень важного для себя они надеются узнать от Дэна Брауна? Неужели нашим подросткам настолько интересны детали нестандартного религиозно-исторического построения? Их как будто влечет неодолимая сила инстинкта. Ну да… Стадного инстинкта.
Пошел пачку бумаги купить. На маленьком канцелярском отделе книги, конечно, не продают. Но одна книженция присутствует на самом почетном месте. Угадайте, какая? Браун. "Код…"
Ну а книжные магазины – это уже полное торжество инстинкта. Под книги Брауна, про Брауна и под Брауна отведены целые отделы. Ну вот и я, следуя все тому же инстинкту, и книгу эту прочитал, и фильм посмотрел. После чего почувствовав себя жертвой. Теперь вот хочу поделиться некоторыми соображениями по этому поводу.
"Код да Винчи" – обычный приключенческий роман. Написан увлекательно, читается легко, так же как и миллионы подобных романов. Не лучше и не хуже. Увлекательность приключенческого жанра в общем-то ни как не объясняет популярность этой книги, так что говорить придется о том якобы "глобальном историческом открытии", на которое претендует Браун. Он утверждает, что Иисус был женатым человеком, и его потомки до сих пор живут среди нас.
Казалось бы, при чем тут открытие, если это всего лишь роман? Но в интервью сам Браун заявляет, что все это историческая правда. И дело не только в его заверениях. Не раз приходилось убеждаться, что сами читатели воспринимают такие вещи, как нечто достоверное, как вполне реальные "разоблачения".
Хотелось бы поспорить с Брауном, опираясь на исторические факты. Вот тут-то и выясняется, что переспорить Брауна невозможно. Браун абсолютно неуязвим. Дело в том, что он не приводит вообще ни каких доказательств своей версии. Фактам можно противопоставить другие факты, логике – другую логику. А если у оппонента нет ни фактов ни логики? Каков затейник: вот так просто взять и заявить, что это историческая правда, не утруждая себя даже фальсификацией доказательств. Но я все-таки придумал, как разоблачить Брауна.
Представьте себе человека, который утверждает, что неопровержимо обосновал теорию, от которой "весь Энштейн летит на фиг", но при этом называет Энштейна французским биологом. После этого у вас не будет необходимости спорить с новой теорией и даже вникать в нее не потребуется. И так понятно, что человек, не знающий, кто такой Энштейн, ни как не мог его опровергнуть.
Дэн Браун – именно из таких "потрясателей устоев". Вот что он пишет: "Братство Приората Сиона было основано в Иерусалиме в 1099 году французским королем по имени Годфруа де Буйон" С прискорбием извещаем, что Годфруа Бульонский был не французским королем, лотарингским герцогом. В 1099 году во время первого крестового похода лотарингцы герцога Годфруа действительно участвовали в штурме Иерусалима, а вот король Франции в этом походе вообще не участвовал. К слову сказать, это сейчас Лотарингия – территория Франции, но тогда это была германская земля и лотарингцы говорили по-немецки.
А вот еще Браун пишет по поводу ареста тамплиеров: "Из Ватикана разослали свитки с секретным приказом об аресте". Между тем, приказ об аресте тамплиеров отдал не римский папа, король Франции Филипп, да и резиденция папы была тогда не в Ватикане, а в Авиньоне. Это же общеизвестные факты.
Этот список можно было бы продолжить, специалисты насчитали в романе Брауна более шестисот исторических ошибок, но и сказанного достаточно, чтобы понять: автор совершенно не знаком ни с историей крестовых походов, ни с историей ордена тамплиеров. Поверьте, речь тут идет не об исторических неточностях, а о полном незнании темы. Александра Дюма тоже обвиняли в искажении истории, но ведь он же не доходил до того, чтобы путать короля и кардинала. С официальной версией истории можно спорить, но для этого ее надо знать, а Браун пытается полемизировать с версией, которая ему вообще не знакома. Сколько удивительных открытий ожидали бы этого чудака, если бы он наконец открыл школьный учебник истории. Так что никакой новой версии известных событий он в принципе не мог предложить.
Все дело в том, что идею про "потомство Иисуса" Браун просто украл, на него и в суд подавали за плагиат. В 1982 году появилась книга "Святая Кровь и Святой Грааль", такая же бездоказательная, но к тому же еще и скучная. А Браун просто сделал из этой сухомятины увлекательный роман. Вот и все.
Авторы "Святой Крови…" тоже не сами придумали таинственный "Приорат Сиона". В 1956 году некий француз Пьер Плантар официально зарегистрировал организацию под таким названием. Плантар, нафантазировав всяких небылиц, назвал их "секретные досье" и даже издавать не стал, а просто отдал на хранение в Национальную библиотеку Франции. Там плантаровские фантазии обнаружили авторы "Святой Крови…", слепив из них книгу. Книга получилась откровенно антихристианская, хотя сам Плантар про свой "Приорат" написал в уставе, что он "исповедует традиционный католический закон". В 1984 году, после того, как его детище было использовано врагами Церкви, Плантар заявил о своем выходе из "Приората", с тех пор про эту организацию ни кто не слышал.
Современные мастера пиара лишний раз доказали, что раскрутить можно кого угодно: хоть Брауна, хоть дауна. Остается один вопрос: зачем? Кому-то именно сейчас потребовалось популяризировать ни сколько не оригинальную мысль: Иисус был обычным человеком. Последнее время на книжном рынке появилось великое множество прекрасно изданных книг, в основе имеющих именно это утверждение. Параллельно идет целая волна фильмов такого же идейного содержание. Все это производит впечателение единой, хорошо спланированной кампании.
К сожалению, в этот смысловой ряд попадает и наш "Мастер и Маргарита" – талантливый фильм, снятый по гениальному роману. В основе "Мастера…" та же установка, что и в основе "Кода…" – Иисус был всего лишь хорошим человеком. Конечно, по сравнению с Булгаковым, Браун вообще не писатель, но, но для заказчиков этой глобальной пиар-акции талант вообще не имеет значения.
Кому же надо раскручивать специфические религиозные установки чуть ли не в мировом масштабе? Кому польза от изменения чьих-то религиозных убеждений? Тем, для кого религия – не более, чем инструмент политики. Вот, к примеру, Збигнев Бжезинский, один из идеологов "холодной войны", говорил о том, что после крушения СССР их главным врагом является Православная Церковь. С какого бока? Да очень просто.
Люди, которых можно условно назвать глобалистами, хотят править миром. А если учесть, что большинство людей в мире исповедуют ту или иную религию, то для эффективного управления глобалистам надо создать универсальную религию, как синтез основных мировых религий. А для этого надо устранить из христианства одно единственное утверждение: "Иисус Христос – Сын Божий". И тогда христианство, сохранив форму, но утратив суть, будет легко монтироваться в любые идеологические схемы глобалистов. Вот для того-то и проводят промывку мозгов через массовую культуру, раскручивают Брауна и подобных.
Что можно противопоставить этим замыслам? Терпение и выдержку. Надо осознать, что для мирного сосуществования разным религиям вовсе ни к чему сливаться в некий безликий конгломерат. Православные, например, всегда помнили, что «палкой в рай не загоняют». А вот утверждение принципа «все религии одинаковые» скорее может посеять вражду. Ведь в «объединенную религию» хоть христиан, хоть мусульман можно будет загнать только палкой.
Раскрутка многочисленных «браунов» – это война за уничтожение души христианства. И не надо обольщаться, мы ее не остановим. Остается лишь не поддаваться на провокации. Ведь протестуя против триумфального шествия «браунов», мы еще больше их раскручиваем, они уже начинают себя гонимыми считать, им только этого и надо. С «браунами» нельзя бороться, как нельзя бороться с пустотой. Иначе пустота будет думать, что она существует.
Наследники Иуды
Очень люблю сенсации. Они такие забавные. Бывает познакомишься с каким-нибудь очередным «сенсационным открытием» и потом целый месяц можно обходиться без юмористов. С друзьями «сенсацию» на детальки разбираем, смеемся от души жизнеутверждающим здоровым смехом. Прекрасный отдых получается. Вот смотрю недавно в магазине книжечка продается, на ней написано: «Мировая сенсация! Евангелие от Иуды. Обнаружена единственная уцелевшая копия! Первая публикация на русском языке». Так, так, думаю… Цирк уехал – клоуны остались.
Выход «Иуды» на манеж был вполне предсказуем, за Дэном Брауном обязательно должен был кто-то последовать. Дурачок Браун был чрезвычайно уморителен, но уже наскучил. Больше не смешно. И вот началась раскрутка нового клоуна. Еще до появления в печати «Евангелия о Иуды» эта сенсация облетела все выпуски новостей со скоростью распространения дурного запаха. Давайте разберемся, в чем тут хохма.
Начнем с того, что в 2006 году в качестве сенсации преподносится древний папирус, обнаруженный в 1970-х годах. Тогда эта находка не вызвала ни какой сенсации, к реконструкции папируса приступили лишь в 2001 году. 30 лет внимания не обращали на эту находку и вдруг неожиданно перевозбудились: теперь, оказывается, можно совершенно по другому смотреть на евангельскую историю и реабилитировать самого Иуду. По-моему, уже смешно.