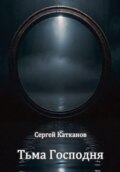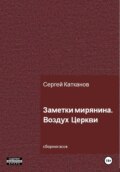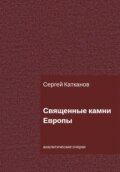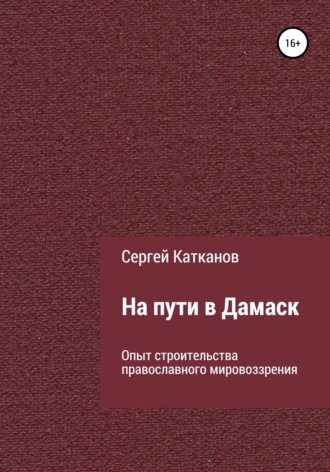
Сергей Юрьевич Катканов
На пути в Дамаск. Опыт строительства православного мировоззрения
Сегодня, спускаясь под землю и ужасаясь тем невероятно тяжелым условиям, в которых печерские преподобные бились с невидимой нечистью, мы пользуемся плодами их духовных побед, потому что, скопленная ими благодать Божия не растрачена и по сей день.
***
Маленькая подземная церковь в ближних пещерах, где на службе, так чтобы не мешать друг другу, могут стоять разве что человек 10-15, пробуждает в душе тихое чувство умиления вместе с почтительным трепетом. Она кажется подлинным чудом духовного строительства и, наверное, все величественные огромные соборы, снаружи обласканные лучами солнца, а изнутри сверкающие золотом и серебром склонили бы великолепие своих глав перед маленьким сумрачным домом молитвы, где ни что внешнее не отвлекает от беседы с Богом. Изнутри единственное украшение этого храма – простые и добротные кованые царские врата, а «снаружи» у этой церкви просто нет. Снаружи – «мать сыра земля».
На следующий день мы попали на молебен, который служили в этом подземном храме. Молитвенная жизнь, начало которой было положено здесь девять веков назад, продолжается и ныне. И язык богослужения – это все тот же язык печерских преподобных – церковнославянский. Это не музей, и нам отнюдь не предлагают прикоснуться к «седой старине». Нам дают возможность почувствовать себя вне времени, в потоке вечности, где мы одновременны со святыми всех веков. И они так же молятся с нами сейчас, как молились во времена земной жизни, стоя на службе в этой церковке. Для Бога нет прошлого и будущего, для Него все одновременно, и если мы с Богом, то и для нас тоже.
После молебна иеромонах помазывает богомольцев маслом из лампады, которая горит над мощами прп. Агапита, врача безмездного, а послушник сразу же после этого как бы примеривает на наши головы, не выпуская из рук, шапку преподобного Марка Гробокопателя. Это не экспонат, а святыня, и она так же принадлежит дню сегодняшнему, как и давно минувшим векам. Нас не одергивают: «Руками не трогать». Нам предлагают: «Прикоснитесь душою». Масло из лампады прп. Агапита пронизано благодатью, скопленной этим святым при жизни, и ныне исходящей от его святых мощей. Сколько невероятных подвигов совершил преподобный, чтобы скопить эту благодать, а нам говорят – берите просто так. Но… просто, да не совсем.
Монаха Агапита при жизни считали врачем, хотя он не был таковым в собственном смысле этого слова. В «Киево-Печерском патерике» о нем написано: «Когда кто-то заболевал от братии, преподобный оставлял свою келью и, приходя к болящему брату, служил ему во всем, непрестанно моля Бога о спасении болящего. Когда болезнь продолжалась долго и больной отчаивался, преподобный укреплял его своею молитвою, возбуждая в нем веру».
Приходившим к нему мирянам прп. Агапит давал зелья (травы) со своего стола, которые сам ел каждый день. Люди выздоравливали, полагая, что помогает зелье, и преподобный, исцеливший молитвою, избегал ненужной ему славы – он не хотел, чтобы его считали святым.
А преподобный Марк Гробокопатель имел в обители, казалось бы, довольно мрачное послушание – копал в пещерах новые ходы, подготавливая в них места для положения тел усопших иноков. «Он приял от Бога таково чудотворение, что и мертвые слушались голоса его, что засвидетельствовано многими знамениями».
Когда однажды прп. Марк не успел подготовить достаточное место для очередного покойника, братия, видя, что «место тесно» стали укорять Марка за нерадивость, а он ответил: «Простите меня, отцы, по немощи не докончил дело». Они же еще больше стали укорять его. Тогда преподобный сказал мертвому: «Так как место тесно, подвигнись, брате, сам возлей елей на себя». (Это положено по иноческому обычаю). Мертвый протянул руку, наклонившись немного и взявши елей, возлил на себя крестообразно. И, возвратив сосуд, «сам перед всеми успе». При виде этого чуда братия пришла в ужас и трепет.
И как не трепетать ныне, прикладываясь к мощам преподобного Марка. А железную шапку его послушник, одевая нам на головы, не даром не выпускает из рук – нам бы ее и секунды на себе не сносить.
***
В начале ХХ века протоиерей А.Титов, составивший путеводитель по Киево-Печерской лавре, писал: «Лаврские пещеры устроены настолько таинственно, разнообразно и сложно, что человеку, не знакомому с их расположением, весьма трудно найти выход из них без опытного проводника».
Раньше посетителей пещер сопровождал монах, рассказывавший о подвигах печерских преподобных, потом, в безбожные годы – экскурсовод, сообщавший, как «монахи народ дурили" Ныне и паломники, и любопытствующие ходят по пещерам одни, некоторые подземные ходы перекрыты, что заметно упрощает лабиринт, устраняя опасность заблудиться. Это одинокое хождение имеет большой смысл, другие посетители либо обгоняют, либо отстают, и человек остается наедине с угодниками, в нерассеянной тишине и полумраке. Атмосфера очень молитвенная. Если ходить здесь, как по музею или некрополю, то может быть страшно – эта атмосфера покажется вам весьма зловещей. Но православная уверенность в том, что мы – среди живых устраняет жутковатые могильные ассоциации.
У некоторых мощей поверх парчевого облачения лежат кисти рук – высохшие, коричневые и все-таки живые. Было время, когда богомольцы прикладывались к ним непосредственно, сейчас между ними – стекло, но это справедливо – мы теперь сами духовно удалились от угодников, не имея уже права припадать к их рукам.
А вот в1463 году, когда монастырь уже более, чем двумя столетиями был отделен от новоначальной обители, печерские иноки имели живое чувство вечности, которое подсказывало душе – ни время, ни пространство не отделяет от святых, только грехами нашими мы разлучаем себя с ними. Патерик повествует: «Священноинок Дионисий в день светлого праздника Христова вошел в пещеру преподобного Антония, покадить тела умерших святых. Придя на место, называемое трапезной, Дионисий, покадивши, сказал: «Святые отцы и братья! Сегодняшний день есть день великий: Христос воскресе! И тот час ответил ему голос от всех телес, как гром прогремевший: «Воистину воскресе!»
Как трудно нам ныне просто взять и поверить, что это так и было. Нужны, дескать, доказательства, а их нет. Но ведь любые доказательства можно подделать и даже гениальные ученые порою горькоплачевно заблуждаются. Не солжет лишь внутреннее, совершенно живое и очень ясное ощущение принадлежности к Церкви Христовой, где все, кто с Богом, живы и все вместе. Но это живое ощущение может дать только личный духовный опыт, а он в свою очередь обретается в борьбе со своими грехами. Нам же, рабам страстей, как духовным инвалидом, требуются костыли науки. И честная наука тоже не молчит.
В 1992 году были опубликованы результаты научных исследований, связанных с мощами киевских угодников: «С применением новейшей аппаратуры удалось установить, что мощи святых излучают биополе с длиной волны здоровой клетки… Интенсивность размножения болезнетворных микробов вблизи мощей снижалась в 6-10 раз, а особенно патогенные для человека формы микроорганизмов погибали полностью… Можно предположить, что при жизни святые, находясь в постоянной молитве, получали непрестанный поток энергии Божией благодати, которая, воздействуя на них, производила трансмутацию ядер атомов, изменяла химический состав, преобразовывала структуру организма на всех уровнях…, что почти тысячелетняя сохранность останков обусловлена… особой структурой материи организма. Более того, постоянное прижизненное пребывание в потоке Божественной энергии настолько могло преобразить атомы телесного вещества, что они и после смерти организма оставались постоянным ретранслятором энергии высших вибраций Святого Духа, которая воздействует на все окружающее».
***
Мы вышли из мрака и прохлады ближних пещер под палящие лучи апрельского киевского полдня. В душе ровно стояла мирная тишина святого места – сколько смог вынести с собой. Было понятно, что через какие-то минуты пещеры превратятся в воспоминание, и мы с привычным удовольствием окунемся в жаркую и яркую суету наземного мира. Но пока еще немощная душа пыталась удержать в себе остаточный покой пещер. Мы присели на скамейку, не торопясь навстречу новым впечатлениям.
Но вот мимо пронеслась бодрая дама, через плечо не довольно бросив отставшим от нее мужчинам: «Какие там пещеры, вы что, у нас времени совсем нет». Вот со стороны соседней скамейки донеслись слова вяло плавящихся на жаре и, по-видимому, изнывающих от скуки молодых людей: «А может в пещеры пойдем? Там прохладно…» Дальше собирать подобные впечатления не хотелось.
Мы спустились по ступенькам в овраг между ближними и дальними пещерами, к источнику преподобного Феодосия. Издалека виднелась только красивая башенка над ним, а вблизи это оказался обычный русский колодец. Оцинкованное ведро на стальной цепи, ворот с ручкой. Когда-то в вологодских деревнях такие колодцы были для меня повседневностью. Стало радостно от того, что святой источник преподобного Феодосия – это наш простой русский колодец. Я энергично выкрутил ведро воды, налил стаканчики быстро собравшихся бабушек и наполнил на дорогу бутылку.
Святая Русь – не всегда и не везде святая, но всегда и везде – Русь.
***
Говорят, что в глубоких колодцах даже днем отражаются звезды. Это, наверное, так и есть, а Феодосиев колодец – очень глубокий, но, бросая ведро, я не видел отражения звезд, очевидно для этого надо иметь особым образом настроенное зрение. Так же множество ярких звезд – угодников Божиих, что сияют ныне на небесах, в сумрачных пещерах нелегко «увидеть», то есть приблизиться к ним душой, ощутить их блеск и величие – тут тоже надо иметь хотя бы начатки особого духовного зрения.
Из оврага, где находится колодец, смотрю на могучую крепостную стену, одевшую холм, в котором изрыты ближние пещеры. Стена, весьма высокая, слегка наклоненная внутрь, словно прильнувшая к холму, производит впечатление незыблемой твердыни. Это видимое, легко ощутимое величие бросается в глаза. Между тем, соборная дружина духовных богатырей совершила здесь свои подвиги во имя Бога и Отечества, когда ни чего похожего на эти величественные укрепления здесь и близко не было. И разрушить эти стены для новых «батыев» – задача одного дня, а святые угодники пребудут во веки, даже если в прах сотрется вся планета. У Бога они вечно живы, но… живы ли мы сами? Мы, в отличие от печерских преподобных, живы телом, но не мертвы ли душою, опять же в отличие от них? Во всяком случае, «омертвение обширных участков духовных покровов» с болью приходится констатировать.
Мы перешли в дальние пещеры, зная, что там, в подземном храме должны служить молебен, после которого будет помазание миром от мироточивых глав. Эти святые главы (по-нашему говоря – черепа) принадлежат безвестным угодникам печерским. Хранящиеся в серебряных или стеклянных сосудах, главы иногда источают святое миро. Патерик повествует: «Как елей помазывает на царство, дает свет светильникам, исцеляет больных, так по свидетельству Божию через это чудо и угодники, коих главы источают миро, получили Царство Небесное… Ни кому не известно, каким святым принадлежат мироточивые главы… Не только их житие, но даже имена из-за различных нестроений и войн сокрыты и остались неизвестны для нас…»
По внешним меркам «мертвая голова» – жутковатый символ, их особое хранение и почитание может показаться чем-то мрачным и страшным. Но православие не знает безбожного ужаса перед смертью, и все, что связано с прекращением земного существования святых имеет светлое, даже радостное звучание.
Мироточивые главы «заявили о себе» в год тысячелетия крещения Руси. Владыка Ионафан, бывший одним из первых насельников возобновленной Киево-Печерской лавры, когда в 1988 году дальние пещеры передали Русской Православной Церкви, стал свидетелем возобновившегося мироточения глав: «Однажды в конце лета 1988 года прибегает ко мне послушник, который следил за порядком в пещерах и ухаживал за главами и говорит, что в стеклянном сосуде потемнела одна глава (до этого они все были пепельного цвета) приобрела шоколадный оттенок, и в сосуде появилась какая-то вода… Пошли туда, открываю крышку этого сосуда, смотрю: там действительно жидкость, а меня сразу же окутал сильнейший аромат… Какая-то комбинация запахов, похожая на грушевый, цвета яблони и еще что-то такое, присущее только мощам. Я позвал архимадрита Игоря, который помнил еще, как мироточили главы после войны, он пришел, взглянул на этот сосуд и тут же, не раздумывая, сказал: "Это миро".
Последний раз до сегодняшних событий мироточение глав происходило в 1942 году, после открытия немцами монастыря. Оно прекратилось за 2 года до закрытия монастыря Хрущевым в 1961 году, и до 1988 года истечение миро прекратилось совсем. Так же перед закрытием лавры в 1922 году мироточение прекратилось. В настоящее время (1993 г.) обильного мироточения уже нет, лишь основания глав влажные, а маслянистая поверхность на блюде со столовую ложку… Костная ткань этой главы исчезает, превращается в миро… Поверхность глав будто подтаяла, их структура стала пористой.
Скоро у нас в лавре появились ученые. Они засвидетельствовали сам факт феномена. Затем взяли на исследование само миро, с тем, чтобы посмотреть не оливковое ли это масло, или другой известный науке состав… Они выяснили, что это очень сложные масла с присутствием белка. И когда я спросил у них: "Как вы сумеете объяснить, как и откуда оно берется?" Ответа не последовало."
***
Молебен начался общим воодушевлением. Десятка два богомольцев теснились в маленькой церковке, внутреннее, видимо, ощущая всю возвышенность такого почти первохристианского моления, и петь сразу начали все, как бы единым духом, но вскоре почувствовав, что это разноголосие только разрушает стройность церковных напевов, большинство оставило свои попытки влиться в общий хор, теперь уже только слушая тропари преподобным дальних пещер:
"Чистого ради и непорочного твоего жития, богоносне отче Игнатие, приемый от Господа чудотворные дары исцелять немощныя, исцели, молим тя, и немощи наша, моля о нас Единого Человеколюбца".
Но вот посреди торжественного богослужения в душу вдруг впились самые тяжелые и неприятные воспоминания последнего времени. И они не просто нахлынули, они требовали ответов на связанные с ними вопросы именно сейчас, немедленно, как будто для этого не было другого времени.
"Блага небесные ради дел твоих стяжавый, благости тезоимените Агафоне, моли благого Господа, молим тя тепле, яко да не лишит нас вечных благ Своих".
Вдруг особенно остро почувствовалась усталость в ногах. Пятки тупо и тоскливо ныли. Стараясь перенести тяжесть тела на носки, я опять отвлекаю себя этими упражнениями от молитвы.
"Преподобне отче Зиноне, преподобне и честне житие твое на земли препроводивый и тем Богови по премногу благоугодивый, моли о нас, чтущих память твою".
Отгоняю от себя душевную муть, стараюсь забыть о ногах, но получается неважно. Так молебен в моем восприятии был раздерган, растащен, расхищен. Известно, что дар нерассеянной чистой молитвы имеют лишь святые, и они, печерские иноки, для того и спускались в пещеры, чтобы этот дар приобрести и находиться в непрерывном общении с Богом. Нам куда до них, но все-таки можно было поменьше отвлекаться – запоздало укоряю себя. А предстояло самое главное.
Иеромонах начал помазывать богомольцев нерукотворным миром, которое источают священные главы. Ум трепетал от сознания величия и значимости того, что должно было произойти, ум вопил о своем недостоинстве столь ощутимо прикоснуться к Вечности. Душа, обремененная мирскими попечениями, безмолствовала. И, может быть, Господь еще приведет, хотя бы по прошествии времени, ощутить на себе неизреченную благодать этого великого помазания. Благодать, скопленную киево-печерскими угодниками в подвигах, превосходящих человеческое разумение.
***
Горело на солнце золото куполов обширной лавры, лежал внизу, под монастырскими горами, подобный морю Днепр. Душа после духовного напряжения пещер мягко и плавно разворачивалась в светлом, теплом, ласковом просторе. Душе казалось, что она у себя дома, в мире поющем птичьими голосами. Но память о тесных, темных, холодных пещерах неотступно напоминала о том, что выше зримого – невидимое и паче солнечного – свет, просиявший во мраке.
1996 г.
Высокая земля
В шестом часу утра трехпалубный пассажирский теплоход "Родина" был окружен бескрайней водной равниной Ладожского озера – отовсюду взгляд встречал только волны, которые сливались с небом. Кто бы поверил, что мы не в море. Стоял штиль, кричали чайки, волны, как и положено, бежали от винта за кормой. "Родина" шла курсом на Валаамский архипелаг.
Название этих островов можно понимать, как угодно. Иногда его связывают с именем библейского пророка Валаама, под которым неожиданно заговорила ослица. Более распространен перевод "Земля Ваала". Этому языческому богу в древности здесь совершали жертвоприношения. Другая версия возводит название архипелага к финскому слову "Валамо", что означает "высота", "высокая земля".
Высшие точки некоторых островов (вокруг коренного, главного их около полусотни) возвышаются над горизонтом воды до 50 метров. А глубина вод у самых берегов порою превышает 200 метров. Воистину – высокая земля – одномоментный выплеск магмы в расщелину земной коры. Так история Валаама восходит к первым дням творения.
Ровно в 6 часов утра, минута в минуту, среди водного безмолвия на корме "Родины" был поднят государственный флаг России. Его молча закрепил молодой матрос, одетый, кстати, не по форме. Судовой устав не требует помпезности, но предполагает абсолютную точность. Так же, к слову, строги, неумолимы, максимально целесообразны монастырские уставы. Это сравнение естественно у водного порога тысячелетней колыбели монашества – северного Афона – легендарного Валаама.
В восьмом часу прямо по курсу горизонт омрачился полоской тумана. Вскоре начали угадываться очертания острова. Заговорило судовое радио, возвестившее прибытие в Никонову бухту Валаама в 8.00 и завтрак в 9.00, а затем экскурсию. Неприятно пораженные перспективой потерять больше часа, мы решили обойтись без завтрака и сразу же, как причалим, рвануть в монастырь, к службе, для чего экскурсовод совсем не нужен. Но вот огромная "Родина" зашла в небольшую уютную бухту и замерла у пирса. Наши планы разбились о глухую стену прибрежного ельника. Рисовавшийся в воображении красавец-монастырь, стоящий на горе и видимый с любой точки острова, так в мечтах и остался. А на лесных тропинках нужен проводник. К тому же, как выяснилось, пристали мы довольно далеко от монастырской бухты. Оставалось покорно ждать завтрака, а затем – экскурсовода. Хочется предостеречь всех православных, стремящихся на Валаам. Если человек прибыл сюда по туристической путевке, он не сможет вдруг по своему желанию стать паломником. Он обречен остаться туристом.
***
Под звуки отработанного и плавного повествования экскурсовода мы поднимались на сопки и обозревали бухты, лежащие далеко внизу, смотрели на деревянные часовни – память о некогда действовавших монастырских скитах. Потом от изогнутых ветром елей на скалах спускались к лесным озерам, к ласково шумящим дубам и кленам, к поросшим мхом каменным фундаментам монастырских построек. Не будем даже пытаться описывать, насколько красива природа Валаама, это надо делать художникам. Но, глядя вокруг туристическими глазами и не желая все-таки изгонять из себя внутреннего паломника, мы постепенно начинали чувствовать (а не только понимать), что святыня – это весь Валаам, все эти благодатные 34 квадратных километра насквозь промоленой за века земли. Здесь имеют Божие благословение каждый камень, каждое дерево, каждая волна. Но, опомнившись от первого впечатления, которое производит поражающая сознание красота, надо перестать стрелять глазами, надо зафиксировать взгляд в одной точке и долго не отрывать.
Хорошо встать на колени перед кустиком спелой земляники и не торопясь поклониться ему. Потом в безветренную погоду сесть на камень и погрузить на часок взгляд в прозрачную толщу прибрежной воды. Хорошо, пока не занемеет шея, смотреть, стоя рядом с волнами, на вершины елей, растущих на скале, на другом берегу бухты. Чтобы войти в зрительное, видимое пространство осязаемого Валаама, по нашим прикидкам потребуется около месяца. Чтобы войти в сакральное пространство духовного Валаама потребуются многие годы. Впрочем, Господь не без милости и нам, осуетившимся, позволяет иногда взглядом скользнуть вдоль Валаама духовного для того, чтобы мы знали – он существует.
Входим в ворота Воскресенского скита, не действующего, но отреставрированного. Он – ближайший к Никоновой бухте, где пристала "Родина". Постройки из красного кирпича, обнесенные такою же стеною, обращают внимание своим лаконичным, рациональным числом – храм, дом скитоначальника, братский и хозяйственный корпуса. Больше ни чего нет. Потому что больше ни чего не надо.
Экскурсовод, как бы между делом, рассказывая про храм, говорит, что он поставлен на месте, где по легенде апостол Андрей Первозванный, якобы побывавший на Валааме, поставил каменный крест. Я, было, отвлекся, рассматривая монастырские постройки, когда периферийным слухом уловил эти слова. Тут же бросился к экскурсоводу: "Это так, я не ослышался?" Да, говорит, это именно так.
Давайте оставим извинительные слова "по легенде", "согласно преданию" и "якобы" для безбожников. Мы входим в духовное пространство, где достоверность фактов измеряется не псевдоточными доказательствами так называемой объективной науки, нахально претендующей на монополию в постижении истины. В духовном мире истинно то, что продиктовано ощущением истины, открывшейся вдруг, сразу и целиком. Десять институтов в ста томах не смогут опровергнуть то, что постигается православным подвижником через молитвенный опыт. Подтвердить – могут, но потребуется уже сто институтов и тысяча томов, а успех – проблематичен. И если через Богообщение монаху открывается истина, он уже знает, чему надо верить. А на вопрос "почему?", он ни чего не ответит.
***
"Полный православный энциклопедический словарь" сообщает: "Житие апостола Андрея составлено в VIII веке, но оно не относится к достоверным источникам". Над этими грустными словами мы развели руками. А недостоверные источники приписывают святому апостолу путешествие по Скифии и Черному морю, включая Крым. Некоторые источники повествуют о том, что он доходил до земель Новгородских. А из монастырского предания узнаем, что "следуя из пределов Новгородских, апостол с сопровождавшими учениками пристали в заливах Никоновских. Св. Андрей осенил горы Валаамские каменным крестом".
На духовном пространстве Валаама пребывание здесь святого апостола – истина, не требующая доказательств и не подлежащая сомнению. Не надо долго бежать вдоль параллельных прямых для того, чтобы выяснить – они ни когда не пересекутся. Держу в руках фотоальбом "Валаам", на первой странице которого красиво написано четверостишие. Во всем издании нет даже намека на его авторство. Ну значит нет и не надо, а стихи такие:
…И прими, как дар благоуханный
Благодать священных этих мест,
Где Андрей, Апостол Первозванный
сам воздвиг когда-то первый крест.
В верхней части храма, воздвигнутого на месте первого креста – выбеленные голые стены. Здесь проходят концерты духовной музыки. Мы сидим на скамеечке посреди церкви, вяло упрекая себя за бесчинство и оправдываясь тем, что пришли на концерт, а не на богослужение. Перед нами стоят четверо мужчин разного возраста, они – в черных рубашках, подпоясанных веревочками. Тщедушный певчий начинает, и все храмовое пространство заполняет Русь исконная – звучат знаменные распевы Валаамского монастыря. Они были расшифрованы со старинных крюковых нот, составленных много веков назад клиросными монахами. Так пел Валаам тогда. Так поет он сейчас. Над местом первого апостольского креста.
Тщедушный певчий вытягивается, весь выходя в голос, черная рубашка на нем обвисает, жиденькая бороденка задирается. Он весь в распеве и я, кажется, уже вместе с ним. И вот взгляд упал на огромного негра, который тоже слушает пение. На его широком черном лице лежит печать понимания. Очевидно, такая же печать лежала бы на моем лице, если бы я смотрел на африканские пляски.
А подклет этого храма чист и прибран, но не отреставрирован. Стены небеленые, обшарпанные. Вечером мы нашли время побыть здесь в одиночестве, благо двери стояли нараспашку. Тишина и сумрак. Под ногами – камень плит. Под плитами – скала. Та самая, на которой стоял Первозванный Апостол. Это – "точка ноль" духовного пространства Валаама. Более того – это "точка ноль" духовного пространства Святой Руси. Отсюда наша вера. Отсюда мы. Редко духовный и материальный миры столь ощутимо пересекаются в одной точке. Это надо постараться вместить в себя. Здесь надо побыть одному, а не с толпой туристов. Иначе вы не увидите ни чего, кроме обшарпанного подвала.
***
Экскурсия по местам расположения бывших скитов закончена. Около полудня мы возвращаемся к пристани, так и не побывав в действующем Спасо-Преображенском монастыре. Нам обещано, что в 16 часов нас туда отвезет небольшой теплоход "Игумен Дамаскин". Времени в избытке, и мы неторопливо плетемся к ожидающему нас на "Родине" обеду. И тут меня посетила самая счастливая за всю поездку мысль – спросить у освободившегося от трудов экскурсовода, есть ли до монастыря пеший путь. Выяснилось, что дорога есть, и это всего 5 километров от пристани. Более того, мы по ней и шли, только в обратном направлении.
Больше нам ни чего не надо было знать. Без обеда сможем обойтись? Вполне. Пять верст туда, да пять обратно – реально? В Божьей помощью. Через несколько минут мы уже шагали по дороге к монастырю, имея пустые желудки и ни с чем не сравнимое ощущение внутренней свободы.
Еще довольно твердо держась на ногах после отмеренных с утра десяти верст, мы подходили к обители. Преодолев на едином дыхании каменные ступени, ведущие в гору, встали и отдышались. Перед нами было то, что вполне можно было считать входом в монастырь. Не торопились. Подошли сначала к часовне с иконой Божией Матери в киоте. Перекрестились и поклонились. Теперь можно войти. И тут началось нечто ирреальное.
Шли между двухэтажным и трехэтажным корпусами, думая, что это какая-то монастырская периферия. Потом был тупик и мы пошли обратно. Сменили направление, но вокруг тянулись все те же корпуса. Потом снова вышли к каменной лестнице, по которой поднялись к монастырю и растерянно посмотрели друг на друга. Кажется, мы увидели все, что можно было увидеть.
Это было сущей правдой. Спасо-Преображенский монастырь – не монастырь-крепость, к которым мы больше привыкли. Это огромный жилой корпус, поставленный прямоугольником. В него вложен меньший прямоугольник – тоже жилой корпус. В него в свою очередь вложен огромный собор. Пустоты между ними, извилистые и незначительные – это все, что мы видели, и все, что можно увидеть в первого наскока.
В соборе, где покоятся мощи преподобных Сергия и Германа Валаамских, идет ремонт, туристов не пускают. На службе можно побывать лишь в надвратной церкви во имя святых апостолов Петра и Павла. Расписание богослужений доступно всеобщему обозрению, но, глянув на него, мы первоначально были сбиты с толку двумя соседними графами – "монастырское время" – "московское время". Разница между ними была в 2 часа. Позднее выяснилось, что монастырь живет по "царскому времени", эта традиция сохранилась с начала ХХ века. Временной разрыв лишний раз подчеркивает существование на острове двух реальностей – туристической и монастырской.
Ежедневно огромные пассажирские лайнеры выплевывают на остров сотни и тысячи туристов. Многие из них настолько подготовлены ко встрече с Валаамом, что даже спрашивают: "А какая здесь религия?" Весьма значительная часть пришельцев имеет очень простую цель – выпить на природе. Все это могло бы вдребезги разбить монашеский уклад жизни, если бы монастырь не уподоблялся попеременно то ежу, то черепахе, то бобру.
Суда пристают в Никоновой бухте, а не в монастырской. Так проходит первый уровень отсева – более половины туристов до монастыря просто не добираются. Тех же, кто приходит сюда, у дверей собора встречают иглы ежа – вход закрыт.
Жилья своего монастырю не спрятать, туристы при желании могут даже потрогать его руками, как панцирь черепахи, но живого тела монашеской общины вы не увидите. Мелькнут два-три черных подрясника и все. Черепаха в своем домике гостей не принимает, нелепо ее в этом упрекать, она так устроена.
Третий способ, которым монастырь оберегает свое уединение – это способ бобра, который прячет вход в свою хатку в воде. Ныне возрождаются три скита, которые расположены на маленьких островах. Туда туристам доступ закрыт – вода бережет уединение монахов. В Предтеченский скит доступ даже паломникам-мужчинам открывается только с благословения игумена, а для женщин доступ сюда закрыт полностью.
Мы не стали колоть себе руки об иглы ежа, попереминались с ноги на ногу у входа в домик черепахи, а где прячутся за водной гладью ходы к бобровым хаткам, даже не любопытствовали. Грубым нахрапом не проникнуть в чужой мир. В этот мир пришедшие жить на Валаам входят годами.
А на обратной дороге нас вознаградила за утомление пути и за пропущенный обед удивительно крупная и спелая земляника на обочине. Горсть красных ягод не могла, конечно, поддержать тело, но порадовала душу. Воистину, святыня – это весь Валаам.
***
Так мы и не поклонились мощам преподобных Сергия и Германа Валаамских. Если будет на то Божья воля, мы вернемся на Валаам паломниками и тогда, хочется верить, нам откроется доступ к месту упокоения святых основателей Валаамского монастыря. А пока постараемся узнать о них как можно больше. Но… Валаам в очередной раз ускользает. Это его уникальное свойство. Приплыл на остров, а монастырь – словно невидимый град Китеж. Пришел в монастырь – и опять ни чего не увидел. Взял в руки книги, все прочитал и ни чего не узнал.
Вот несколько цитат из самых разнообразных печатных изданий:
"Еще до крещения Руси, в Х веке, пришли на остров основатели обители – преподобные Сергий и Герман, Валаамские чудотворцы".
"Монастырь основан приблизительно в XII веке преподобными Сергием и Германом".
"Валаамский монастырь со времени его основания в XIV веке преподобными Сергием и Германом…"
Итак, три различных источника, и не как версию, а однозначно утвердительно, относят время жизни преподобных последовательно к X, XII, XIV векам. Это данные "объективной исторической науки", позволившей себе разбег в четыре века.