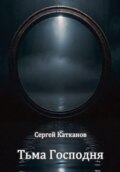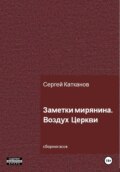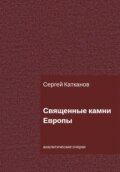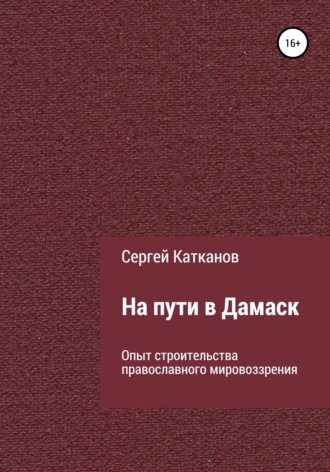
Сергей Юрьевич Катканов
На пути в Дамаск. Опыт строительства православного мировоззрения
Регулярно мы выгребали горы золота. Один раз, например, изъяли три фляги золота в ювелирных изделиях, каждая – по 36 кг. Мне дали премию – 75 рублей. Но мы занимались бессмысленными делами, мы ни чего не добились и не могли добиться. За самую незначительную должность в Узбекистане надо было платить, существовали твердые расценки. Так вот вскоре мне рассказали, что за должность, которая еще вчера стоила 50 тысяч, сегодня уже требуют сотню. Мы кое-кого перепугали, а потому местные дельцы ввели двойные тарифы с учетом риска. Вот и весь итог наших трудов.
После Узбекистана я полностью разочаровался в том, во что верил – в государстве. Тогда я ощутил, что выше меня ни кого и ни чего нет. Я – это все. Если нет Бога, значит я – бог.
Так резюмирует Шараевский свою узбекскую эпопею длиною в год. Крушение личности, которое он там пережил, и привело его в конечном итоге на "пятак". Но неужели тяжелые разочарования непременно должны сделать человека убийцей? Нет, конечно. Есть, однако, особая порода людей. Они ищут высшего смысла, и если его не обретают, тогда превращаются в бешеных волков. Они режут стадо не потому что "кушать хочется", а потому что "плевать на все". Из таких людей порою получаются монахи. Самые ревностные монахи. Или разбойники. Самые лютые разбойники.
***
В.Н. Шараевский, вспоминая про работу следственной бригады в Узбекистане, говорит: "Оттуда нельзя было уехать бедным". Но его самого азиатский "клондайк" не обогатил. Он скорее научился смотреть на золото, как на дерьмо.
Его много раз приглашали работать в прокуратуру области, в прокуратуру СССР, но он отказался. "Только скажи "да" и ты в Москве. А что дальше? Мне ни чего не надо было. Даже от должности районного прокурора я год отказывался, хотя согласился в конечном итоге".
Вот мужик… По всем приметам он сейчас уже должен бы олигархов на допросы вызывать в свой московский кабинет, а он в камере пожизненников сидит. Что же все-таки случилось? Шараевский рассказывает:
– Не только в Узбекистане, но и у себя в Смоленской области я видел очень много богатых людей, когда расследовал дело о хищениях на бриллиантовой фабрике. Один, например, любил демонстративно перед постом ГАИ мыть свою машину шампанским. Другой похвалялся, что завтракает в "Седьмом небе", а ужинает в "Ласточкином гнезде". Множеству смоленских и узбекских боссов я задавал один и тот же вопрос: "А что вы хотели в конечном итоге? К чему стремились?" Они начинали рассказывать про море изысканных удовольствий, но всегда проговаривались. Глаза у них загорались только когда рассказывали, как, например, дергали морковку у себя на даче или ходили босиком по траве. Они шли по трупам в гору, но уже начинали спускаться на другую сторону горы, обратно к подножию. Я это прекрасно понял, и тогда зачем мне было в гору корячиться? Я мог ходить босиком по траве, не имея ни высоких должностей, ни больших денег.
Этот мудрый взгляд на вещи можно и в книжке вычитать, но Шараевский его не вычитал, а выстрадал. И все-таки его трудно понять. Ведь, когда зеленая трава – превыше всего, в душе мир. А у него не было мира в душе. Я не выдерживаю и перебиваю его:
– Так почему же вам нельзя было остановиться в этой точке своего понимания жизни?
– Так и было бы, если бы не было дьявола.
– Но дьяволу надо еще руку протянуть.
– Достаточно просто молчать.
Молчать? До чего же по-разному можно молчать. Мне показалось, что я почувствовал, как жутко молчал тогда Шараевский перед лицом дьявольских искушений. Каких искушений? В беседе со мной Вячеслав Николаевич так же проговорился, как и те, кого он в свое время допрашивал. Он вспомнил эпизод из своего постузбекского прокурорства:
– Я должен был арестовать одну молоденькую продавщицу за недостачу в две с половиной тысячи рублей. А в Узбекистане я акты на сто тысяч оставлял без последствий. Этой девчонке грозило 8 лет, между тем, ее достаточно было просто выпороть. Тогда я резко послал всех подальше и продавщицу привлекать не стал.
– Вы, кажется, очень сильно рисковали?
– А чего мне было бояться? Я был другом Гдляна, я видел, как мое начальство вставало навытяжку перед одной только его фамилией. Мне ни кто не мог препятствовать. Я считал, что имею право на все и был о себе высочайшего мнения.
Ну вот и добрались до сути, подумал я, услышав это откровение. Он весьма успешно отогнал от себя бесов корыстолюбия и дешевых низменных удовольствий. Но он впустил в свою душу беса высокомерия и гордыни. А этот будет покруче двух предыдущих. Девчонку он пожалел? Может быть и пожалел, но на первом месте было, кажется, удовольствие от того, чтобы всех послать. Должности ему не нужны были? Ну еще бы. Когда майоры тянутся перед капитаном, последнему совершенно ни к чему стремиться в полковники. Одержимость бесом гордыни – самая страшная форма одержимости.
Неожиданно Шараевский задает вопрос: "Как человек становится убийцей?" Мне показалось, что он уже ответил, но все-таки интересно, что тут еще можно добавить. Он продолжает:
– Мы всегда стараемся поставить себя на место тех людей, с которыми общаемся, а я общался с преступниками. Я старался влезть в их шкуру и эта шкура постепенно приросла к моей душе. Я видел и анализировал все ошибки преступников, мысленно эти ошибки исправлял, мысленно убивал и грабил. Я думал тогда, что это всего лишь профессиональная тренировка, но постепенно вышел за допустимые рамки и тогда возник вопрос: "А я смог бы?" Я всегда считал себя сильным человеком. Я внутренне согласился на совершение убийства.
Так значит речь тут идет всего лишь о профессиональном заболевании? Нет, это не то. Ну, может быть, и не без этого, но главное в другом. Его сделала убийцей гордыня помноженная на отчаяние. Это жуткая смесь. Он не только золото начал считать дерьмом, он всех людей начал дерьмом считать. Жизнь ничтожеств перестала для него что-то значить. И тут вылез вместе с рогами проклятый вопрос Родиона Раскольникова: "Тварь я дрожащая или право имею?" Впрочем, Шараевский вспоминает слова Смердякова: "Если Бога нет, то все позволено". Вот тебе, бабушка, и Достоевский.
Нет, им отнюдь не двигало тогда желание совершить для примера безупречное преступление. Ведь преступление-то его было как раз совершенно не спланированным и непродуманным. Даже не сильно умный преступник организовал бы преступление куда лучше. Это была отнюдь не хладнокровно проведенная акция, а самая настоящая истерика.
***
Был чудный пикник на зеленой траве. На той самой траве, которую он выше всего в жизни ценил и до которой ему теперь далеко, как до звезд. Отдыхали четверо: прокурор Шараевский с младшим братом и две дамы, бухгалтер и кассир, возвращавшиеся из банка и имевшие при себе тысяч тридцать. Дамы чувствовали себя в безопасности рядом с прокурором района. Ни кто не собирался умирать и убивать тоже ни кто не собирался.
Это не было продуманное спланированное убийство. Шараевский с его следственным опытом при желании мог организовать дело так, что комар носа не подточил бы. Но они всего лишь перекинулись с братом несколькими словами, после чего было уже трудно отступать:
– Я был для брата непререкаемым авторитетом, он сразу же согласился, и я обязан был оставаться в его глазах сильным человеком. С одной из женщин мы отошли в сторону, я уже держал нож наготове и… не смог. Почувствовал, что это не мое. А брат на меня смотрит и видит, что я слабак. Мы уже попрощались с женщинами, сели в машину и поехали. Вдруг я услышал внутри себя мощный голос: "Стоять!" Я резко развернулся, и мы поехали обратно.
Я убил одну женщину, брат – другую. Мне казалось, что все это делаю не я, что все это не со мной происходит. Когда потом впервые услышал слово "сатана", то всего лишь узнал имя, я уже был с ним знаком.
Преступлению Шараевского приписали корыстный мотив, но это нелепость. Очень ему нужны были эти несчастные 30 тысяч, когда он мог поиметь в десять раз больше, ни кого не убивая и ни чем не рискуя. У него могли быть личные мотивы, помимо корыстных? Да, могли быть, но и это ни чего не объясняет. Любые проблемы он вполне был в силах разрешить без преступления. Ему доставило удовольствие убить? Но он испытал лишь ужас, по природе своей он не убийца. Может быть, он был пьян? Шараевский ни когда в жизни не пил.
Вопрос о мотивах преступления остается совершенно без ответа. Вероятнее всего, Шараевский сам много лет не мог ответить себе на вопрос, зачем же он все-таки совершил это абсурдное убийство? Отсюда он так часто поминает дьявола как главного виновника своих бед. Ведь если у человека нет мотива, значит он был у «внутреннего голоса»? Поверьте, это не шизофрения, Шараевский – человек с очень крепкой и устойчивой психикой без намека на признаки болезненной экзальтации. Это даже не попытка переложить свою вину на потусторонние силы. Он вполне осознает себя преступником и не снимает с себя ответственности.
Участие в преступлении хвостато-рогатого деятеля по моему личному убеждению – правда, но это лишь половина правды. Для того, чтобы дьявол принял прямое и непосредственное участие в нашей жизни не надо подписывать ни каких договоров и даже устное соглашение не требуется. Шараевский говорил: «Достаточно просто молчать». Да тут вообще не важно, молчишь ты или нет. Лукавый начинает действовать в нас лишь тогда, когда мы ему уподобляемся, и лишь в той степени, в которой мы ему уподобляемся, а беспредельная гордыня – это уже уподобление дьяволу.
Если спросить, зачем Шараевский убил, то ответа не будет, потому что вопрос поставлен неверно. Однако, вполне можно ответить на вопрос почему он убил. Потому что его тотально опустошенная душа очень быстро наполнилась высокомерием и гордыней. И тогда самые зверские фантазии начали требовать немедленного исполнения просто потому, что «я так хочу».
***
И все-таки в нем сохранилась не только достаточно твердая человеческая основа, но и подлинная Божья искра. Лишь исходя из этого можно понять его совершенно невероятные слова: «Камера смертников – самое замечательное место на земле». Непременно счел бы такое утверждение лукавством, если бы не понимал его внутреннюю логику. Этот человек всегда искал в своем существовании высший смысл, страшно мучился, когда пропадала надежда его найти. И вот в камере смертников, где Шароевский провел три года, он вдруг начал этот самый высший смысл обретать:
«Камера смертников – самое замечательное место на земле, потому что сатана доводит лишь до дверей этой камеры, внутрь он уже не проникает. Когда опахнет могилой, обостряются все пять чувств, даже в очерствелом человеке пробуждается нечто глубоко человечное. Только здесь я по-настоящему задумался о четырехлетнем сыне и пятилетней дочери и испугался за них.
Кто был в камере смертников, тот знает, что здесь постоянно ощущается чье-то присутствие. Я, например, раньше был совершенно чужд поэзии, не смог бы даже «любовь» и «кровь» срифмовать. А здесь у меня вдруг стали рождаться очень ритмичные рифмованные стихи. Я подумал, что их диктует человек, который сидел здесь до меня и уже расстрелян. И тут же сам себя одернул: чушь собачья. Я вообще был не склонен к мистике. И все-таки понял: мне не надо мешать тому, кто начал во мне говорить.
Однажды один человек мимоходом сказал мне: «Если Бог есть, вас не расстреляют». Как прокурор я прекрасно знал, что в моем случае помилования быть не может. И все-таки эта фраза целый месяц во мне звучала. Раньше я даже слова «Бог» не слышал, а теперь понял, что Он есть. Однажды я почти в истерике взмолился: «Господи, почему я Тебя ни когда не видел?» И услышал ответ: «Я всегда был рядом с тобой». Тогда в памяти у меня одна за другой начали всплывать ситуации, когда Бог меня явно спасал. Во всей своей жизни я ощутил непрерывное присутствие Божие…»
***
Мы беседовали с Вячеславом Николаевичем, кажется, часа четыре. Время вышло. Я встаю. Он – сияющий, радостный, выражает свое сожаление: «Вам вот с этого лучше было начинать». Да, я понимаю, что ему теперь интересно говорить только о Боге, о вере, о душе. Он очень рад, что к нему пришел человек, для которого все это так же важно, как и для него, досадно только, что до самого главного добрались лишь в конце и на него не хватило времени. На самом деле разговор нужен был именно такой. История духовного возрождения личности – совсем другая история, в его случае – весьма далекая от завершения, начинать разговор на эту тему, наверное, и не стоило.
Говорят, что жизнь – не роман, который заканчивается свадьбой. Так же, если душа пришла к Богу, это ведь далеко еще не счастливый финал, это только начало тяжелого, сложного пути с непредсказуемым результатом. За Вячеслава Николаевича страшно. Он тут «варится в собственном соку» и неизвестно до каких еще «озарений» дойдет. Что будет с ним, с его душой, не собьется ли с пути, не ударится ли в какую-нибудь ложную «духовность»? Не знаю. Но ведь я и про себя этого не знаю. Знаю только, что он мой брат во Христе.
А ведь кажется мне удалось совершить поломничество в монастырь на острове Красном, на озере Новом. Раскаявшийся душегуб возобновил здесь монастырь, обратив свою камеру в келью, где он молится, размышляет, пишет, работает над очищением своей души – все, как положено в монастыре. И я, прикоснувшись к кошмару его души, в конечном итоге прикоснулся к благодати Божией, которая вернула его душу на путь истинный. Прикоснуться к благодати – не такова ли цель поломничества?
Крохотный мирок колонии для пожизненных заключенных ужасен только тем, что он – крохотный. Только в этом собственно и наказание. Но если человек с Богом, ему принадлежит весь наш огромный мир. И даже больше, чем мир. Только очень трудно удержать душу на уровне этого ощущения. Господи, помоги рабу Божьему Вячеславу.
Русский мир
Какой русский не знает Володю Шарпова? Трудно даже поверить, что этого человека ни когда не существовало. Актера Владимира Конкина, сыгравшего эту роль в известном фильме, встречают именно как Шарапова. И узнают о нем много нового. Конкин – православный. Он очень много делает для возрождения Православия, о чем пришлось бы рассказывать отдельно. А свой путь к вере он описал очень коротко: «Я задавал вопросы, на которые не было ответов. Тогда я понял – мне нужно Православие». Однажды, когда Владимир еще не был верующим, один митрополит сказал ему: «Ты наш». Тогда это его удивило, но сейчас, если вспомнить хотя бы первую роль Конкина – Павла Корчагина – все встает на свои места.
Корчагин – романтик-идеалист, вся жизнь которого – жертвенное служение идеалам, которые он считал высокими. Идеалы подкачали, но если человек приносит себя в жертву ради счастья других людей, разве это не достойно подражания? Именно такого отношения к жизни не хватает нашей эпохе. А ведь самоотречение, жертвенность – это и есть Православие. Так что путь народного артиста России Владимира Конкина к вере наших предков вполне закономерен.
Конкина спросили о Высоцком, с которым он вместе работал: «Как Владимир Семенович относился к Православию?» Шарапов отозвался о Жеглове очень тонко: «Много раз бывал дома у Высоцкого. В свой рабочий кабинет он ни когда и ни кого не пускал, но однажды он пригласил меня в свою творческую лабораторию. Кабинет был весь в иконах. А ведь он не был коллекционером. Высоцкий был человеком, который нуждался в Церкви».
Слушая Конкина, вспомнил слова из песни Высоцкого: «Купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал». Вы думаете, это просто красивые слова? Так не бывает. Человек, который относится к Церкви враждебно или равнодушно, ни чего подобного написать не может. Не будем себя обманывать, Высоцкий не был верующим. На «чистое золото» Православия он смотрел со стороны. И глаз от него не мог оторвать, и приблизиться не сумел. Мы любим Высоцкого, потому что он был очень русским человеком, отразившим в своей судьбе метания, терзания и внутреннюю трагичность эпохи.
***
Владимир Конкин выступал на XII Всероссийском фестивале «Православие на телевидении, радиовещании и в печати», который проходил в Пензе. Сюда съехались журналисты более чем из 60-ти регионов России, причем федеральные СМИ почти не были представлены.
Организаторы фестиваля говорили о том, что, когда они начинали это дело 12 лет назад, собрали представителей десятка редакций, а сейчас в Пензе собралось более ста журналистов, работающих на телевидении, на радио, в газетах. Они привезли на фестиваль без малого тысячу православных фильмов, радиопередач, газетных публикаций. Сейчас в России существует уже целая сеть СМИ, занимающихся духовно-просветительской работой. Ни кто эту сеть специально не создавал, она появилась сама, как проявление свободной воли православной творческой интеллигенции.
Этот фестиваль уникален во многих отношениях. Как правило, за подобными мероприятиями, не смотря на всю их праздничность, в той или иной мере просвечивают коммерческие интересы. Но работа с православной тематикой – самое неприбыльное направление журналистики. Когда с этой темой работают крепкие профессионалы СМИ, они всегда теряют в деньгах. И все-таки они работают. Этот фестиваль показал, что совокупный творческий потенциал православной журналистики чрезвычайно высок. Оказывается, по-настоящему творческих людей гораздо легче сплотить вокруг идеи, а не вокруг денег.
Другая уникальная особенность этого фестиваля в том, что он, будучи строго православным, является чисто светской инициативой. Его организаторы – миряне. Мы привыкли к тому, что на православные мероприятия приглашают священники. Здесь, напротив, миряне все сделали сами и пригласили священников.
Известно, что любое мероприятие интересно не тем, что говорят на заседаниях, а тем, что происходит в кулуарах. Так же и здесь. В санатории, где жили журналисты, организаторы не предусмотрели утренних молебнов. Журналисты сами подсуетились, нашли священника, попросили его отслужить молебен. На следующий день у священника не было такой возможности. Журналисты сами собрались в холле санатория, вместе дружно помолились, прочитали канон и акафист празднику.
Когда сегодня говорят о том, что Церковь кому-то что-то навязывает – это ложь. Православие – душа русского народа. Нашу собственную душу нам ни кто со стороны не навязывает. Просто наша душа жива.
***
Основное содержание фестиваля – просмотр и обсуждение творческих работ, мастер-классы, которые проводили блестящие профессионалы СМИ. Это взаимообучение в процессе живого общения людей, объединенных общими идеалами. Естественно, люди делились не только своими находками, но и своей болью.
Немало заслуженных «пинков и подзатыльников» досталось федеральному телевидению. Отметили, что Правительство Пензенской области разослало приглашение на фестиваль на все федеральные телеканалы. Ни один не откликнулся. Там, где собрались журналисты со всей России, им, конечно, делать не чего, как будто они иностранцы.
Другой выступающий сказал, что сам Президент России 3 года добивался создания на телевидении детского телеканала. Хозяева телевидения на это не хотели идти, потому что на детском телеканале нельзя будет размещать рекламу. Неужели они там все бездетные? Они просто рабы своих миллионов.
Телехозяева напрасно судят о русском народе по себе, полагая, что на телевидении выгодно только то, что безнравственно или откровенно тупо. Один сибирский журналист на фестивале буквально кричал: «Фильм «Остров», который принес очень большую прибыль, доказал, что нравственное – выгодно. Это миф, что прибыль приносит только мерзость и дурость».
Архиепископ Пензенский и Кузнецкий Филарет вспомнил о том, как он сказал Президенту: «Если бы у нас был православный телеканал, через 3 года вы не узнали бы свою страну». Но пока все иначе. Владыка Филарет поделился горьким выводом: «Сегодня все делается для того, чтобы вытеснить Православие на обочину. Пусть оно будет, но с глаз долой».
Режиссер Игорь Беляев, профессор ИПК работников телевидения и радиовещания, был еще более категоричен: «Мы не должны говорить только о профессионализме, чем больше у разбойников профессионализма – тем хуже. А разбойниками я считаю основные каналы телевидения. Мы должны иметь православный телеканал. Мы готовим это. Идет война. Она горячее, чем холодная. Тратят огромные деньги, чтобы оторвать интеллигенцию от Церкви. А наша интеллигенция, она и великая и слабая».
***
Журналистика, представленная на федеральном телевидении и та, которую представляла на фестивале вся остальная Россия – это два совершенно разных мира, построенных на диаметрально противоположных ценностях. Но обе эти журналистики характеризуют Россию, и пропасть между ними появилась не сейчас. Владыка Филарет на открытии фестиваля процитировал писателя Константина Ковалева: «Много лет назад в подмосковный Звенигородский монастырь зашел задумчивый молодой человек, приблизился к его святыням, а чуть позже прочитал и переписал по-своему старинное житие основателя обители игумена Саввы. Это был поэт Александр Пушкин. Спустя некоторое время один медик устроился работать врачом в местной больнице. Он много трудился, писал рассказы о сельской жизни и стал потом известным на весь мир литератором. Но ни разу, ни где и ни когда он не вспомнил ни о соседнем монастыре, ни об имени преподобного Саввы. Это был писатель Антон Чехов».
И Пушкин, и Чехов – часть русской национальной культуры. Оба они наши, но разница между ними очевидна. Закрывать глаза на внутренние противоречия нашей культуры – не лучший способ эти противоречия сгладить, скорее наоборот.
***
Гостеприимное правительство Пензенской области организовало для участников фестиваля поездку в Тарханы, на родину Лермонтова. Это стало поводом для размышлений не только светлых. Всю поездку не покидали сознание строки Михаила Юрьевича: «Настанет год, России черный год, когда царей корона упадет». Он все предвидел.
После революции в Тарханах поселилась «мерзость запустения». Красивой, конечно, была мысль о том, чтобы «передать барское добро крестьянам», но ведь ни кто ни чего ни кому не передал. Просто все разрушили, загадили, испохабили. Уничтожили прекрасный русский мир. И разве не наша интеллигенция подготовила идеологическую почву для этой похабщины? Доигрались, воображая себя байронами и вольтерами.
Только в последние годы огромными усилиями усадьбу восстановили. Здесь все замечательно: тихие аллеи, мирные пруды, барский дом изумительных пропорций. Восстановили и недавно освятили храм, построенный трудами бабушки Михаила Юрьевича. Но в усадьбе, в рабочем кабинете поэта на письменный стол заботливой рукой водрузили… бюстик Вольтера. Михаил Юрьевич, конечно, не был образцово-православным, но про Вольтера однажды сказал, что его у них «и гувернером бы не взяли». Стал бы он сам украшать свой письменный стол бюстом человека, не годного даже в гувернеры? Это мы за него решили. Так «тонко и чутко» мы принимаем поэта.
Что мы за люди… Сначала кровью и слезами мы создаем великий русский мир. Потом с дикой залихватской удалью разрушаем его до основания. Потом в режиме подвига восстанавливаем. И это лишь затем, чтобы той же рукой тут же заложить под него бомбу. Ведь Вольтер – знамя тех идей, которые разрушили наш мир и эту усадьбу в том числе.
В одной из комнат усадьбы мы смотрели на картину Лермонтова – святой апостол Андрей Первозванный в момент предсмертных страданий. В глазах лермонтовского апостола мудрая глубина и пронзительная боль. Исследователи с трудом верили в то, что такую картину мог написать 14-летний юноша. Но этот юноша был русским гением.
***
Так почему у нас до сих пор нет православного телеканала? А почему наша интеллигенция, разрозненная и разнородная, до сих пор тянет страну в разные стороны? Что с этим делать? Рецепт кота Леопольда («Ребята, давайте жить дружно») наивен и неэффективен. Надо же, наконец, решить, вокруг чего объединяться. Вокруг апостола скептицизма и безверия Вольтера? Или вокруг апостола Андрея Первозванного?
Попрошайки
По Вологде едет автобус. По проходу идет нищий и жалобно причитает: «Люди добрые, помогите, у меня пенсия нищенская, да и ее не платят… Спасибо вам, люди добрые, как бы я без вас жил…» Он не старый, но видно, что инвалид: лицо несет печать вырождения. Куцая бороденка, одежда, которую надел бы не каждый бедняк. Вырядиться нищим может, конечно, каждый, да и скорбную рожицу скорчить – дело не хитрое. Но здесь было другое. Болезнь прорезала на лице этого человека такие следы, какие могут появиться лишь за долгие годы. Это было не выражение лица. Это было само лицо.
Нищему подавали, он униженно благодарил, но вот случилось нечто неожиданное. Импозантный господин в шикарной дубленке зло и презрительно бросил в лицо попрошайке: «Поезжай в Кувшиново, там тебя накормят». Нищий вздрогнул. Его узнали. Первой его реакцией было жалкое желание оправдаться, объяснить, почему ему не охота кувшиновского хлебушка: «Там накормят… больше не захочешь…» Но вдруг это убогое существо словно обрело внутренний стержень и, уже отвернувшись от разоблачителя, он как-то очень мирно, ни к кому не обращаясь, сказал: «Да, я психический больной, но я никому не сделал зла».
Гладко выбритый брезгливый господин еще пытался доказать своей спутнице, что, дескать, нищий-то не настоящий, но этот «правдолюб» уже казался каким-то мелким, пустым и незначительным, не смотря на запах дорогого одеколона. В душе звучали мирные слова убогого: «Я никому не сделал зла». Какое спокойное и ясное человеческое достоинство отыскалось в этом замухрыжке. А мог ли тот господин, положа руку на сердце под дубленкой, так же сказать про себя: «Я никому не сделал зла»?
***
Нищего Толю давно уже не видно в Лазаревском храме Вологды. Говорят, что он перебрался в Кафедральный собор. А может Толя уже и не встает, потому что и раньше еле бродил. Никогда больше не доводилось видеть таких нищих, как он. Толя – удивительный. Солнечный.
Поначалу он раздражал. В самом деле: подошел как-то и цапнул своей ручкой меня за рукав. Смотрит и молча, загадочно улыбается. Маленький, седой, как лунь, глазенки лучистые. Он так и не сказал ни чего, и я с неудовольствием отвернулся. Я потом уже понял, что сия пантомима означала: «Толя хочет денежку».
Мне стало очень стыдно, когда однажды Толя, шаркая ногой, подковылял к моему приятелю и протянул ему маленькую картонную иконку, прошамкав так, что едва можно было разобрать: «На память… на память…» Приятель, приняв подарок нищего, спросил его: «Зовут-то как? За кого помолиться?» «Толя… Толя…» Так я узнал имя этого старичка.
Толя ковылял по храму, словно собирая дань, ни сколько видимо не сомневаясь, что раскошелиться должен каждый, к кому он подошел. А потом направлялся к свечному ящику и покупал самые не дорогие иконки. Он совершенно не интересовался, сколько собрал монеток и сколько стоит иконка, его покупки как-то на доверии улаживались. А иконки Толя раздаривал совершенно не знакомым людям, и почему выбирал именно их – было непонятно.
Люди невольно усматривали некое знамение в том, что Толя им иконку подарил. Думалось, что это неспроста и обычный нищий начинал играть роль в человеческих судьбах. Но… обычный ли? Разве обычно собирать милостыню для того, чтобы делать подарки? Если серьезно об этом задуматься, и впрямь судьба перевернуться может.
***
От нее шло такое зловоние, что стоять к ней ближе трех шагов было просто невыносимо. Как будто сроду в бане не была. Эта нищенка, подошла к нам в иконной лавке Троице-Сергиевой Лавры. Она сразу же без предисловий сказала: «Купите мне Библию, а я за вас молиться буду». С трудом скрывая удивление, я ответил: "Для нас это дорого". Но нищенка, судя по всему, была готова к такому сюжетному повороту и, не делая паузы, предложила следующий вариант: «Тогда два охранных пояса». Охранный пояс стоит столько, сколько я ни когда не подал бы нищему, но здесь, чувствуя, что моя несговорчивость может ее вконец утомить, протянул ей деньги на один пояс. Нищенка продолжала вонять и блаженно улыбаться, но дала мне понять, что я несколько ее разочаровал: «Надо на два пояса». Я уже открыл рот, даже не зная, что сейчас скажу, но ситуацию спасла моя спутница, протянув нищенке деньги на второй охранный пояс.
Я потом много раз вспоминал про эту нищенку. Удалось ли ей все-таки заполучить Библию или так и приходится довольствоваться охранными поясами, скопив их невероятное количество? Зачем они ей? Наверное, тоже раздаривает. Удивительное дело: человек, не имеющий возможности даже в бане помыться, просит не хлеба, а церковных вещей.
Мы очень любим за чашкой кофе порассуждать о приоритете духовных ценностей над материальными. Только надоели уже эти разговоры. Хочется сказать очередному не в меру духовному интеллектуалу: «Поезжай в Лавру. Там одна нищенка есть. Понюхай-ка ее».
Исцеление
Я продрог до костей, хотя мороз на улице стоял не так что бы очень сильный, но переохлаждение усугублялось переутомлением, поскольку день уже клонился к вечеру, а я был на ногах с трех часов утра, да к тому же за последние сутки съел лишь два куска черного хлеба с несколькими глотками студеной воды. Так завершилось паломничество в Черниговско-Гефсиманский скит Троице-Сергиевой лавры. Впереди была обратная дорога – сначала от скита до Сергиева Пасада, оттуда до Александрова, а из него до Вологды. Хорошо было на душе, но тело уже почти отказывалось служить.
Подошел автобус на Сергиев Пасад, обосновавшись в котором, я постепенно разговорился с женщиной лет 50-ти, которая сидела рядом. Оказалось, что они с сыном – жители Александрова, ездили в скит собороваться. Мое состояние делало меня плохим собеседником, и о себе я сказал только то, что возвращаюсь в Вологду, но ей, казалось, нужен был лишь слушатель, и постепенно я узнал, что ее сын (на вид – приличный молодой человек лет 25-ти) несколько лет назад заболел тяжелым психическим расстройством.
Много раз в припадках он пытался убить мать: и с топором на нее бросался, и из окна хотел выбросить. Не раз после припадков он совершал попытки самоубийства. Это был сущий ад. Водила его мать и к бабкам-ворожеям, и к бесчисленным экстрасенсам, у которых «после одного сеанса все проходит». Но не проходило, а только хуже становилось.
Наконец, ей предложили соборовать сына. Первое же соборование принесло облегчение, после второго стало еще лучше. Сейчас они возвращались уже с третьего за этот год. Позднее я сам поговорил с Андреем, рассудительным молодым человеком, заметив лишь немного нервическую жестикуляцию. Он был почти здоров, хотя и не вполне еще.