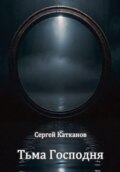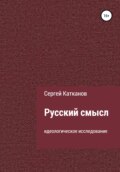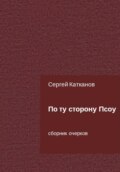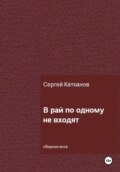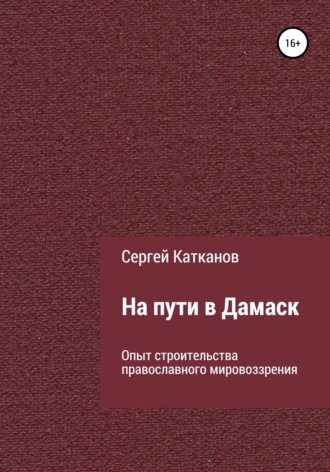
Сергей Юрьевич Катканов
На пути в Дамаск. Опыт строительства православного мировоззрения
Если мы присутствуем на Богослужении – толку от этого ни какого, и нецерковные люди в этом совершенно правы. Но если мы участвуем в Богослужении, если стараемся искренне вместе со всеми молиться, Бог не оставит нас без духовной пользы. Пусть даже в храме мы постоянно отвлекаемся на мирские помыслы, но если за полтора часа Богослужения наберется в общей сложности пара минут относительно чистой молитвы, мы и то станем чище, хоть на время. Может быть, возвращаясь домой посмотрим на соседей добрее, чем вчера. И тогда им станет понятно, зачем мы ходим в церковь.
Церковная дисциплина
Однажды мы беседовали с одной очень милой протестанткой. Она говорит:
– Неужели вам ни когда не хотелось вот просто так присесть и помолиться Богу своими словами?
– Конечно хотелось, да часто именно так и бывает. Я вообще считаю, что такое простое обращение к Богу – самое главное.
Она посмотрела на меня удивленно и растерянно, мой ответ был явно для нее неожиданным, и она перевела разговор на другую тему. А я понял, в чем был смысл ее вопроса.
Вот пришла девушка к вере, обратилась к священнику, спросила, как надо молиться. Батюшка первым делом вручил ей молитвослов и стал объяснять, когда какие молитвы надо читать. Ей это не понравилось. Обращение к Богу тут получается каким-то регламентированным, формальным, неживым. К Богу предписано обращаться чужими словами древних людей, да к тому же на полупонятном языке. Но вот она приходит к протестантскому пастору и он ей говорит: "Молись своими словами как хочешь и когда хочешь. Молитва – это же живое обращение к Богу". Ей это понравилось. Она решила, что только у протестантов вера живая, а у православных – лишь мертвящий формализм. Девочка, совершенно не имея духовного опыта и ни одного дня не прожив в Православной Церкви, теперь уверена, что наша Церковь – казарма, где и дышать можно только по уставу.
В чем же правда? Да в том, что православным известны законы духовной жизни. Наша Церковь – необъятное вместилище духовного опыта. И если человек принадлежит к Церкви, то надо быть последним идиотом, чтобы этим опытом пренебречь. Конечно, главное – религиозные чувства, но легко ли облечь их в слова? Ведь мы же и минуты не помолимся, если попытаемся выразить эти чувства по-своему, слова сразу же закончатся. Но вот берешь в руки молитвослов, начинаешь читать и как будто встречаешься с собственной душой. Чувства-то все мои, а слова такие точные, возвышенные, глубокие, что мне бы таких и за сто лет не подобрать. Когда мы молимся по молитвослову, мы молимся хоть и чужими словами, но своими чувствами, да и слова-то вскоре становятся близкими и родными, то есть перестают быть чужими.
Предположим, мне завтра скажут: молитвослов отменяется, молись по-своему. И что я скажу Богу вместо покаянного канона? И какими-такими "своими словами" я заменю "Отче наш" и "Царю Небесный"? Как же нестерпимо стыдно будет перед Богом за свое бессвязное блекотание. Знаете, что произойдет? Я почти полностью перестану молиться.
Мудрость Церкви свидетельствует, что если не будет молитвенной дисциплины, то и молитвы не будет. Как долго мы способны молиться своими словами, если, конечно, не занимаемся попрошайничеством? Выклянчивать-то что-нибудь у Бога мы способны с утра до вечера и слова найдутся. А покаянная молитва? Окажется ли она длиннее, чем два слова: "Господи, прости"? Длиннее она будет только в одном случае, если мы начнем заниматься самооправданием, тут-то враз найдется множество слов. А славить и благодарить Бога мы сможем своими словами? Тут ведь опять все закончится одной фразой. Впрочем, эти отдельные короткие молитвенные вздохи: "Господи, прости", "Благодарю Тебя, Господи" – это тоже наиважнейшие молитвы. Но разве их достаточно для того, чтобы настроить душу на определенную волну и удержать ее на этой волне?
Православным ни кто и ни когда не запрещал молиться своими словами, но эти слова еще надо обрести, а то вот так сядешь "помолиться по-своему", а в душе ни одного слова или такие слова, которые насквозь пропитаны страстями, то есть грехами. Стыдно к Богу с такими словами обращаться. Важно, чтобы молитвенное чувство было своим, а слова пусть будут наилучшие. Свои – хорошо, чужие – не беда.
Но вот протестанты ни чего этого не знают. Бывал я на их молитвенных собраниях. Как же они там молятся "своими словами"? Однажды, помню, они бесконечно долго распевали одну фразу: "Как хорошо, что спас меня Иисус". Даже не касаясь дикого сотериологического смысла этой фразы, надо сказать, что впечатление было удручающее, как будто это был сеанс массового зомбирования. Не лишка же у них нашлось "своих слов". Распевают они порою "гимны" и подлиннее одно фразы, но до чего же это примитивные, убогие и безвкусные тексты. Ведь они же и чувствовать приучаются так же примитивно и убого. И вот захочет кто-нибудь из них помолиться своими словами, а слова все какие-то глупые, да и чувства такие же. Православному все же придет на память что-нибудь из молитвослова и "свои слова" окажутся лучше, чем у протестанта, и чувства глубже. Так что если отвергаешь что-нибудь "чужое", подумай сначала, окажется ли "свое" равноценным.
В армии говорят: "Уставы написаны кровью". То есть каждое правило введено в устав после того, как кто-нибудь погиб и офицеры подумали, как избежать подобных смертей. А приходит новобранец и ему эти правила кажутся глупыми. Но если он не будет соблюдать этих правил, тогда он собственной кровью еще раз подтвердит их важность. Смысл церковной дисциплины тот же, что и армейской. Делайте как велят, даже если вы не понимаете смысла того, что вам велят. Может быть, потом поймете, а может быть и никогда не поймете, но следование церковной дисциплине спасет вашу душу. Все церковные правила основаны на реальном духовном опыте. Отцы смотрели, от чего люди гибнут и вводили правило, предотвращающее гибель.
Так же, например, с исповедью. Однажды один едва воцерковившийся человек сказал, что больше года не был на исповеди при этом начал доказывать, что он прав: "Нельзя идти на исповедь, если в душе нет искреннего покаяния, тогда получается исполнение формальности, а не исповедь. Покаяния же у меня пока нет».
Очень захотелось сказать ему: «Ты бы, умник, делал, что велено, да мудрил бы поменьше». Не сказал. Наши умники очень обижаются, когда их мудрость ни во что не ставят, а просто призывают к дисциплине. Постарался объяснить, как мог, суть проблемы.
Действительно, условием исповеди является искреннее покаяние, но если ты будешь ждать, пока оно у тебя появится, то может случиться так, что не дождешься ни когда, и тогда ты просто окажешься вне Церкви. Лучше будет все-таки, если ты придешь на исповедь и кроме прочего покаешься в отсутствии искреннего раскаяния. Так, глядишь, и раскаяние придет. Вот стоишь ты в очередь на исповедь и думаешь: я столько нагрешил, так почему же я, зараза худая, не испытываю ни капли раскаяния? И не заметишь, как слезы закапают. А может быть и не закапают. Или не в этот раз, а через пять раз на шестой. Или, если душа не плачет о грехах, так ты во всяком случае от головы, от разума займись самоосуждением. Это, конечно, не то, но это куда лучше, чем ничего. А у тебя пока – ни чего. Откуда же у тебя раскаяние возьмется, если ты себя вне Церкви ставишь?
Мне понятен пафос отвержения формализма. В самом деле мало толку просто «вычитывать» молитвы по молитвослову. Это не более, чем исполнение формальности, которая гроша ломаного не стоит. Но ведь настоящая, живая молитва скорее появится в сердце во время такого формального молитвословия, чем в других ситуациях. Исповедь без покаяния тоже не много стоит, но настоящее покаяние скорее появится в душе во время исповеди, чем в других ситуациях. Просто, исполняя требования церковной дисциплины, не надо в силу этого чувствовать себя праведникам. Дескать, я все делаю, как надо: молюсь, как положено, исповедаюсь, как положено. Это может быть, всего лишь форма, лишенная содержания, и тут до праведности, как до звезд. Но не надо и недооценивать форму. Она имеет свойство притягивать содержание. Делайте, как велено, и у вас появится хотя бы надежда на то, что будет, как надо.
Как же это замечательно, что у нас в Церкви есть дисциплина. Такие, как я, погибли бы без нее гарантированно. Я в ужас прихожу, когда говорят: "Главное – в душе Бога иметь, а не формальности исполнять". Да в душах-то, ребята, у нас всегда одно и то же – помойка. Вы думаете, там сами по себе розы расцветут? Люди, которые считают, что "достаточно иметь Бога в душе", никогда Его в душе не имеют. Это просто самообман, продиктованный ленью.
Часть III. Вот мы и дома
Карательное богословие
Безбожники упрекают нас в том, что наш Бог жесток. "Установил правила, а за их нарушение жестоко карает". В этом случае, как и во многих других, безбожники полемизируют не с православием, а с мифами о православии. Беда только в том, что сами православные очень часто являются носителями и распространителями этих мифов. Разве вы никогда не слышали от верующих: "Будешь грешить – тебя Бог накажет". А разве это правда? Не правда. Правда в том, что Бог никогда никого не наказывает. Бог не жесток. Это мы жестоки. И мы приписываем Богу свои свойства.
Боюсь, что сейчас придется полемизировать со своими. "Карательное богословие" так прочно у нас укоренилось, что критика его вполне может быть воспринята, как отступление от веры, как попытка ввести какое-то новомодное боголословие, противоречащее православию. На самом деле это лишь возвращение к подлинному святоотеческому вероучению. Высшие истины порою бывают слишком высоки для бытового сознания. Во мнениях народных смысл православия так порою примитивизируется и оглупляется, что превращается в свою противоположность. Бога, Который Сама Любовь, мы понимаем, как карателя, не ведающего жалости.
В чем же истина? Начать надо с того, что заповеди – не система запретов. Это правила техники безопасности. Бог вообще ничего не запрещает. Он предупреждает: если будешь делать вот это, то последствия будут вот такие. Если, например, будешь прелюбодействовать – обречешь свою душу на страдания. Никто тебя не будет наказывать. Просто нарушение заповеди и страдания – это причина и следствия. Вам, например, сказали: не надо прыгать из окна девятого этажа. Это запрет? Нет, это предупреждение: прыгнешь – убьешься. А если человек все-таки прыгнул и убился? Это наказание? Нет, это следствие того, что человек не послушался доброго совета. Ему казалось, что его свободу ограничивают бессмысленным запретом, он хотел парить в небесах, подобно орлу. И вот результат. Ну ведь предупреждали же.
Или, например, отец запрещает мальчику совать гвоздики в розетку. А мальчику надоели эти вечные отцовские запреты, он решил попробовать. Когда мальчика пребольно ударило током, это что по-вашему – отец жестоко наказал его за нарушение запрета? Да отцу самому больно от того, что сын пережил такую боль. Но ведь он же предупреждал.
Так же Бог постоянно предупреждает нас, своих детей: не нарушайте заповеди, это причинит вам боль, вы разрушите свою душу, вы обречете ее на страдания. А мы сначала все делаем наоборот, а потом говорим: Бог наказывает, Бог – жестокий, бесчеловечный. У нас совесть есть? Или хотя бы крупица разума?
Тоже самое будет и в аду. Ад – не штрафной изолятор, это не место, где грешников будут наказывать за плохое поведение. Ад – органичная естественная среда обитания грешных душ. Человек при жизни не хотел идти тем наилучшим путем, который предложил ему Бог. Человек решил жить без Бога. Таким был его свободный выбор. А дальше начинаются последствия. Без Бога душе плохо. Ад это всего лишь место, где нет (или почти нет) Бога. Ну вы же сами это выбрали, ребята, это не наказание.
Но разве Бог не может простить человека и избавить его от вечных мук? Да Богу и прощать не надо, он и так любит грешников не меньше, чем праведников. И после смерти Бог помещает грешников туда, где им будет лучше всего – в ад. Дело в том, что в раю им было бы еще хуже, там близость Бога заставляла бы их страдать куда больше – это не органичная для грешников среда. Конечно, в аду грешники будут страдать, но гораздо меньше, чем страдали бы в раю. Это не наказание. Это проявление Божьего милосердия.
Представьте себе, что человек ненавидит царя и плюет на его законы. Может ли царь простить его? Конечно. Предположим, что царь простил его и наградил – взял жить к себе во дворец. Какая же это награда? В царском дворце человек, ненавидящий царя, будет невыносимо страдать от близости того, кого ненавидит. Поэтому царь говорит: "Я не гневаюсь на тебя, я люблю тебя так же, как и всех других моих подданных. Но тебе же самому будет тяжело рядом со мной во дворце. В ссылке, конечно, плохо, там ты будешь лишен моих даров, но там тебе все же будет лучше, чем у трона".
Так же поступает и Царь Небесный. Согласитесь, выше такого воспрощающего милосердия ни чего и быть не может. Ну и где же тут бог-каратель? И где тут раскаленные сковородки, на которых будут жарить грешников? Забудьте вы про эти сковородки, это все выдумки злых старух. Они думают, что Бог такой же злой, как они, а это ложь. Злые люди, считая себя православными, позорят свою веру в глазах атеистов, среди которых, может быть, немало добрых людей, но потому-то они "злую веру" принимать и не хотят.
Все наши страдания и в этой жизни, и в будущей, лишь следствие того, что мы не хотим идти тем путем, который предлагает нам Бог. Значит, Бог ни когда не причиняет человеку боль сознательно и целенаправленно? Нет, иногда бывает, что мы испытываем боль по Божьей воле, но это ни в какой степени не наказание.
Вот, скажем, ребенок нарушил "родительскую заповедь" – гулял на морозе без шарфа и простыл. И родители теперь заставляют ребенка пить горькие лекарства и тиранят его задницу уколами. Неужели вы думаете, что родители таким образом наказывают ребенка за то, что он не исполнил их воли – не носил шарфа? Родители делают ровно то, что необходимо для выздоровления ребенка, а само неразумное чадо вполне может понимать медицинские процедуры как проявление родительской жестокости. Впрочем, такие глупые дети встречаются редко, а вот взрослых, которые воспринимают "Божьи лекарства" как наказание – сколько угодно.
Болезни тела порою являются лекарством от болезней души. Поэтому православные понимают болезни не как наказание, а как проявление Божьей милости. И если в офисе у сатанистов в соответствии с нашими пожеланиями обрушился потолок, не торопитесь кликушествовать: "Бог их покарал". Бог ни когда ни кого не карает. Рухнувший потолок – проявление Божьей милости, это вразумление, предостережение, это шанс задуматься. Если же сатанюг тем потолком задавило насмерть – и это милость, а не наказание. Значит Богу известно, что они уже не исправятся, и Бог препятствует им умножать грехи, из-за чего в будущей жизни им было бы еще хуже. Вот если дела у сатанистов идут прекрасно: и потолки не падают, и счета наполняются – это настоящая богооставленность.
Да, Бог иногда режет лезвием по живому. Это очень больно. Но это лезвие скальпеля. Бог делает болезненные операции, чтобы нас спасти. Разве хирург, причинял боль пациенту, наказывает его? А мы ропщем на Бога: "Вот ведь мучитель, неужели нельзя было обойтись без такой болезненной операции?" Да, можно было обойтись, но это от нас зависит. В духовной сфере – все болезни добровольные, все они – следствие нарушения Божьих заповедей. Если бы мы их не нарушали, так и не приходилось бы нам терпеть такое болезненное лечение. Сколько бы мы не враждовали на Бога, Он все равно не оставляет нас Своей заботой, только по мере нарастания нашей вражды, лечение приходится применять все более болезненное – иначе уже ни как.
Таково православное понимание того, что мы склонны считать "карами небесными". Нет, Бог – не каратель. Откуда же тогда у нас взялось карательное богословие? Даже в храмах на стенах рисуют картины страшного суда, где грешники подвергаются самым изощренным пыткам. Это ж просто школа юного садиста. Где тут православие? Тут его нет. Но как это объяснить атеистам, если они видят такое в православном храме? Храм что ли объявить не православным? Или незадачливого богомаза анафематствовать? Или настоятеля от Церкви отлучить? Так и сам ненароком в карателя превратишься.
А началось все, не извольте сомневаться, с соображений чисто педагогических. Представьте себе диковатую русскую деревеньку прежних веков и попа Ивана, который выучил службу на слух, но ни читать, ни писать не умеет. Поп Иван безграмотный, но ревностный и сильно переживает, что мужички попивают, да погуливают, да поворовывают, а ведь случаются и убивцы. Как мужичков-то вразумить? Вот и гремит поп Иван с амвона нечеловеческим голосом: "Черти вас всех в аду на сковородках будут жарить!" Поп убедительный, а мужички впечатлительные. Многие потом от греха-то и воздерживаются. Боязно все-таки.
И вот представьте себе, что в деревню приезжает грамотей вроде меня и начинает мужичкам теорию толкать, что ни каких адских сковородок нету и еще много всяких мудреных слов, которые мужички мимо ушей пропускают, одно усваивая твердо: сковородок нету и бояться нечего. Я очень даже хорошо вижу, как мужички все заулыбались, да заоблизывались. Один, к примеру, думает: "Хотел вчерась на сеновале Акулину завалить, однако, воздержался, испугался Божьей кары. Но ежели Бог ни какой не каратель, то чего терпеть-то? Акулина-то уж больно сладкая".
И начинается в той деревне такой "Содом с Гоморрой", что я, справедливо усматривая в себе причину разыгравшегося непотребства, рву на себе от отчаяния волосы, а поп Иван подходит ко мне и говорит: "Дурак ты, братец, хотя и умный".
Да ведь это все не обязательно в стародавней глухой деревне могло быть, а и в нынешнем городском храме. Народное сознание все равно упростит слишком мудреные религиозные построения, и неплохо бы заранее подумать, в какую сторону пойдет это упрощение и к каким последствиям это приведет. И вот тут уже начинаешь капитально задумываться: да настолько ли поп Иван не прав? Ведь действительно в аду будет очень плохо, и насчет адских мук – это сущая правда. А то, что адские муки – не наказание, а лишь последствия нашей греховности, и Бог отправит грешников в ад не из жестокости, а из милосердия… Ну, может быть, и не делать на этих моментах акцент из педагогических соображений?
И тогда получается ложь. Тогда получается клевета на Бога, кощунство. Как можно строить проповедь на кощунстве? Страшный вопрос.
Тут надо тоньше. Тут нельзя с кола рвать. Тут надо чувствовать, к кому обращаешься. Правда о Божьем милосердии должна прокладывать себе дорогу. Но правда не терпит революций. Мы очень хорошо знаем, к каким чудовищным последствиям могут привести попытки вдруг резко и неожиданно поставить религиозное сознание с ног на голову. Ко всему, что касается веры, надо подходить бережно и трепетно.
Могу ли я доказать, что эта концепция – чисто православная, святоотеческая, а не еретическая? Нет, не могу. Для этого надо быть богословом. Для этого надо всю жизнь посвятить изучению святоотеческого наследия и надо тонко чувствовать дух писаний святых отцов. Настоящие богословы – большая редкость. Но я вас уверяю, что сегодня в России такие богословы есть. И если вы захотите, то познакомитесь с их трудами.
Реестры грехов
Сейчас иные батюшки очень произвольно верстают длинные перечни грехов, в которых православным надлежит каяться. Причем, у разных батюшек могут быть очень разные представления о том, что есть грех, а что не есть. Слушать или не слушать можно любого батюшку по собственному выбору. В ином храме на вас наложат суровую епитимью за то, на что в другом храме благодушно махнут рукой. В иной книге православные ревнители благочестия гремят анафемами по поводу того, что в других православных книгах фактически признается нормой современной жизни.
Это вполне объяснимо. В нашей жизни появилось много новых явлений, оценивая которые мы не можем опереться на авторитет святых отцов. Святитель Василий Великий ни чего не говорил ни про ИНН, ни про рок-музыку, ни про курение табака. А вот насколько авторитетно суждение условного «отца Василия», про которого мы знаем, что он хороший, но не великий, это мы уже решаем сами.
Не трудно понять, что в такой ситуации возрастает роль мирян в церковной жизни. Мы не можем ссылаться на то, что «так священник сказал». Мы вынуждены думать своей головой, выбирая, на какое из различных суждений различных священников опираться. Конечно, иной батюшка с удовольствием поставит знак равенства между своим голосом и голосом Церкви, но мы должны понимать, что это вовсе необязательно так и есть. От лица Церкви не имеет права говорить даже патриарх. Мнение Церкви может выразить только Собор, а по значительному количеству вопросов современной жизни соборных суждений нет. Как же нам тогда узнать мнение Церкви по этим вопросам? Ну в общем-то пока ни как. При этом надо помнить, что полнота истины пребывает только в полноте церковной, а Церковь – это не сумма батюшек, это в том числе и миряне, то есть каждый из нас.
Как-то, было дело, одна женщина пришла к вере и задавала мне много вопросов. На какие смог – ответил, а кроме прочего посоветовал книги Андрея Кураева. Через некоторое время встречаемся, и она говорит: «Нашла книги Кураева, начала читать, но мне у нас в храме сказали, что эти книги – запрещенные». Тут уж я не смог удержаться от смеха. Говорю: «Отца Андрея от Церкви ни кто не отлучал и, соответственно, его книги ни кто не запрещал. Ну разве что некий батюшка запретил своим прихожанам читать Кураева. Вольному воля, конечно, но у меня возникает вопрос: не много ли берет на себя этот батюшка, запрещая книги доктора богословия и преподавателя Духовной Академии?»
В общем, если кто-то скажет, что читать Кураева – грех, возьму на себя смелость не согласиться. Но и следовать за каждым суждением Кураева ни кому не посоветую. Не хочется думать, да? А придется.
Вот, к примеру, некоторые священники накладывают епитимию на тех, кто празднует Новый год, полагая это грехом. Но давайте разберемся, почему? Говорят, это нарушение Рождественского поста. Но тогда и каяться надо в нарушении поста (мало ли по каким причинам), а не в праздновании Нового года. Кроме того, отмечать Новый год можно очень по-разному. Можно закатить грандиозную пьянку с дикими плясками и обжираться ветчиной, а можно тихо посидеть в семейном кругу за постным столом, выпить шампанского под бой курантов, посмотреть немного телевизор, да и лечь спать. По телевизору фигню всякую показывают, однако же не порнографию.
Кто-то из православных тут же взовьется: «Вы телевизор смотрели? Да это само по себе грех. Православным смотреть телевизор нельзя». Ну не знаю для кого тогда по телевизору выступает патриарх и транслируются богослужения? С телевизором – вообще тяжелый вопрос, но вернемся к Новому году. Да, разумеется, не только нарушение пищевых запретов, но и любое веселье, в том числе и участие в телевеселье – уже нарушение поста. А если без телевизора?
Тогда, говорят, отмечая Новый год, вы утверждаете новый стиль и отрицаете церковный календарь, согласно которому Новый год будет только через две недели. И тут будет уместно спросить: уверены ли мы, что в календаре, который составил обожествлявший себя язычник Юлий Цезарь больше святости, чем в календаре римского папы Григория? Юлианский календарь для православных – не святыня, мы не переходим на григорианский потому что в этом случае Пасха иногда будет выпадать на те дни, в которые каноны запрещают праздновать Пасху. При чем тут Новый год?
Один священник сказал: «Вы понимаете, что празднуя Новый год, вы совершаете жертвоприношение бесам?» Очень тяжелое обвинение. И не слишком ли легкомысленное? Даже если человек согрешил, это еще не значит, что он совершил вероотступничество. Тут, конечно, явно не достаточно оснований, чтобы обвинять православного человека в сатанизме.
И вот я прочитал у Кураева, как православному лучше праздновать Новый год. При этом, отец диакон опирался на личный опыт, даже и вопроса не стояло о том, что это может быть грех. Полегчало? Вы знаете, как-то не очень. Какая-то все-таки неловкость в душе осталась.
Так каков же все-таки объективный критерий определения того, что есть, а что не есть грех? Еще раз повторю: грех – это то, что наносит вред душе. Так наносит ли вред душе празднование Нового года?
А вам ни когда не хотелось в Новый год сказать вслед за Остапом Бендером: «Мы чужие на этом празднике жизни»? Вы не испытывали отторжения, глядя по телевизору на кривляния эстрадных «звезд»? Нет, правда, это же не порнография, там вроде бы и «грех-то с орех», но не было ли у вас ощущения того, насколько вам все это чуждо? Не говоря уже про характер пьяных разговоров за праздничным столом. Вам не хотелось уши заткнуть? Если вы чувствовали себя очень чужим посреди этого совершенно нехристианского веселья, вы имеете полное право сказать: «Грешно все это, вредно все это для души».
Помню монахиня N писала: «До того, чтобы чтение светской литературы начало вредить вашей душе, надо еще дорасти». Так вот, наверное, до того, чтобы празднование Нового года начало вредить вашей душе, тоже надо еще дорасти. Представьте себе, что вы заходите в комнату к человеку, у которого по полу ползают змеи и скорпионы, а вы кричите на него: «Ты что тут мух развел? Немедленно всех мух перебить!» Конечно, засилье мух – не есть благо, но разумнее пока не обращать на них внимания и заняться истреблением куда более крупных и опасных тварей. Если же вы все-таки решили в первую очередь заняться мухами, змеи и скорпионы тем временем погубят вас.
Так же некоторые не очень мудрые батюшки в первую очередь велят нам бороться с теми грехами, которые на нашем убогом уровне духовного развития и вреда-то ни какого не могут причинить. Наши души еще полностью растворены в грязи мелочных мирских попечений, мы еще не отбили у мира сего ни пяди духовного пространства, а нас уже пугают: «Читать газеты – грех», не говоря уже про телевизор и Новый год. Да, все это действительно загрязняет душу. Плюнуть на пол в чистой комнате, значит напачкать. Но если плюнуть в помойную яму, там не станет грязнее. Только фарисей будет в этом каяться.
Есть вещи, которые являются грехом только для святых чистых душ. Для святого грех – все, что мешает ему быть святым. Не торопитесь в святые. Недавно один мудрый батюшка на проповеди сказал: «Не надо на исповеди каяться в том, что вы были на молитве рассеяны. Если бы у вас была нерассеянная молитва, значит вы уже достигли святости». Это может показаться странным: батюшка не велел каяться в том, что является грехом. Но он прав! Это как с той комнатой. Если мы каемся в том, что развели мух, значит мы не видим у себя змей и скорпионов, потому что если бы мы осознавали, какие опасные твари нам угрожают, так мы про мух бы и не вспомнили. Покаяние в «рассеянности на молитве» отражает нашу духовную слепоту.
Есть явления, которые на разных уровнях духовного развития могут быть и вредными, и полезными. Для тех, кто едва переступил порог Церкви, чтение Достоевского весьма полезно – там столько чистой искренней веры во Христа. А для опытного монаха читать Достоевского – грех, слишком много там бурления страстей и всяческого непотребства. Пройтись наждачной бумагой по грубой деревяшке – значит сделать ее более гладкой. А той же бумагой пройтись по пластиковой линзе – сделать ее менее гладкой.
Как же нам определить, что для нас грех, а что нет? Еще можно отмечать Новый год, или уже не стоит? Дай Бог каждому из нас мудрого духовника, но ведь и духовника мы выбираем сами, и степень его мудрости оцениваем самостоятельно, своими силами, и ни когда, ни на кого мы не имеем права перекладывать ответственность за спасение своей души. Каждый из нас несет абсолютную, стопроцентную ответственность за свою душу. Кого же слушать? Голос своей христианской совести. Ведь голос совести – это голос Бога.
Все это сложно до невероятия. А, может быть, кто-то думал, что спасти свою душу легко? Ну, положим, протестанты так и думают, а православным быть куда труднее. Порою на нас смотрят со стороны и ухмыляются: «Да у них там все – грех, у них и дышать-то можно через раз». Так хочется это опровергнуть и вдруг понимаешь, что… бесполезно. Православие со стороны не понять.
Помню, как поразили меня великие слова блаженного Августина: «Люби Бога и делай что хочешь». Ведь это воистину так! Но это так легко перетолковать превратно… Тот кто по-настоящему любит Бога, и делать будет только то, что угодно Богу, и тогда вопрос о дозволенном и недозволенном отпадет, как ненужная шелуха. Но любим ли мы Бога по-настоящему?
Помню одну поразительную песню иероманаха Романа. Там старый монах обращается к Богу: «Милостивый Боже, я познал глаголы: «Симоне Ионин, любиши ли Мя?»» У монаха вся жизнь ушла на то, чтобы понять глубинный смысл одной единственной евангельской фразы. Неужели я попытаюсь ответить на вопрос, что значит любить Бога? Забудьте те слова блаженного Августина, я вам их не цитировал.
И вообще, я кажется начал богословствовать. Прости меня, Господи, я не хотел. У меня лишь было намерение в нескольких словах объяснить, что такое грех. Объяснил ли я это хотя бы самому себе?
Тоже грех
Еще раз замечу, господа: это не проповедь. Скорее уж исповедь. Вот сейчас я пишу эти строки и курю. Стыдно? Стыдно. Какой же я после этого православный? Да вот такой…
Я не раз задавал вопрос: «Курение – это грех, или вредная привычка?» И ни разу не получил удовлетворительного ответа. А надо ли вообще такие вопросы задавать? Сказано – грех, значит грех. Это ведь скажет любой священник. Но все дело в том, что курение – не единственный и не самый тяжелый мой грех. Грех скептицизма будет потяжелее. Мне во всем надо разобраться самому.
Для начала бесспорно одно: курение наносит вред телесному здоровью. Но отсюда еще не следует, что курение вредно для души. Пост тоже может причинять вред здоровью, во всяком случае, у меня во время постов обостряется язвенная болезнь. Но для души пост полезен. А курение? На чем основано утверждение, что оно вредит душе, т.е. греховно? Нет ли у меня возможности оправдать себя и доказать, что ни какой это не грех? Есть такая возможность.
Помню, как был удивлен, когда некий православный автор восхищаясь известным богословом протоиереем Александром Шмеманом, рассказывал, как тот смотрел по телевизору спортивные соревнования и при этом смолил одну беломорину за другой. Подчеркиваю, это было рассказано с восхищением, вот дескать какой живой увлекающийся человек. Кажется, это вполне может служить для меня оправданием. Если уж такой известный богослов дымил, как паровоз, так и мне, простому мирянину, нет смысла себя ограничивать. Но разве я всегда и во всем соглашался с каждым богословом? А почему сейчас должен вот так сразу согласиться, только потому, что мне это удобно?