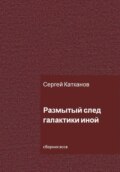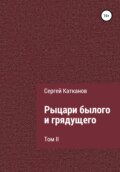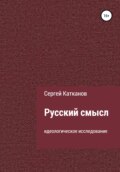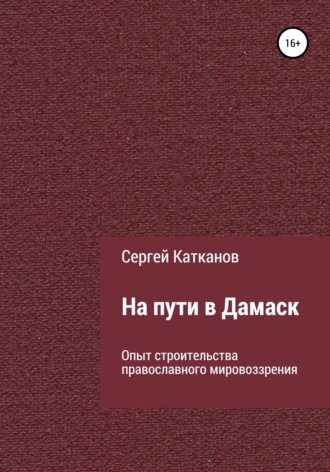
Сергей Юрьевич Катканов
На пути в Дамаск. Опыт строительства православного мировоззрения
С автобуса мы пошли на электричку уже вместе, а когда приехали в Александров, женщина предложила:
– Зачем вам на вокзале 4 часа мучиться? Пойдемте к нам. Поедите, отдохнете.
– Нет сил отказываться, – улыбнулся я.
Мать с сыном приняли меня в своей бедной комнатке, как родственника, которого потеряли много лет назад и неожиданно нашли. Накормили скромным, но вкусным ужином, согрели даже воды в тазу, чтобы ноги вымыть, хотя вода была наносная, постелили постель – пару часов до поезда отдохнуть. Я лег и мгновенно «провалился», успев только услышать сквозь сон, как мать говорит сыну: «Разбуди Сереженьку в одиннадцать, я сама его на поезд провожу». Я уже не удивлялся тому, что так ласково и заботливо суетятся вокруг меня люди, которые еще два часа назад не подозревали о моем существовании, да и сейчас знают обо мне только то, что я – из Вологды.
По дороге на вокзал женщина по-прежнему ни о чем меня не расспрашивала, а рассказала подробнее о том, как болезнь сына привела их обоих к вере православной. И ее малопонятная доброта показалась вдруг вполне естественной и даже закономерной.
Метались они с сыном в поисках исцеления по тем же адресам, по каким и все в подобных ситуациях. И так же безуспешно, как и большинство. В том, что остановили свой взгляд на Церкви, как на источнике духовного здоровья, тоже нет ни чего исключительного. Многие начинают креститься, когда грянет гром. Идут в храм, ставят свечи за здравие, а потом говорят, что все без толку – не помогает. И не поможет ни когда в таком варианте, потому что Богу нужна наша вера, а не воск, расплавившийся перед иконой.
Иные делают следующий шаг, прибегают к таинствам – крещению, исповеди, причастию, соборованию. И тоже, случается, недоумевают, когда не видят результата. Напрасно считать, что обращение к Церкви то же, что и визит к экстрасенсу по схеме: сеанс – результат. Но если человек глубже понимает Православие, он начинает постигать: для того, чтобы получить благодатную помощь от Бога, необходимо в корне изменить всю свою жизнь в соответствии с Господними заповедями.
Такая вот необычная медицина. Чтобы выздороветь, надо любить людей. Господь помог матери и сыну, потому что они, проникшись духом Православия, стремятся совершать дела любви по отношению и к ближним, и к дальним. В этом случае уже и свечи перед образами горят не напрасно, и таинства обретают огромную силу.
Мы с моей спутницей дошли до вокзала. Она попрощалась со мной с удивительной сердечностью. Таково свойство любви. Ее на всех хватает, сколько не трать, а только больше становится. Все с ее сыном будет нормально. Она верит в это. Теперь в это верю и я.
Болезни во спасение
Когда мне сказали, что протодиакон Андрей Кураев в одной из своих лекций весьма неуважительно отозвался о богословии святителя Игнатия Брянчанинова – не поверил. Точнее, подумал, что это сильно преувеличено. Кураев, кажется, ещё ни разу своих с чужими не перепутал. Потом с изумлением обнаружил в Интернете приписываемое Кураеву утверждение, что «Игнатий Брянчанинов плохо понимал Православие». Поверить в это было ещё труднее. Отец Андрей – слишком тонкий мыслитель, чтобы заниматься заурядным хамством. А потом посмотрел видеофрагмент лекции Кураева, где речь шла о Святителе Игнатии. И тогда пришлось поверить. Протодиакон Андрей Кураев на самом деле крайне неуважительно и совершенно некорректно отозвался о богословии святителя.
Самое странное в том, что в лекции, носившей название «Болезнь технаря в Православии», отец протодиакон упомянул святителя Игнатия вскользь, лишь как один из отрицательных примеров и, разумеется, без серьёзного «разбора полётов». А вряд ли стоило «походя пинать» одного из самых авторитетных богословов нашей Церкви, словно зарвавшегося псаломщика. Полемике с учением святителя Игнатия можно посвятить жизнь, во всяком случае – диссертацию, но уж никак не 5 минут во время одной из бесчисленных лекций. Отсюда, видимо, вообще-то не свойственная Кураеву легковесность аргументов.
Вот, дескать, митрополит Филарет Московский запретил публиковать какие-либо сочинения епископа Игнатия. Да мало ли в жизни бывает недоразумений? Если у святителя Игнатия могли быть богословские ошибки, то кто нам сказал, что у святителя Филарета не могло быть ошибок административных? А ведь это было именно административное решение, основанное на впечатлении от человека. Ничего неизвестно о том, что святитель Филарет выступал с критикой богословских идей святителя Игнатия, во всяком случае, профессор Кураев ни слова об этом не говорит.
Не стоило г-ну профессору вспоминать и о том, что святитель Игнатий даже в семинарии не учился. Это тоже не аргумент. Или аргумент? Если вспомнить о том, что господин Кураев – доктор богословия, то кто такой, по сравнению с ним, какой-то неучёный кавказский епископ? Ну неужели мы вот на таком уровне будем говорить?
В интернетовской полемике по поводу его лекции г-н Кураев попросту залепил одному из своих оппонентов: «Юноша, Вам не кажется, что в вашем нежном возрасте можно было бы не объявлять войну профессорам богословия?». Ах, отец Андрей, да когда же ещё объявлять войну профессорам, как не в самом нежном возрасте? Ведь, поседев, мы уже никому не объявляем войну, предпочитая лениво отплёвываться: «Я – профессор, а ты – помолчи». Ну неужели это достойно богослова: святых попрекать отсутствием образования, а молодёжь – возрастом?
А если богослов использует в качестве аргумента оскорбление, которое безбожник нанёс святому человеку? Кураев вспоминает о том, что Герцен назвал святителя Игнатия «сапёром во Христе». При этом Кураев не спорит с Герценом и вроде бы даже солидаризуется с этим оскорблением. Ведь кавказский епископ выступал против отмены крепостного права. Последнее просто неправда. У святителя Игнатия по отношению к крепостному праву была куда более сложная позиция, отнюдь не сводимая к однозначной поддержке. При этом самое непонятное – какое отношение вопрос о крепостном праве имеет к «болезни технаря в Православии»? Отец Андрей ничего не говорит о том, что именно технари в силу своих особенностей проявляют склонность к крепостничеству. Похоже, он уклонился от им же заданной темы лишь для того, чтобы сказать про святителя гадость.
По существу же вопроса в лекции Кураева есть следующее: «Пример технаря в Православии – святитель Игнатий Брянчанинов», и далее он утверждает, что святитель «учился у святых отцов через очки ученика артиллерийского училища». Ну… предположим. Наверное, любой богословский труд несёт на себе отпечаток мирского опыта богослова. Привело ли это к искажениям истины? Об этом было бы интересно поговорить, но именно об этом в лекции отца Андрея – ни слова. А в конце фрагмента глубокомысленное заключение: «Нельзя вырвать тезис из святителя Игнатия и сказать, что это учение Церкви». Какой именно тезис? Кто именно пытается представить его, как учение Церкви? Можно было надеяться, что речь как раз об этом и пойдёт, однако – увы.
Протодиакон Андрей Кураев не говорил, что «Игнатий Брянчанинов плохо понимал Православие». Но именно этот вывод с абсолютной логической неизбежностью следует из того, что он на самом деле сказал. И если кто-то ещё не успел приступить к знакомству с трудами святителя Игнатия, послушав эту лекцию, может так и не приступить, особенно если учесть, что книги святителя – отнюдь не развлекательные. Захочет ли молодёжь брать на себя труд изучения наследия святителя, имея лишь перспективу обзавестись «очками артиллериста»?
Не надо быть профессором богословия, чтобы понимать, что «даже у святых бывают ошибки». И со святыми можно полемизировать, но разве не требует такая полемика повышенной осторожности, максимальной выверенности суждений и определённой тональности – не просто уважительной, но и почтительной? Допустимо ли в рамках такой полемики с вальяжной барской снисходительностью балансировать на грани откровенного хамства?
А что касается «болезни технаря» и других «болезней в Православии»… Я, например, очень люблю протодиакона Андрея Кураева, хотя и не имею чести быть лично знакомым. Он симпатичен мне, как человек, я высоко ценю его книги и лекции. Считаю, что он занимается наиполезнейшим для Церкви делом. Но, мне кажется, что это дело из разряда духовно опасных. По складу мышления Кураев – полемист и полемист блестящий. Он боец по натуре, потому что полемика – это война. А кто на войне избежал греха? Ведь так хочется стереть оппонента в порошок. Легко ли рассчитать необходимое количество ударов и достаточную силу каждого из них? Любой полемист иногда становится избыточно жестоким, любого порою невольно заносит в горячке спора. Грань, которая отделяет обсуждение темы от осуждения оппонента – очень тонкая, её легко переступить, не заметив. Да ведь и оппоненты порою не церемонятся, изощряясь в оскорблениях. Не всегда выдерживают нервы, велик соблазн ответить «симметрично». Это неизбежные болезни полемистов, в той или иной степени, свойственные любому из них. На войне, как на войне. Но давайте будем помнить, что воин рискует своей душой ради спокойствия тех, кто тем временем сохраняет белизну своих одежд. И если отец Андрей берёт на себя тяжелейший и неблагодарнейший труд полемики с разного рода сектантами, раскольниками, носителями неких отклонений внутри Церкви – помолимся за него. На той лекции он выглядел очень уставшим.
А говорить о «болезнях в Православии», конечно, надо. Недавно перечитывал очень любимого мною блаженного Августина и встретил мысли, с которыми принципиально не согласен. Мне кажется, блаженный Августин страдал «болезнью юридизма», понимая некоторые положения христианства в категориях римского права – слишком упрощенно, линейно, без надлежащей глубины. В той или иной степени это свойственно всем западным богословам, что и привело в конечном итоге к расколу. Но бл. Августин – православный! Так же как православными были западные «юристы», легаты римский пап, твёрдо стоявшие на вселенских соборах в истине, а все ереси той эпохи пришли с Востока, не от «юристов», а от «философов». Римский «юридизм», которому свойственна ясность и логичность, не раз спасал философов-греков, склонных всё усложнять и запутывать, от ненужного суемудрия, уводящего в ненадлежащие дебри. А греки спасали западных богословов от недопустимой примитивизации истины, от склонности формулировать богословские положения в категориях римского права. Вот так мы и выравнивали друг друга.
Не так ли и с «болезнью технаря в Православии»? Не начнётся ли у нас «болезнь философов», если не будет «технарей»? И те, и другие порою склонны впадать в крайности, вызванные особенностями их светский специализации, но, оставаясь в пределах церковной ограды, они выравнивают друг друга, помогают друг другу эти крайности сгладить.
В Церкви вообще очень много «болезней». Есть, например, «болезнь обрядоверия». Иные придают «свечечкам» значение столь же преувеличенное, что больше напоминают огнепоклонников, чем православных. Но не будь у нас обрядоверческого перекоса, тот час начнётся другой – в сторону протестантизма, отрицающего все обряды, а они очень важны.
Уже, наверное, можно говорить про «болезнь хоругвеносцев» – церковных радикалов, которые порою буйствуют сверх всякой меры. Но, если не будет «хоругвеносцев», не впадём ли мы в ещё более страшную болезнь, апатично глядя на то, как вытирают ноги о веру наших предков?
Все мы вместе взятые: и «технари», и «философы», и «юристы», и «полемисты», и «обрядоверцы», и «хоругвеносцы» составляем полноту церковную. И все мы не без греха. У каждого свои «тараканы». А то, что в спорах, порою, переходим грань, избыточно горячимся, ярлыки норовим наклеивать – прости нас, Господи. О слишком важных для нас вещах говорим. Потому и горячимся.
Зачем вы оставили Церковь-Мать?
Недавно меня очень обидели, заявив, что я и мне подобные являются «прихожанами МП». До сих пор считал себя прихожанином одного из православных храмов Вологды и полагал, что принадлежу к Русской Православной Церкви. И вдруг оказывается, что я – из МП. Кто же записал меня туда без моего ведома? Оказывается, это сделали представители ПРКЦ и РПЦЗ. От пулемётного треска этих аббревиатур разум начинает мутиться, однако, пытаюсь вдуматься в прочитанное. Речь тут идёт об «…усилиях, которые прилагают «товарищи» из МП для борьбы с православными христианами, которых отличают от прихожан самой МП лишь неучастие в грехах сергианства и экуменизма и подчинение другой, канонически законной власти». Отсюда, кажется, следует ещё, что я «участвую в грехах сергианства и экуменизма». Ну ни чего себе заявочки…
Начинаю разбираться. Авторство процитированного текста принадлежит представителю так называемой «липинской общины», которая с недавних пор существует на окраине Вологды, в Лукьянове. Предыстория вопроса такова. В 2003 году клирик Вологодской епархии диакон Александр Липин был запрещён в священнослужении. Сам он утверждает, что «попросился за штат по вероисповедальным вопросам». Постепенно вокруг Липина собралась группа единомышленников, они объявили себя «прихожанами Православной Российской Катакомбной Церкви». Липин был «рукоположен во священника» неким катакомбным «епископом Афанасием». Потом эти катакомбники слились с остатками Русской Православной Церкви Заграницей – теми, кто не пожелал воссоединиться с Русской Православной Церковью Московского Патриархата. Ныне Липин и его последователи говорят, что являются «общиной Русской Православной Церкви Заграницей». Таковая же община есть в селе Ферапонтово Кирилловского района, где поселился «епископ Афанасий».
***
Откровенно говоря, эти стремительные перемещения из юрисдикции в юрисдикцию ничего не говорят ни уму ни сердцу простого православного человека. Вот, скажем, я – мирянин, не искушённый в церковной политике и канонических хитросплетениях. Я просто хожу в храм на богослужение, исповедаюсь и причащаюсь, поскольку это способствует спасению моей души. И вдруг появляются люди, которые говорят мне, что истинные православные должны быть с ними, что власть в нашей Церкви незаконная и много ещё чего у нас неправильно. Как мне в этом разобраться?
Думаю, надо хотя бы на время оставить казуистические препирательства и попытаться определить, что в этом споре является самым главным. Мне довелось поговорить с одним прихожанином липинской общины. Мы беседовали мирно и бесконфликтно, стараясь ничем друг друга не обижать. Я спросил:
– Вы признаёте действительность таинств, которые совершаются в наших храмах нашими священниками?
– Да, мы признаём ваши таинства.
– А тогда зачем вообще нужна ваша община? Если у нас правильно совершается литургия, если у нас настоящие таинства, зачем мне идти к вам?
Ответом мне было молчание.
Что ж, давайте вместе попытаемся ответить на вопрос, зачем мы пришли в Церковь? Какова наша цель? Думаю, никто из православных не станет спорить с тем, что мы пришли в Церковь для борьбы с личными грехами, для очищения собственной души. Для этого в Церкви есть таинства. И если у нас в «МП» таинства настоящие, как это признают сторонники Липина, так что же нам ещё хотеть?
Вот, скажем, я, православный мирянин, размышляю, а не податься ли мне в липинскую общину или к их ферапонтовским единомышленникам? Как и всякий разумный человек, я прежде всего задам себе вопрос: «Зачем?». Какая в этом будет польза для спасения моей души? Если на секунду предположить, что у липинцев тоже настоящие таинства, так и в этом случае я ничего нового не приобрету, потому что всё это уже имею, с чем и липинцы не спорят. Так зачем же всё-таки, кому и с какой целью нужна липинская община?
Но предположим вокруг Липина и «епископа» Афанасия собрались интересные люди, и я ради этого захочу ходить в их храм. Конечно, Церковь – не клуб по интересам, и храм посещают не ради увлекательных бесед, но предположим. Тогда передо мной встанет вопрос: а в этом храме настоящие таинства или имитация, театрализованное представление? Вопрос, важнее которого и быть не может для православного человека. А ответ зависит оттого, настоящий ли священник здесь служит? Спрашиваю липинского прихожанина:
– На сколько мне известно, Липин был лишь диаконом. Как он стал священником?
– Его рукоположил епископ Афанасий.
– А вы уверены, что Афанасий – настоящий епископ? На чём эта уверенность основана?
Ответом мне опять было молчание. Ну что ж, давайте вместе подумаем. Если Липина рукоположил не настоящий епископ, значит Липин – не настоящий священник, следовательно, он не имеет права совершать таинства. Значит, его прихожане – вне Церкви. Что может быть страшнее для православного человека?
Так как же нам разобраться, является ли Афанасий настоящим епископом? Он – из катакомбников, отсюда следует вопрос: есть ли у катакомбников апостольская преемственность? С ответом у нас будут большие трудности. Дело в том, что существует множество различных направлений и ветвей Катакомбной Церкви. У одних апостольская преемственность есть, значит, епископат – настоящий, имеющий право рукополагать священников. В других направлениях катакомбников – не епископы, а самосвяты, сами себя увешавшие панагиями и не имеющие никакого реального права считать себя епископами. К которым относится Афанасий? А не известно. Афанасий Савицкий появился на Вологодчине сравнительно недавно, у нас никто в деталях не знает, кто, когда и при каких обстоятельствах совершил его епископскую хиротонию. Сплетни воспроизводить не стану, но, согласитесь, что верить Савицкому на слово было бы крайне наивно и не осмотрительно. Разговор о том, как и на каких условиях Савицкого приняли к себе зарубежники – отдельный. Если вы начнёте этот разговор, мы с вами странностей не оберёмся.
Чтец Павел Липин (если не ошибаюсь, брат Александра Липина?) сам пишет о том, что «преемственность в ПРКЦ не имеет достаточного документального подтверждения…». Вот и я об этом. Не могу утверждать, что Афанасий Савицкий – ряженый. Для такого серьёзного обвинения у меня нет достаточных доказательствах. Но у вас так же нет и не может быть твёрдой уверенности в том, что он действительно является епископом. Значит, не может быть уверенности в том, что Александр Липин является священником, так же как и в праве самого Афанасия Савицкого совершать таинства. Мы можем потонуть в мелочных препирательствах по этому вопросу, однако, напомню, что я – не профессор канонического права (как, впрочем, и ни один из вас таковым не является). Я всего лишь простой православный мирянин. И у меня нет твёрдой абсолютной уверенности в том, что Афанасий Савицкий является настоящим епископом, а Александр Липин – настоящим священником. Следовательно, я счёл бы себя безумцем, если бы пошёл на ваше богослужение и приступил бы к вашим таинствам.
А теперь давайте оценим то обстоятельство, что Афанасий Савицкий принял титул «епископ Вологодский и Великоустюгский». Подойдём к вопросу с точки зрения простейшей логики. Не может быть в епархии двух законных правящих архиереев с одинаковыми титулами, так же как не может быть в области двух губернаторов, а в организации – двух руководителей. Если двое, значит, один из них – незаконный. Для того, чтобы считать законным своего епископа, вам придётся объявить все приходы РПЦ (МП) на территории епархии раскольническими группами. Но до этого вы, кажется, до сих пор не доходили? Или доходили? Неужели же считать весь Московский патриархат раскольнической группировкой? Это просто логический абсурд. Мы никогда и ни от кого не откалывались, никогда ни в какой раскол не уходили, всегда подчинялись тому церковному руководству, какое имели. Неужели считать, что наши сто приходов откололись от ваших двух? Но как такое возможно, если несколько лет назад ваших приходов ещё не было? И никакими катакомбниками у нас до недавнего времени не пахло, нам просто не от кого было окалываться. Неужели вы станете утверждать, что десятки тысяч православных мирян Вологодской епархии – все до единого – раскольники? Вы не имели это ввиду? Но вот ведь какой грустный выбор нам предстоит сделать: либо мы – раскольники, либо вы. После того, как ваш «епископ» стал называть себя «Вологодским и Великоустюгским» третьего уже не дано. Мы не можем существовать параллельно и признавать друг друга, так же как мэр города не может признать существование в городе ещё одного мэра, даже если любит его, как родного брата.
Не хочу навешивать ярлыки, но здравый смысл и простейшая логика вынуждают меня признать, что раскольники – именно вы.
***
Так же у вас нет ни малейших оснований называть православных земляков «прихожанами МП». Вы, как правило, имеете ввиду «Московскую Патриархию», а Патриархия – это орган управления Церковью. Употребляется в таких, например, словосочетаниях: «Журнал Московской Патриархии», «Управляющий делами Московской Патриархии». Я, к примеру, прихожанин одного из православных храмов и не являюсь прихожанином Патриархии, поскольку никогда туда не приходил. Даже не знаю, по какому адресу в Москве расположена Патриархия. Ни одному из представителей Патриархии не имею чести быть представленным и никакой личной ответственности за действия кого-либо из них не несу ни перед Богом, ни перед людьми. Не пытаюсь дистанцироваться от действий наших органов церковного управления, просто не имею дурной привычки совать нос в дела, находящиеся далеко за пределами моей компетенции.
А есть ещё Московский Патриархат. Это территория. Прихожанином столь обширной территории никто из нас так же не может являться при всём своём желании.
Путаница между понятиями «Патриархия» и «Патриархат» приводит не только к комическому эффекту, но и к затемнению объекта, в который вы направляете свои полемические стрелы. Например, Павел Липин пишет: «Русская Православная Церковь Московской Патриархии (далее – МП)…». А между тем таковой «МП» в природе не существует, потому что есть Русская Православная Церковь Московского Патриархата. Только в этом значении существуют приходы РПЦ (МП), но с Патриархатом полемизировать бессмысленно, ибо это территория. С Патриархией полемизировать, конечно, можно, но надо помнить, что Патриархия – не есть Церковь. Это сумма церковных управленцев. А мы, православные миряне РПЦ (МП), принадлежим к Церкви, а не к «МП», никакого участия в делах Патриархии не принимаем и никем не уполномочены осуществлять контроль за представителями Патриархии.
Между тем, чтец Павел Липин возглашает: «МП, поправшая каноны Церкви…». Ничего не могу по этому поводу сказать и не вижу причины, по которой это должно быть мне интересно. Я знаю, что священник, который служит в моём храме, по всем канонам имеет право совершать Божественную Литургию, и это пока ещё никто сомнению не подвергал. А вопрос о действиях представителей Московской Патриархии не имеет ни малейшего значения для моей духовной жизни.
Все православные, конечно, знают, что, приходя в Церковь, мы приходим «во врачебницу», то есть за духовным исцелением. А не за тем, чтобы следить за здоровьем врачей. Нам довольно знать, что мы пришли к настоящему врачу, а не к самозванцу, который прикрывается белым халатом. И если я, больной, пришёл в поликлинику, то к моему выздоровлению никакого отношения не имеет то, что в министерстве здравоохранения так же не все здоровы. Это и не удивительно – совершенно здоровых людей не бывает.
Поэтому, братья, совершенно не могу понять, что вам даёт эта борьба с «деятелями МП»? В чём тут польза для вашего духовного здоровья? Как это помогает вам бороться с собственными грехами? Как мирянин, я стараюсь следовать завету преподобного Амвросия Оптинского: «Знай себя и довольно тебя». Не надо копаться в действиях начальства – это же аксиома для любого православного.
***
Мы продолжаем разговор с прихожанином липинской общины. Спрашиваю:
– А в нашей Церкви что, по-вашему, не хорошо?
– Во-первых – сергианство.
– А кто вам сказал, что все пребывающие в РПЦ (МП) обязаны одобрять церковную политику митрополита Сергия (Страгородского)? Мне «сергианство» тоже не нравится, и за это меня из нашей Церкви никто не гонит. Да ведь это вообще не вероучительный вопрос, это политика.
– Но «Декларация» 1927 года, подписанная митрополитом Сергием…
– Я тоже отрицательно отношусь к этой декларации. Считаю, что, подписав её, владыка Сергий взял большой грех на душу. Когда кругом разрушались и осквернялись храмы, когда мирян и священнослужителей убивали только за то, что они – христиане, когда над Церковью нещадно глумились, митрополит Сергий писал, обращаясь к большевикам: «Ваши радости – наши радости» и т.д. Считаю, впрочем, что действиям владыки сопутствовало множество смягчающих его вину обстоятельств, но пока не об этом. Главное в том, что грех митрополита Сергия – его личный грех. Каким образом вся наша Церковь может быть повинна в личном грехе конкретного иерарха? Ведь мы же знаем, что от лица Церкви не могут говорить ни митрополит, ни патриарх, ни Синод. От лица Церкви может говорить только Собор. Итак, действия митрополита Сергия и других иерархов той поры, если они и греховны, то это их личные грехи, не порождающие никакого изъяна в Русской Православной Церкви. Да, может быть, и хватит нам уже плясать на костях митрополита Сергия? Всё это уже давно в прошлом.
– Но «сергианство» – это особый тип отношений между Церковью и государством, существующий и в наши дни.
– Вам не нравятся современные отношения между Церковью и государством? И мне не нравятся. Больше того скажу: ни в одну эпоху, ни в одной стране, ни одному христианину не нравились отношения между Церковью и государством. Идеальная модель церковно-государственных отношений существует только в теории, а в жизни она практически никогда не может быть реализована, поскольку действует человеческий фактор. Но это – политика, это не вероучительный вопрос, ради этого абсурдно уходить из Церкви. А что ещё вам у нас не нравится?
– Экуменизм.
– Я, так же как и вы, совершенно не приемлю те проявления экуменизма, которые нарушают каноны и затрагивают догматы Православной Церкви. Совместное богослужение с католиками и протестантами – это грех, ровно как и вообще совместная молитва с ними. Само утверждение, что между различными направлениями христианства нет принципиальной разницы абсолютно не приемлемо для православного человека. Так считаю не только я, но и практически все наши священники и миряне, с которыми я знаком. Этим мы не вступаем в противоречие с РПЦ (МП) и уходить из неё не собираемся.
– А вот митрополит N, когда был заграницей, говорил, что…
– Что бы он ни говорил – он говорил не от лица Церкви. Ещё раз вспомним о том, что ни один иерарх не имеет права говорить от лица Церкви. Даже если он был очень сильно не прав, мы в его неправоте участия не принимаем. Мы имеем право не соглашаться с тем митрополитом. По вопросам, которые не догматизированы, в Церкви допустимо иметь различные точки зрения. Это богословские мнения – теологумены. Всё это не причина уходить из Церкви. Поскольку догматических расхождений между нами нет, мы вполне можем оставаться в одной Церкви, имея разные взгляды на некоторые вопросы. Наша Церковь объединяет людей, которые, порою, очень по-разному смотрят на некоторые проблемы церковной жизни. Можно спорить, но разбегаться-то зачем?
***
Ещё о чём хотелось бы сказать, братья. Вы сейчас именуете себя: «прихожане Русской Православной Церкви Заграницей». По-моему, это очень горько. Ну вот я, к примеру, живу на своей родной земле, люблю Россию, покидать её не собираюсь. Предположим, я стану членом вашей общины, и тогда, значит, я стану членом «Церкви Заграницей». Мне такое положение кажется противоестественным и нестерпимым.
Ваша Церковь создана эмигрантами и для эмигрантов. Так неужели и вы сейчас считаете себя эмигрантами, людьми потерявшими Россию? Не могу это понять.
***
Прошу прощения у всех, кого невольно обидел своими выводами. Ваши выступления так же причинили мне немало личной боли, но у меня нет к вам претензий. Если мы действительно хотим найти истину – не будем считаться обидами.
Попытавшись честно, объективно и беспристрастно разобраться в истории вашего ухода из РПЦ (МП), я пришёл к выводу, что вы совершили гибельный для себя шаг, не имея на то никаких реальных оснований.
Вот создали вы «Православное братство преподобного Нестора-летописца». В самой идее этого братства лично я не вижу ничего плохого. Почему бы и не держаться вместе людям, имеющим свой взгляд на некоторые вопросы церковной истории и проблемы современной церковной жизни. Может быть, и сам вступил бы в ваше братство, если бы вы не оставили Церковь-Мать. У меня это в голове не умещается. Вы же все приняли святое крещение в Русской Православной Церкви. Наша Церковь породила вас для духовной жизни. Зачем вы её оставили?
Суд – не собор
1. Про боль
Кто из нас не испытывал боль, полемизируя с человеком, имеющим другие убеждения? И чем важнее для нас эти убеждения, тем сильнее боль. Казалось бы, правда очень проста, так почему же этот человек её не понимает, хотя вроде бы – не глупый? И почему он тоже самое думает про меня? Вот это-то и больно. А боль порою порождает смертельные обиды и желание причинить ответную боль. Так начинаются гражданские войны. Но ведь желание убедить другого человека в своей правоте – вполне естественно. Так что же делать? Стараюсь помнить несколько нехитрых истин. Если человек думает иначе, чем я, это ещё не значит, что он виноват передо мной. И если мне причиняют боль, это не значит, что мне желают зла. Не надо обижаться на того, кто делает больно, он может быть хирургом. И, как всегда, у меня не хватает сил на то, чтобы следовать этим истинам.
Вот узнал, что люди, ещё недавно принадлежавшие к нашей Церкви и продолжающие считать себя православными, подали в суд на священника. Душа сразу закипела. Православные с православными в гражданском суде отношения выясняют, доказывая, кто из них православнее. Вам не кажется, что это ужасно, дорогие братья и сёстры? Священника вынудили перед судом отстаивать своё право на проповедь. Разве это не причиняет боль любому православному человеку? Но давайте забудем про боль и постараемся разобраться в этом деле объективно и беспристрастно. Остановимся для начала на юридической стороне вопроса.
2. Правда человеческая
Итак, 29 жителей Вологды и Кирилловского района обратились в Вологодский городской суд с иском к протоиерею Алексию Мокиевскому, священнику Воскресенского Горицкого женского монастыря. Поводом послужило интервью, которое отец Алексий дал Кирилловской газете «Новая жизнь». В интервью он критикует тех, кто ушёл из Русской Православной Церкви Московского Патриархата, создав две свои общины в Вологде и Ферапонтове.