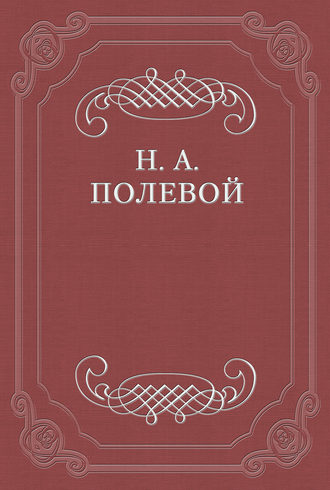
Николай Полевой
Клятва при гробе Господнем
Глава VII
Кто против Бога и Великого Новагорода?
Старинное присловие
Силен, славен, могуч, горд своею мощию был в это время Великий Новгород; далеко расширял он пределы своих областей, владел отдаленною Печорою, Мезенью, Пермью, Югрою; не больно кланялся Москве, смело ссорился с Литвою, крепко бился с ливонскими рыцарями, держал под рукою Псков, торговал с Ганзою и был пристанищем гонимых князей из Литвы, из Руси и даже из Заморья. Обширностью жилья едва не равнялся он Москве и более Москвы славился великолепием храмов Божиих.
Таков казался, но не таков в самом деле был Новгород Великий. Правда: вечевой колокол гремел на Софийской площади и вольные новгородцы гордились своею независимостью, богатством торга, крепостью мечей, красотою дев; но гордость эта походила на тщеславие богача, который не считает своих сокровищ, потому что боится не досчитаться многого. Уже прошло время, когда один только Новгород был приютом свободы на Руси, и все другие области стенали под гнетом ордынской власти; уже Москва, поглощавшая все окрест себя, возраставшая силою и крепостью, несколько раз предписывала Новгороду устав и закон, и семьдесят лет прошло после первого урока, данного новгородцам Димитрием Донским[154], когда он стал табором под самыми стенами новгородскими, собрал тяжелый черный бор[155] и едва было не разрушил новгородского самосуда[156]. Часто после того забывали новгородцы урок Донского. Но нередко Москва и напоминала им этот урок, и нередко, в самом сильном разгаре страстей, имя Москвы заставляло вольный город хмурить брови и умолкать самые хвастливые его угрозы. Только нерешительная политика Василия Димитриевича, бедствия Москвы в его княжение и хитрая сила Витовта спасали Новгород: Витовт не хотел предать Новгорода воле московской. Зато Литва, неоднократно и тяжко, налагала на Новгород свою руку при Витовте и после него. С Ливониею[157], правда, не трусвд Новгород, но ливонские крестоносцы сами забыли уже тогда силу предков, и меч железного Рорбаха ржавел бесполезно, когда новгородская удаль буйно воевала Колывань или Куконос[158] (Ревель и Кокенгузен).
В то время, о котором хотим мы теперь говорить, Новгород особенно находился в большом смятении. С одной стороны, Великий князь московский, смело усиливая власть свою, губя род дяди своего Юрия, лаская и страша других князей, беспрерывно воздвигал грозные очи свои на Новгород. Недовольный отдачею ему черного бора с Торжка, он требовал закамского серебра, заволочских мехов и особливо изгнания врагов своих, потомков суздальских князей. Новгород гордился тем, что дал прибежище остаткам сего знаменитого рода, и князья Василий Георгиевич и Феодор, брат его, были наместниками в областях новгородских. С другой стороны, Литва, отдыхавшая под правлением Казимира Ягайловича[159] от безумного тиранства Сигизмундова[160], требовала изгнания литовских князей, потомков враждебного рода Ольгердова, также приютившихся в Новгороде, хотела повиновения, податей, дани. И Москва, и Литва готовы были приняться за мечи и только выжидали, кто начнет прежде.
Но грознее всего казалась туча, подымавшаяся в Ливонии. Герцогу Клевскому, Бог знает с чего, вздумалось ехать на поклонение Святому Гробу в Иерусалим через русские земли; но смиренный пилигрим сей воротился в Ригу из Новгорода, разжаловался на обиду новгородцев; рыцари ливонские зашумели, объявили себя защитниками герцога и сказали крестовый поход против вероломных неверных, проклятых новгородцев. Хвастливый Финке фон Оберберген, магистр Ливонский, не хотеш слушать оправданий новгородского посла, велел раздета его донага и выпроводил на паршивой кобыле из Риги. В Пруссии, в Дании, в Швеции готовились на войну; рыцари отвсюду спешили в Ливонию: из Германии, Италии, Франции; заранее делили уже рыцари новгородские области, хотели идти морем и землею; пели молебны об успехе оружия; папа проклинал новгородцев; Ганза обещала им денег на издержки.
Вольный город кипел в это время, как смоляная лучина: на море-окияне. Сообщники Литвы, Москвы, суздальских князей, рыцарей, люди житые, бояре, духовное чиноначалие, людины – всякий говорил, спорил, подавал свой голос; вече волновалось; доходило до драки; малые вечи беспрестанно собирались в разных Концах Новгорода.
Слыша о бедствии детей Юрия, столь бесчеловечно гонимых московским князем, Новгород видел в этом деле средство против Москвы, предлагая помощь и убежище Шемяке. Кроме негодования, каким исполняла сердца новгородцев жестокость Василия, рука и ум Шемяки могли служить Новгороду крепким-пособием. Если бы удалось Новгороду посадить Шемяку на великокняжеский престол, то благодарность обязала бы его блюсти вольность новгородскую. Но, оказав и меньшую услугу, только помирив его с Москвою и посадив на сильном уделе, Новгород имел бы в нем верного союзника. Даже если бы Шемяка остался князем-наместником в Новгороде, то его род, его ум и храбрость могли примирять раздоры, и в имени Шемяки могла сиять для Новгорода звезда спасения и крепкой силы.
Вот почему навстречу Шемяке выехали лучшие люди новгородские, и весь Новгород радовался, видя в стенах своих сего знаменитого изгнанника.
Через месяц после смерти Димитрия Красного, в Новгороде, на Великой улице, в чудном доме вдовы Исаакия Борецкого, под вечер собралось несколько человек. Собрание происходило в узорчатой, богатой горнице, где видны были повсюду золото и серебро; около Стен стояли лавки, обитые красным сукном, с золотыми позументами, и дубовый, резной стол покрыт был дорогою: фламандскою скатертью.
Вдова Исаакия Борецкого была Марфа Посадница, етшь знаменитая впоследствии, во время падения Новгорода. Теперь она находилась еще в цветущей юности. Дояь посадника почетного, жена незабвенного Исаакия Борецкого, Марфа обреклась седети по муже, когда Исаакий скончался, управляла бессчетным богатством, какое досталось после мужа ей и детям ее, сыновьям Антону; Феликсу, Василию и Димитрию. Славная красотою, умом, мать четырех доблестных сынов, обещавших быть подпорою вольного города, Марфа составляла главную опору тех новгородцев, которые враждовали против Москвы, стеснявшей торги и прибытки новгородские и тем вредившей собственной корысти Марфы.
В этот вечер Марфа была одета великолепно, в жемчуге и самоцветных каменьях; несколько знатнейших новгородцев было у нее в гостях; на столе стояли дорогие чары с фряжскими винами и лакомства волошские[161] и немецкие. Но видно было, что не гульба, а дело занимало гостей и хозяйку. В числе гостей был между прочим старик, знакомый нам; но его называли здесь уже не Иваном Гудочником, но Иваном Феофиловичем; он не забавлял других рассказами и песнями, но важно сидел на почете с другими.
– Ну, слава Богу, – сказал один из гостей, – ты радуешь меня, Иван Феофилович, известием, что твой Шемяка ожил на раздолье новгородском. Признаюсь, изумился было я, увидя этого лихого князя, бледного, мрачного, задумчивого, и подумал: тебе-то и бороться с Москвою! На тебя-то и надеяться Новгороду!
«Сегодня на пиру у Кириллы Григорьевича снова расцвел мой Шемяка, как называешь ты его. Впрочем, осудишь ли Шемяку, посадник, если вспомнишь все, что я тебе рассказывал? Тяжело перенести то, что перенес в последнее время Шемяка!»
– Знаю, что и самим спасением своим обязан он тебе, и вот это опять наводило на нас грустную думу.
«Я думаю, Осип Терентьич, – сказала Марфа, – теперь уже не к чему вспоминать о том, что прежде думано и гадано. Теперь надобно только ковать железо, пока оно горячо, а не сбивать себя с толку пустыми опасениями…»
– А, напротив, других уверять в том, в чем и сам еще не совсем уверен? Вот то-то и не надобно, матушка. Лучше высказать другу, что ни есть за душою.
«Да что же у тебя за душою? – спросил Гудочник. – Положим, если я и спас Шемяку, что тут за бесчестие для князя?»
– То, что ведь Новгород берется за его дело, надеясь найти в нем мужа совета и меча; но как ни гляжу я на дела Шемяки, – воля твоя! А куда безрассуден и молод умом этот князь!
«В чем же находишь ты его молодость?»
– Как мог он – положим, что и следуя совету отца своего – отдать великое княжение своему врагу?
«Да если отец ему так велел?»
– И не спорю. Надобно ж было ему обезопасить себя, а не отдаваться врагу связанным по рукам и по ногам.
«Скажи мне сперва, посадник: честно ли поступил Шемяка в этом случае?»
– Не бесчестно, да бессчетно. Не негодуй, матушка, Марфа Ивановна. Сама ты знаешь дела торговые: если в них держаться одной правды, то с кошелем находишься по миру! Так и в делах земских.
Гудочник дал знак Марфе и начал разводить плодовитый рассказ о политических отношениях Москвы и князей после кончины Юрия, о буйном самовластии Косого, о последовавшем вероломстве Василия. Смешанный словами его, новгородец не знал, что сказать.
– Ну, ну! положим и так, – заговорил он, – но как ему было не подкрепить брата, отдать его на добычу Москве, поехать самому в пасть волку? Потом обольститься обманом и броситься на драку с татарами, не зная, что к нему пришли в то время незваные гости и рос-пили его княжеские свадебные меды?
Опять красноречиво пустился Гудочник в рассказы: блестящим образом выставлял как великую добродетель доверчивость Шемяки, чернил вероломство Василия, изъяснял, сколь полезен будет для Новгорода владетель Москвы, Шемяке подобный, и как опасно дать усилиться Василию.
– Вам опасна только Москва, – продолжал он, – добрый Казимир[162], когда Владислав[163] беспрестанно задает ему при том работу своим ненасытным честолюбием, когда он собирается воевать турков, владеть чехами и уграми, и не подумает угнетать Новгород. Вот разве ливонские крыжаки[164] вам опасны? – примолвил Гудочник усмехнувшись.
Все засмеялись: «Мы пошлем на них свою волость Плесковскую: не стоит самим новгородцам рук марать с этими белыми епанчами».
– Что с них возьмешь, если и побьешь их? – сказал другой собеседник. – Голь, да и только! Замшанные душегрейки их и на рукавицы новгородцам не годятся, а брони так малы, что и полновгородца не влезет в такую кольчугу, где три крыжовника помещаются…
«Сухопарый же народ! Но что слышно об их приготовлениях? Смотри: не пугнула бы вас Ганза, да не Проклял бы папеж римский!»
Снова хохот: «Да! Вступится твоя Ганза, когда у нее в Новгороде столько заложников и залогу? Эти бусурманы за гривну продадут нам всех своих крыжовников! Вот папеж так опасен. Ах! он окаянный: пишет, слышь ты, грамоту, где называет нас идолопоклонниками и уверяет, что мы жидовской да махметовой веры!»
– Ах, он обливанец!
«Ксенз бритый!»
– Крыжовник краснолапый!
«Ну, – сказал Гудочник, стараясь возобновить прежний разговор, – из всего и выходит, что вам надобно только Москве спеси посбить, а Шемяка-то какая славная для этого дубина! Вы говорите, он легкомыслен, доверчив: тем лучше, – из него что хочешь, то и делай. Он храбр, он добр, он разгульлив. Хе! подраться ли, попить ли… что твой новгородец! Мне что: ведь не детей с ним крестить; мне только отдай он Суздаль моим князьям».
– А что, Иван Феофилович, скажешь ты про своих князей, ась?
«Об них сам я ничего не скажу и другим сказать ничего не дам», – отвечал Гудочник угрюмо.
– Э! ты уж и сердишься! Я только хотел домолвить, что… хм! ребята, кажется, добрые…
«Обещают снять все пошлины с хмеля, когда будут владеть Суздалем», – сказал один собеседник.
– Вот и видно, что ты браги сам не любишь: все как бы хмелину с рук сбыть да пустить в продажу! – примолвил другой.
«Что много толковать! – сказала Марфа. – Решено: Новгород помогает Шемяке. Похлопочите-ка вы завтра, как вече-то вам уладить».
– О! за этим дело не станет… Что ты, Осип Терентьевич, все задумываешься?
«Признаюсь вам, куда не любится мне это, как говорят о войне с Москвою. Так вот сердце и вещует недоброе – уж не нажить нам добра от наших ссор с Великими князьями!»
– Мне кажется, скоро новгородские мужи станут учиться бодрости у слабых жен, – сказала Марфа с негодованием. – Вещеванью сердца верить – все равно что у кукушки о годах спрашивать.
«Ты знаешь, Марфа Ивановна, трусил ли я когда-нибудь. Но после того, как видел я погибель бесстрашного Айфала Никитича; видел, что если нет благословения-Божия, то никакая храбрость и сила не помогают; с тех пор, как этот Железный Кулак погиб в бою с булгарами, а я просидел после того в полону три года, в тяжком рабстве…»
– Давно ли было это? – спросила насмешливо Марфа.
«Да, теперь вот о Семенове дне будет лет двадцать семь… Нет! более…»
– И ты все еще не опомнишься от испуга, Осип Терентьич?
«Ох! нет, нет!»
– Пора одуматься! Да и кто тебе говорит, что благословения Божия нет на войну с Москвою? Не за то ли и Айфал твой погиб, что продавал Новгород Москве? Такие дела не благословляет Господь, когда предает человек свою родину либо робеет и трусит. Он всегда благословлял нас, когда мы крепко и правдиво становились за Святую Софию; благословлял, когда отцы наши посадили Ярослава на киевском престоле[165], когда с Мстиславом Удалым возвратили они престол Константину[166], когда отстояли они Святую Софию от тьмы войск Боголюбского[167], когда под Орлецом смиряли гордость Василия Димитриевича[168], когда с Александром гоняли шведов на Неве…
«Не спорю, не спорю, матушка; но если недоумение, налагаемое на душу человека, не есть глас божий, то разве не боишься ты предвещания, какое недавно было вашему владыке? Тут уж нечего нам мудровать, а только молиться: спаси, Создатель, и не дай нам дожить!»
– Какое предвещание? – спросил Гудочник.
«Ты не слыхал, Иван Феофилович, что у великого князя недавно родился сын Иоанн!»
– Слышал.
Вот в тот самый час как он родился, в Клопском монастыре некий блаженный муж, именем Михаил Юро-дец… да ты его знаешь!.. (Гудочник наклонил голову в знак согласия) ударил в колокол и начал клепать сильно. Сбежался народ, испугался и повел блаженного ж владыке Евфимию. Пока вели блаженного мужа, он вопил нелепым образом, глаголя велегласно: «Горе Новуграду! Гибель Новуграду! Преходит Новгород!» Приведенну же ему ко владыке Евфимию и не престающу кричать, вот что сказал он: «Знайте, новгородцы, что в сей день родился в Москве у великого князя сын, именем Тимофей, а сущее имя ему: Иоанн. Сей победит грады и народы, прославится до конец земли, спасет православие и Новгородом преобладает: гордыню вашу упразднит, в свою волю приведет вас, самовластие ваше разрушит, самовольные обычаи ваши изменит и за ваше непокорство и сопротивие многу беду и посечение, и плен над вами имать сотворити, а богатство ваше н села восприимет…»
– Только? – спросил Гудочник, когда все замолчали после сего рассказа.
«Нет, не только! – сказала Марфа. – Если, в самом деле, богу угодно разрушить силу и славу Новгорода, то да совершится сие на костях наших и на пепле домов наших! Я постыжду вас – я первая пойду умирать, и вот у меня четыре сына: пока Иоанн вырастет на гибель Новгорода, они также вырастут на защиту отчизны, и Марфа обречет их на погибель. Победа и слава в руце божией; но честь и жизнь в воле человека, а мертвые не стыдятся!»
– Мертвые срама не идут! – воскликнули все, воспламененные речами Марфы. – Так, так, жена доблестная! ты стыдишь нас…
«Оно так, да не так…» – проворчал Осип Терентьевич.
– Стыдись, новгородец! – воскликнул Гудочник. – Смотри на меня: я пережил родину свою, но не пережил мысли положить за память ее свою голову, и пока жив буду я, один суздалец – Суздаль не погиб!.. Постой: мне еще пришла мысль вот какая: кажется, Михаил Юродивый родня, по женскому поколению, Великому князю московскому?
Замечание Гудочника поразило самого Осипа Терентьевича. Новгородская кровь разыгралась, и, при удвоенных чарах, забыто было и поедвещание и опасение. Гости пошли, весело напевая:
Не бывать Торжку Новым-городом,
Не бывать Новугороду Торжком;
Не поить москвичам коней в Волхове,
Не владеть Новым-городом Москве!
Гудочник увернулся от них и возвратился к Марфе. «Бегу на пир к Марку Памфильевичу, – сказал он, – и воротился только спросить тебя о Владыке… Что ты загрустилась, Марфа Ивановна?»
– Могу ли не грустить, слыша, что говорят новгородские сановники! Как не сбыться предвещанию об Иоанне!… Ох! если бы я могла передать им хоть мою, бабью душу!..
«Все Бог исправит, и от камения воззовет глас спасения. Скажи мне о Владыке».
– Я сладил с ним, – отвечал один из новгородцев, – и теперь остался нарочно здесь, сказать тебе, что Владыка завтра благословит Новгород – только не воевать Москву, но подать помощь бедствующему князю, и быть примирителем князей враждующего рода Димитрия Донского, да отвратятся бедствия от земель русских!
«Ну, в словах не велико дело, только бы благословил. Прощайте!»
Пока у роскошной хитрой Марфы пировали почетные сановники, молодежь боярская почетная и лучшие воители гуляли у Марка Памфильева, купеческого старосты. Туда отправился Гудочник, и здесь было совсем противоположное зрелище: Шемяка находился тут первым гостем и, разогретый удалью, вином, надеждою, пленял своим разговором, молодецкою поступью, обещанием восстановить славу Новгорода битвами. О политике не думали, выгод не рассчитывали. Хозяин, первый враг московский, через тридцать лет потом погибший в тюрьме московской вместе с Марфою, не жалел вина и ласковых слов, и шумная беседа оживлялась громкими песнями.
На другой день, ранним утром, зазвонили на вечах по всем Концам новгородским. Народ сбегался на них толпами, и после благовеста поздней обедни ударили в звонкий вечевой колокол перед соборным храмом Святой Софии. По всему городу раздался и зазвенел серебряный его голос, и на призыв его устремились к Святой Софии с концовых веч. Народ наполнил всю Софийскую площадь и шумел, будто рой пчел, встревоженных в улье. Явились посадники. Прежде всего возвестили они о победе, какую Бог даровал Новгороду над ливонскими крестоносцами: воеводы новгородские разбили гордого мейстера[169], так что он едва мог убежать сам.
Радостный шум раздался при сем известии в толпе народной. «Непотач Крыжовникам! – кричали разные голоса. – Знай наших! Спасибо воеводам!»
«Уведайте, люди новогородекие, о другом важном деле: притек к нам в Новгород князь углицкий, Димитрий Юрьевич, и бьет челом господину государю Новугороду, и всем пяти Концам его, и преосвященному архиепископу Евфимию, Великого Новаграда и Плескова Владыке, посадникам, тысяцким, боярам и житейным людям. А просит он, князь, себе помочи; то, как вы рассудите, люди новгородские: давать, или не давать?»
– Начинай, ребята! – сказал посадник Славянского Конца – и громкий крик: «Помогать! Давать! Новгород искони не отказывал добрым людям!» – раздался с этой стороны.
«Славянщина загорланила, – говорили в другой стороне. – Ну! не уступать, гончарцы!» И еще громче Крик: «Долой, долой, не надо, не надо! Новгород не хочет!» – раздался с сей стороны от Гончарного Конца,
– Что там: о чем посадник говорит? – спрашивал старик, теснимый в толпе.
«А Бог весть! О немцах что-то мне послышалось – да не теснись ты, рябая харя!»
– Молчи, долговязый!
«Чего молчи: разве я не новгородец?»
Жаркий спор восстал между тем подле посадника.
– С чего взяли говорить о помочи князю углицкому? – кричал один толстый старик. – То ли время теперь, когда нам не знать куда оборотиться: се литва, се немцы, се шведы! Помогать пожалуй, да только как?
«Разумеется: мечами!»
– Мечами? Воевать с Великим князем?
«Кто его называет Великим князем? Для Новгорода он просто: московский князь Василий Васильевич, недоброхот новгородский».
– А князь углицкий просто князь Димитрий Юрьевич, одного гнезда яичко, из которого вороги на нас выводятся!
«Если Бог пособит ему сесть на московском княжении, он обещает нам великие льготы и милости».
– Вам – так; да вы-то еще не весь Новгород!
«А в вашей чести разве целый Новгород помещается?»
– Держись за свою покрепче.
«Люди новогородские! как нам не заступиться за бедствующего князя, когда безбожная родня его, притеснитель наш, князь московский, зло неслыханное сотворилз вырезал очи родному брату его; уморил другого брата его; захватил его невесту; отнял у него удел; пожег и попленил его волости; держал его самого в темнице…»
– По мне кусайся они между собой, как хотят – что нам вступаться!
«Экое зло сотворилось! Ужели Бог попускает такие дела без наказания!»
– Неправда, люди добрые, неправда! У князя Василия Васильевича Юрьевичи отнимали отцовское наследие, вопреки законам Божеским и человеческим; искали его смерти, садили его в темницу, возмущали Москву, и Бог наказал старого Юрия смертию, а Димитрий Юрьевич ехал в Москву, с тем, чтобы зажечь ее, да грабить, извести Василия и род его. Василий простил ему, посадил его на княжество, на Коломну; но Димитрий бежал, передался к проклятым татарам и теперь возмущает нас! Правда: Василию, брату его, вышибли очи, да это случилось в бою-в тут разве разбирают, во что бьют? «Нет! ему ножом в темнице вырезали очи»,
– Вздоришь: попала стрела…
«Разве две стрелы, потому что у него обоих глаз теперь нет. Подумайте-ка! каково ему теперь не видеть света Божьего?»
– Ну, что же? Садись он, да пой Лазаря!
«Тут думать о пользах Новгорода надобно, а не о княжеских глазах! Ты как полагаешь, сосед?»
– Я ворожу пальцами – надобно помочь, аль не надобно?
«Тебе стыдно молчать, Яков Петрович!»
– Да, куда уж тут нам соваться: и без нас толков не оберешься!
«Мы все глядим на то, что перед глазами торчит, а не подумаем как бы на будущее. Дмитрий добр и храбр, Василий зол и труслив; Дмитрий все обещает, Василий только и посылает к нам за данью, да за пошлинами».
– Верь ты этим добрым! Все они хороши и ласковы, пока в загоне; а только что оперятся, так и начнут зубы скалить на наше добро! Господи ты, Владыко! чему и завидовать-то: торжишки стали худы, закамские сборы хоть брось – на расходы не выручишь…
«Ну, что тут много толковать: пусть Димитрий Юрьевич остается у нас наместником; новгородских калачей с него достанет».
– Так, ты думаешь, Москва и даст нам свободно сделать его наместником? А между тем Галич, Углич, Бежецкий Верх, она все возьмет, и от нашего недоброхотства иразгласия усилится вдвое.
«По-моему: не добиваться того, чтобы Димитрия посадить на московский престол, а только пособить ему поворотить свои волости… Да уймите народ: что они вопят без толку – не дадут порядком подумать!»
– Что вы морочите нас, посадник и люди именитые! как будто в самом деле хотите нас спрашивать! Ведь мы знаем, что у вас уже на деле все положено. Говорите прямо. Нечего попусту народ томить – иной ведь не завтракавши с раннего утра!
«Эдак он выехал! Посадник мне не приказ: я сам себе указ. Сегодня он посадник, а завтра я!»
– Да, так ты и глядишь, что тебе быть новгородским воеводой!
«Хотим знать решение Владыки; пусть докончит и скажет, от его воли не отступимся!»
– Да где денег взять? На полатях у Святой Софии гривны нет!
«Куда же деньги девали? Давно ли ларь запереть было нельзя: так был он набит!»
– Держи мошню – было, да сплыло!
«Одно буду говорить; и честь, и польза мовагорода требуют помочь Димитрию Юрьевичу; этим только приобретем мы крепкого союзника и твердую опору, восставим и древнюю славу, что Новгород никогда не отказывал бедствующим князьям, и тем становился выше их…»
Так шумело новгородское вече, при раздававшихся при том общих и громких восклицаниях, которые противоречили одно другому.
Сильно зазвонили в вечевой колокол – знак молчания. Все умолкло и, при звоне во все колокола, из Софийского собора шли на площадь многие знатные люди. Между ними отличался поступью, ростом и богатством одежды Шемяка. Ему давали широкую дорогу; он прямо дошел к посаднику, окинул собрание веселым взором, поклонился раз – все шапки полетели с голов; поклонился другой – одобрительный говор пролетел по собранию; поклонился в третий – и все слилось в один клик: «Да здравствует князь Димитрий Юрьевич!»
– Молодец, молодец!
«Да, он и не нищим является к нам: у него кожух-то получше нашего. А милости еще просит у нашей голости!»
– Кланяйся, кланяйся пониже – сдадимся мы на твои поклоны!
«Молчите, молчите! Князь хочет говорить!»
– Люди новогородские! – громко сказал Шемяка, – сын друга вашего, Юрия Димитриевича, обиженный злым братом, надеется на вашу помощь. Неужели нет между вами молодцов, удальцов, лихой вольницы, у которой меч просится на разгулье, душа на волю? Ко мне, ко мне! Денег нам не надобно; условий между нами не нужно! Что добуду, то разделю братьям новгородцам, и вот вам святая София, что в душу мою никогда не закрадется ни лесть, ни вражда. Я только теперь молился у гробов праотцев моих и лгать не стану!
«Исполать, исполать, молодцу! Ох! удалая голова! Знат, что сказать!»
– Что он говорит? Мне ничего не слышно?
«Говорит, что Москву поставит ниже Новгорода»,
– Нет! что каждому, кто с ним пойдет, подкует он коня золотыми подковами. Он обнимает князя Василья Георгиевича – Эх! ничего не слыхать!
«Князь! – говорил Шемяка, крепко обнимая суздальского князя, – ты испытал уже дружбу новогородскую! Я зову тебя с собою; отдам тебе родовое наследие, коли нам Бог поможет! Заверь же новгородских людей, что в словах моих душа говорит, и не помочь мне – будет им стыдно!»
– Стыдно! – воскликнул князь суздальский. – Товарищи! Меня ли вы не знаете? Со мной ли не хаживали вы на ратное дело? – Вам, мои товарищи, говорю – стыдно!
«Стыдно!» – загремело множество голосов.
– Звони в колокол – вече решает; помогать, не жалеть ни живота, ни казны!
«ПоСтой, постой! Владыка еще ничего не решил!»
– А вот идет его тысяцкий. Что он говорит? «Владыка решает так, люди новогородские: подать помощь благородному отродию князя Великого Юрия Димитриевича, и при благословении Святой Софии, быть примирителями враждующего рода князей московских, да отвратятся бедствия от земель Русских!»
– Владыко решил! Звони в колокол!
«Стой, стой! Тысяцкий подкуплен!»
Громкий крик послышался в то время с нагорной стороны кремля новгородского. Казалось, тысячи голосов кричат там: «Здравия князю Димитрию Юрьевичу! Война, война Москве!»
Это была самая удалая молодежь, сбежавшаяся подкрепить и решить дело. Между ними находился Гудочник, и он вел их на вече, но зя теснотою никак не могли они пройти на Софийскую площадь.
– Кто там, вне веча, решает дело? – закричали многие, устремляясь из кремля.
В это время зазвонили в вечевой колокол, в знак согласия. Буйные противники Шемяки, оставшиеся в кремле, закричали, зашумели. Спор разгорячил Есех; за кремлем дошло уж до драки, и толпу, выбежавшую с веча, погнали вдоль кремля; защитники Шемяки устремились И на Софийскую площадь. Здесь Гончарский Конец единодушно стоял и кричал: «Не надо войны с Москвою!» От слов и тут дошло до кулаков. Смятение сделалось ужасное. Шемяка был в недоумении. В первый еще раз видел он, как наяву волнуются и кипят страсти народные. Привыкший повелевать, он не понимал, как можно было управлять подобным народом.
Тогда из Софийского собора явился маститый старец, Владыка Новгорода, архиепископ Евфимий. С животворящим крестом в руке, он шел величаво и смело в самую середину буйствующей толпы – и все умолкло; драка и бой прекратились; все стали почтительно, теснясь лобызать благословляющую руку архипастыря.
– Дети! – произнес он твердым голосом, – несть на том благословения моего, кто покорится врагу человек ческого рода, диаволу, отцу всякия вражды! Благословление мое на том, кто пребудет мирен и покорен властей! Несте ли чли: несть власть, аще не от Бога? Тем же, противляяйся власти – Богу противляется!
«Владыко! – вопили гончарцы, – нас заводят в крамолу с Москвою, хотят воевать против Москвы! Мы изгибнем! Смилуйся над бедными – будь спаситель наш, внемли воплю и стенанию! Пока люди велии и богачи тучнеют золотом и сытостию, мы яко стени шатаемся, голодны, холодны, наги, босы, продаем детей, да не погибнут они от глада! Нет правды ни в судах, ни во граде: судии криво судят, лжесвидетели пьют кровь нашу, честь Новагорода погибла, и соседи посмеиваются нам!»
– Роптание тяжкий грех перед Богом! Зачем ропщете и молчите? Никому не закрыта дверь храмины моей – прииди, скажи мне, посаднику, тысяцкому. Зачем буйствовать?
«Мы не буйствуем; но войны с Москвою не хотим…» – Что с ними толковать, сволочью голодною! Благослови, Владыко, уговорить их посильнее!
«Прочь, окаяннии невегласи! А вы, дети мои; кто говорит о войне с Москвою? Новгород будет только посредником, примирителем вражды. Или не ведаете слов Господа: блаженни миротворцы, яко тии сынове Божий нарекутся?»
– Мы не прочь от посредничества и миренья; да ведь этого Москва-то не послушает, и придется разделываться с нею мечами!
«Тогда единый поженет тысячи, и от тысячи побегнут, тьмы – будет уже не война, но казнь Божия за гордыню Москвы!»
– Так ли полно…
«На Москву, на Москву! Да здравствует Димитрий Юрьевич! Гибель гордыне московской!»
Этот клик заглушил ропот недовольных; одни теснились к Шемяке, другие к архиепископу, благословлявшему святым крестом, и вдруг – совершилось неслыханное чудо!
Новая церковь, во имя Иоанна Златоустаго[170], воздвигнутая архиепископом над вратами владычного дома и только что отстроенная, и еще неосвященная, страшно затрещала, кирпичи попадали с вершины ее… Народ, в ужасе, бросился во, все стороны, крича: «Церковь валится!» Треск умножался – раздался глухой гул, как будто лопнуло что-нибудь страшное под землею, пыль и прах взвились облаком, закрыли церковь, затмили небо, и когда ветер развеял облако пыли – церкви уже не было: она развалилась до самой подошвы и завалила обломками и щебнем двор архиепископский.
Все безмолвствовали. И среди сего безмолвия увиде-ли юродивого человека. Он спрыгнул с развалин, сел верхом на метлу, которую держал в руках, и с хохотом поехал на ней между народом. Рыжие волосы, опаленная борода, запачканное лицо, лоскутья, в которые был он одет, делали его чем-то отвратительным и ужасным, похожим на привидение.
– Ха, ха, ха! – кричал он во все горло, – Ха, ха, ха! Ай, Владыко Ефим! продал душу за алтын, Шемяке, гуляке, галицкому забияке! Горе Новгороду, худо Новгороду, плохо вам, плотники, худо вам, смутники! Заметет вас Москва метлою – вот этак, вот этак заметет – засыплет ваши домы горячею золою! Ай! озяб, озяб – погреться хочу – зажигай Москва Новгород с четырех сторон, с пяти концов – долби долбней – купай в Волхове!
Он исчез в толпе, прежде нежели успели одуматься. Архиепископ первый прервал молчание.
– Если слова его о гибели Новгорода также справедливы, как хула на меня – се, не Божие знамение, но диавольское наваждение!







