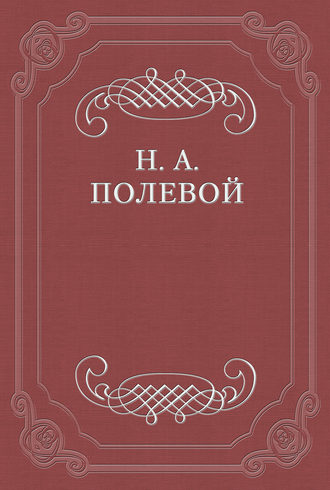
Николай Полевой
Клятва при гробе Господнем
Но, о горе великое! Когда, скорбный о кончине брата, его же чтил в отца место, князь наш хотел принять бразды великого дела государственного – открылось хищение, умысел и суетное людское помышление!
Братья юнейшие восстали, владыка духовный прегрешил, бояре сковали крамолу. Духовная грамота, в нарушение всех прав Божеских и человеческих, была составлена Василием, по которой лишался великокняжения Юрий, и племянник, сын Василия, восставлялся против него. Воинство явилось на защиту лжи; князь Литовский, объявленный опекуном юного Василия, как хищный вран, готовил уже кровожадные дружины свои, да воспользуется раздором. И щадя кровь христианскую, что должен был делать князь наш? Он – уступил, князья и бояре, уступил… Оцените великодушие его, познайте славу его смирения!»
Шум раздался после этих слов в собрании; боярин Иоанн торжествовал, горделиво посмотрел на всех и продолжал:
«Но мысля о спасении души племянника, братьев и даже самых рабов своих, не переставал он убеждать их. Вскоре смерть прекратила дни Витовта! Владыка Фотий вскоре отдал неземной отчет в делах, и – язва смертельная поразила Москву[116], где пали жертвою гибельной смерти многие князи и бояре. И все сие свершилось в пять лет! Бог являл суд и гнев свой, но – не слушали его глаголов! И тогда князь наш, не прибегая еще к оружию, предложил отдаться на суд царю Ордынскому… Князья и бояре! не спрашивайте у меня: какие крамолы употреблены были затмить правду и истину! Горе нам, горе царству, неправдою зиждемому! Так! Царь Махмет осудил нашего князя, но тогда решился уже князь наш защищать дело свое оружием. Мера неправд исполнилась…»
– Боярин! – воскликнул Басенок, – ты ли смеешь говорить о суде Ордынском? Не нужен был суд сей нашему князю Василию Васильевичу, но он шел на него, ибо хотел доказать правду свою и сим образом. Но кто стоял тогда за нашего князя? Не ты ли, не так ли, как ныне разглагольствовал ты и убеждал царя Ордынского в пользу нашего князя – двоедушный, двуязычный старец! Вспомни и устыдись!..
Казалось, сии слова должны были смутить Иоанна. Все знали, что он был причиною благоприятного для Василия ханского решения. Красноречиво утверждал он перед ханом – именно противное тому, что говорил теперь. «Повелитель русских земель! – восклицал тогда боярин Иоанн, – твоей воле предоставляет сирота, сын славного князя Московского, судьбу свою! Оставишь ли его, забудешь ли славу твою и слово твое, которым укрепил ты волю отца его? Князь Юрий утверждается на ветхих хартиях и мертвых уставах, никогда не исполняемых на Руси – мы ссылаемся на твое живое слово, утверждаемся на твоей всемогущей воле!» Подробно исчислял потом Иоанн все отступления от права старейшинства и возвышал волю Хана. – Но боярин Иоанн не смутился теперь от слов и напоминаний Басенка.
– Остановись, дерзкий юноша! – воскликнул он. – Кто ты, ничтожный судия совести другого! Если и был я тогда виновен, то не видишь ли теперь явный знак благодати Божией, доказывающий несомненную победу князя Юрия Димитриевича – знак ее во мне, человек, который был врагом его и отверг вражду, вняв угрызению совести и гласу истины! Так: я стоял тогда за крамольного племянника, думая, что стою за правое дело. Привыкнув повиноваться великому родителю его, повиновался я и юному князю Василию. Но не я руководствовал коварными, злобными, вероломными делами Москвы: Юрья Патрикеевич был первенствующим в княжеской Думе; мать Василия, поругательница князей, дяди его, люди коварные и хитрые, сонм бояр продажный и корыстолюбивый – вот кто руководил Москвою! И я не мог сносить далее тяготы душевной, оставил Москву и перешел к правой стороне. Князья и бояре! Я могу пересказать вам даже и то, сколько золота и серебра дано было которому ордынскому вельможе, чтобы преклонить решение хана Ордынского; могу объяснить, какие у мысды таились после того на погибель, нашего князя и сынов его; какие ковы соплетались на других русских князей для отнятия их уделов. Но – теперь и без меня уже все раскрыто. В безумном ослеплении Москва, послала дружины свои на Ярославль и Рязань, наложила руки убийц на двух сынов нашего князя, и где же? Когда? Среди веселия родственного! Князь Константин хочет прикрыть грехи монашеским клобуком; других братьев уже призвал суд Божий, и – долголетием благословенный, грядет мститель неправд. Се наступил час побед Его! Кто противостанет? Да здравствует Великий князь Московский Юрий Димитриевич!
Громко повторено было сие восклицание; бояре и воины, бывшие вне избы, где происходил прием послов, также повторили его, и оно разлилось по всей дружине Юрия, соединенное со звуком бубнов и труб.
«Ты слышал ли, воевода московский, и вы, бояре московские, слышали ль речи моего боярина? – сказал Юрий. – Чего же ждете вы еще? Вы хотите знать права мои: я ли изложил их? Я молчал, когда говорили вы против меня клеветы свои и когда в ответ вам изрекли истины святые и непреложные…»
– Мы слышали исповедь преступника и изменника, – сказал Басенок, – но не знаем еще твоей воли.
«Остановишься ли ты в своих дерзких словах, раб бунтовщика? – стремительно вскричал Косой. – Еще одно слово – и ты погибнешь, презренный оскорбитель князей!»
Басенок угрюмо взглянул на него. «Послов ни секут, ни рубят, князь Василий Юрьевич!»
– Но какой же посол присылается для того, чтобы оскорблять тех, к кому он послан, и безумно противоречить правде! – вскричал Шемяка.
Басенок оборотился к Ощере. «Боярин! что же ты молчишь? Так ли должен поступать посол Великого князя?»
Ощера, хранивший глубокое молчание, вдруг ступил несколько шагов вперед, преклонил колено перед Юрием и воскликнул: «Государь князь Великий! прими раба твоего и смилуйся над ним. Да здравствует Великий князь Юрий Димитриевич и да погибнут враги его!»
Сей неожиданный поступок старшего московского посла изумил всех. Подлость, низость поступка Ощеры, как говорится, повернула сердца, и – его восклицание умерло в совершенной тишине.
Басенок задрожал от негодования. «Боже великий! – воскликнул он, – могу ли пережить сей позор, сие бесславие!» Казалось, он не знал: взяться ли ему за меч свой и умертвить изменника Ощеру на месте или удержать свое негодование!
– Встань, боярин! – сказал Юрий Ощере. – Принимаю твою покорность и жалую тебе место в нашей великокняжеской Думе.
«И тако покорятся тебе все!» – воскликнул боярин Иоанн, между тем, как Ощера подполз на колене к Юрию и целовал ему руку.
– Живи, пресмыкайся, – сказал тогда Басенок, с отвращением глядя на Ощеру. – Но теперь я старший посол Великого князя и заступлю место изменника. Князь Звенигородский! отвечай Великому князю Московскому в лице послов его: полагаешь ли ты оружие? Принимаешь ли мир? Отказываешься ли от твоих несбыточных помыслов?
«Дерзновенный! – вскричали в один голос Косой, Шемяка и боярин Иоанн. – Умолкни или за оскорбление великокняжеского величия тебя не спасет звание твое!»
Как будто не внимая сим угрозам, Басенок продолжал: «Выдаешь ли мне изменника Ивашку боярина и другого вора, боярина Ощеру?»
«Удались немедленно, беги, скажи своему князю, что между нами нет никаких условий! – воскликнул Юрий, вставая со своего места. – Покорность, или горе и погибель!»
– Итак, да падет на тебя кровь христианская, нарушитель клятв! – отвечал Басенок. – Брось перед ним его грамоты крестоцеловальные, – сказал он, обращаясь к Беде. Крик негодования и ярости раздался в собрании. «Мы не потерпим такого надругательства – сковать его – цепи – тюрьма!» – закричали с разных сторон.
– Торжествуй, – сказал Басенок, обращаясь к боярину Иоанну, – но знай, что торжество зла кратковременно! Углия горящие сыплешь ты на главу свою, неправедно собирая богатства и почести. Плаха – рано или поздно – будет твой удел!
В это время Беда, с обыкновенным своим равнодушием и неизменяющимся лицом, вынул из бархатного мешка и кинул к ногам Юрия сверток бумаг.
Ярость овладела Юрием, детьми его и боярами. Юрий хотел что-то сказать, но, задыхаясь, не мог ничего выговорить и только кашлял. Бояре его, одни кинулись к боярам московским, сопутникам Басенка, в намерении вытолкать их вон, другие хотели обезоружить Басенка. Шемяка, дрожа от гнева, схватил одной рукою бумаги, которые бросил Беда, другою ухватил он его за бороду, закричав: «Я заставлю тебя проглотить их, исчадие нечистое!»
Басенок отступил к дверям, заслоняя собою товарищей, и громко воскликнул: «Кто ко мне подступит, тот расплатится жизнью!» Он стремительно ухватился за меч свой.
Шемяка первый почувствовал все неприличие ярости и необдуманного гнева. Он оставил Беду и остановил бросившихся на Басенка, как будто желая загладить свое собственное, излишнее безрассудство.
«Остановитесь, брат, князья, бояре! Стыд, грех – не посрамим себя!»
– Князь Георгий Димитриевич, – сказал тогда Исидор, хранивший глубокое молчание во все время споров и буйного волнения, – позволь мне молить тебя: если уже без плода оказалась принесенная мною тебе ветвь маслины, то, да не произрастит она, по крайней мере, плода гибели. Посланник мира – да не буду я зрителем кровопролития!
Все остановились. Юрий устыдился буйства своих детей и вельмож. «Отпустите их безопасно, и горе тому, кто оскорбит их хоть словом!» – сказал он. «С тобою, отец архимандрит, мы увидимся – в Москве. Боярин Иоанн, боярин Ощера – идите за мною!» – он принял благословение Исидора и поспешно удалился.
Басенок также спешил идти. За ним пошли двое товарищей его. Беда все еще оставался на своем месте, бледный, неподвижный, дрожащий, с той самой минуты, как Шемяка столь жестоко опозорил его. Уже Басенок и бояре были за дверьми, когда он опомнился, молча поднял с земли клок волос, вырванный из бороды его Шемякою, и не говоря ни слова пошел за товарищами. Он казался обезумевшим; казалось, он сам не понимал, что делает.
Шемяка, сложив руки, погруженный в мрачную, глубокую думу, стоял подле стены и долго не мог дать самому себе отчета во всем вокруг него происходившем. Он опомнился, наконец, когда уже никого не было в избе. Только Димитрий Красный сидел в углу и горестно плакал…
– Плачь, ангел-хранитель наш, плачь! – сказал Шемяка мрачным голосом. – Не так совершаются дела, Богом благословляемые! Предчувствую, в какую бездну греха и погибели повергнули мы себя, тебя, родителя… Но – кто противостанет судьбам своим. Да будет же то, что будет… В Москву, в Москву!..
Димитрий Красный не отвечал ни слова, закрывая рукою глаза, и слезы обильно текли из глаз его.
Глава II
О боже мой! кто будет нами править!
О горе нам!..[117]
А. Пушкин
В кремлевских великокняжеских хоромах были покои для житья, залы для пированья, палаты для государственных совещаний, церкви и часовни для молитвы, кладовые для золота и серебра, погреба для вин и меда. Но кто прошел бы все эти отделения хором великокняжеских, тот не узнал бы, что в них были еще уголки, назначенные не для веселья, не для пиров, не для хранения великокняжеского богатства, уголки темные, мрачные, лишенные всякого убранства. Это были – боярские тюрьмы, темницы и княжеские казенки. В то время, когда в палатах раздавались веселые клики радости, в этих уголках уныние и горесть беседовали с обитателями, нередко переходившими в них с великолепного пира великокняжеского. Близ царя близ чести, близ царя близ смерти – эта пословица дошла из старины до наших времен. С удивительным равнодушием повторяли и забывали всегда эту пословицу царедворцы, не боясь близи и все теснясь ближе и ближе к Великому князю! И всегда весело пировали они, никогда не помня, что товарищи их, недавно подле них сидевшие, горюют в боярской тюрьме или княжеской казенке.
Так забыты были в это время два молодые боярина, Симеон и Иван Ряполовские. Укор другим, недостойным боярам и царедворцам, жертва смелой правды и женской, необдуманной вспыльчивости, со дня самой свадьбы Великого князя брошены были они в тюрьму и разлучены с родными. У отечества отняты были умы и руки их в минуты величайшей опасности. Мы видели, что злые враги готовили им даже лютую казнь. Но Василий велел умолкнуть требовавшим голов их, не смел освободить Ряполовских, но не велел и умножать тягости их заключения. Ряполовские оставались, как будто неважное дело, решение которого откладывают впредь, до времени более свободного. Нерешительный князь не умел оценить достойно окружавших его людей, не умел и сознать прямо достоинства Ряполовских. Неужели не понимали опасности отчизне бояре и царедворцы его? Неужели злоба затмевала в глазах их невинность Ряполовских и не хотела сознаться, что теперь они были необходимы для общего спасения? Можно обольщать себя надменностью, ослепляться гордостью, пока нет еще опасности. Но когда гибель над головою, кто не сознает своего бессилия, не пожертвует всем?
Опасность, гибель! Но какая опасность, какая гибель грозила боярам Василия? Гибель его разве губила их? Опасность его разве и им была равно ужасна?
Симеон Ряполовский сидел за ветхим столом в своей темнице; перед ним развернута была духовная книга. Брат его, Иван, ходил по темнице. Заходящее солнце освещало сквозь железные решетки бедную комнату, где заключены были Ряполовские.
«Послушай, брат: как утешительны, усладительны слова Апостола, – сказал Симеон, – Желаете и не имате; убиваете и завидите, и не можете улучити. Сваряетеся и борете и не имеете, зане не просите; просите же и не приемлете, зане зле просите, да в сластех ваших иждивете… Не весте ли, яко любы мира сего вражда Богу есть – иже-бо восхощет друг быти миру, враг Божий бывает…»
– Друг мира, враг Богу, друг Бога, враг миру… Да, святые слова, любезный брат! Но горе нам, ведущим их, и не внемлющим, слышащим их, и не исполняющим: Враг мира… Но могу ли быть врагом самого себя, ибо что мир, если не мы?
«Нет! Мир – владение князя мира сего – не есть тот мир, в котором живет человек, исполняющий обязанность свою к Богу, поставленной от него власти, ближнему и самому себе».
– Ах! обязанность ли наша мечты властолюбия, суеты и гордости, которые не перестают терзать нас – даже и на жестком одре темницы…
«Ты сегодня особенно грустен и печален, брат. Что с тобою?»
– Меня убивает мысль, что теперь, когда, может быть, добрые товарищи умирают на поле брани и кровью искупают грехи свои, мы бездействуем, мы ничего не слышим даже!.. Грешу, но сознаюсь: уже не польза княжья, но кровь, кипящая в жилах, заставляет меня грустить, что и я не там же…
«А страдающий за князя своего в темнице, разве не воюет за него? И что же ты хочешь слышать? Вести о позоре и бесславии отчизны, о гибели Москвы, когда ты не в силах отвратить сей гибели?» – Симеон отвернулся, желая скрыть слезы, помрачившие глаза его. Иван безмолвно сел на одр свой.
В это время загремел замок на дверях темницы и явился надзиратель тюрем и темниц дворцовых, дьяк Щепило, возведенный в чины покровительством Юрьи Патрикеевича, ничтожный угодник Софии. Жестокосердие и глупость ясно изображались на лице его. К этому; присоединялось еще у него пьянство. Всякий вечер Щепило сильно напивался, окончивши обзор заключенных. Обыкновенно угрюмый и молчаливый, вечером он делался словоохотным и веселым, когда хмелина попадала в его голову. Видно было, что на сей раз Щепило начал гулянку до вечернего своего обхода. Он затворил за собою дверь темницы Ряполовских и важно сел на скамейку, стоявшую подле двери. Симеон взглянул на него и снова начал читать. Иван глядел на Щепилу и ожидал, что начнет он говорить.
Несколько раз потер лоб свой Щепило, отдувался несколько раз, и рожа его так была смешна, что Иван улыбнулся, смотря на него. Щепило сам засмеялся.
– Ну, что же, бояре? А, ну, что же? – сказал он.
«Да ничего! – отвечал Ряполовский. – Мы ждем, что ты скажешь».
– Я что скажу? Да также – ничего!
«Стало быть разговор у нас будет короткий. Нам теперь ничего не надобно и мы еще не ушли из тюрьмы, как ты видишь. Прощай!»
– Не ушли из тюрьмы?.. Да, ведь этого нельзя: ведь она заткнута моею головою. Ничего не надобно? Стало вы не пожалуетесь на меня, бедняка, чтобы у вас чего-нибудь недоставало? Стало вы мною довольны?
«Очень довольны, потому что нам ничего не надобно и мы ничего не просим…»
– Ну, так вы меня простите… Что ж делать? Немного выпил – да так, с радости, с веселья…
«Что у тебя сегодня за веселье?»
– Не у меня, а в Москве. И есть о чем повеселиться. Великий князь, правда, плакал – ну, что делать! Расстаться с молодою женою, да с мягкой постели ехать на кровавую битву… Хе, хе, хе!
Симеон перестал читать и сделал знак брату, чтобы он разговорился с Щепилою. Иван решился поддержать разговор.
«Разве великий князь отправился куда?» – спросил он.
– Вы люди умные, бояре, и больше меня знаете! Хе! Где же нам знать с ваше!
«Положим и так, хоть похвальба мужу пагуба, почтенный господин Щепило; но ты забыл, что мы уже недели с две сидим взаперти, и кроме того, что от тебя слышали в это время, совершенно ничего не знаем».
– От меня слышали – сиречь я вам, бояре, не враг, а приятель, и все приятельски рассказываю. А вы сору за порог не выносите. Ей-Богу, бояре, бывало вы меня словом не удостаивали, когда были в чести, а вот я вас, так всегда чествовал низким поклоном. То-то же; с тюрьмой, да с сумой никогда не бранись! А я, право слово, вас полюбил, полюбил за то, что вы такие добрые, смирные, ничего не затеваете, сидите себе тихо и ничего не требуете. Я уж и Юрью Патрикеевичу об этом говорил. А он, право слово, вас любит, очень любит, бояре!
«Мы никогда ему зла не делали. За что же ему зла нам желать?»
– А что он не противился, когда вас решили в тюрьму заключить – нельзя же было ему, бояре! Я верю, что вы честные люди – да пало на вас подозрение, будто вы старому Юрию потакаете – нельзя же было вас защищать. Ведь подумали бы и о моем покровителе, князе Юрье Патрикеевиче, что он с вами заодно. Ну, уж лучше же вы пропадайте, нежели стоять ему за вас, да погубить себя! Но Юрья Патрикеевич несколько раз спасал вас после того от явной смерти. Еще вчера, как было поднялись против вас! Кричат: «Давай нам Ряполовских!» А особливо этот князь Туголукий: собрал толпу всякого сбродного народа, наговорил на вас, что вы злодеи, изменники, и заставил подле дворца кричать: Давай Ряполовских! Я сам тут же кричал. Да, право слово, нечаянно попался; шел мимо, народ бежит и меня за собой утащил. Я было хотел молчать, так – куда тебе – меня чуть самого не прибили! «Что ты не кричишь?» – стали мне говорить. «Видно ты Юрьевский? Видно потакаешь изменникам Ряполовским?» Делать нечего! Заорал и я; Давай Ряполовских!
«Что же сделал великий князь?»
– Ничего! Велел только разогнать нас палками: кто куда бросился, и я рад-радехонек был, что по-здорову уплелся. Хорошо еще, что народ палки боится. Чтобы ты с ним стал делать, если бы палка его не пугала?
«Мы видим, что ты не хотел нам зла, – сказал Ряполовский улыбаясь, – а в честном обществе, делать нечего, – надобно поддакивать. Говорят, что однажды, смотря на пример других, жид женился, а грек удавился. – Но ты не кончил своего рассказа о том, как поехал с Великим князем из Москвы Юрья Патрикеевич», – продолжал Ряполовский, нарочно стараясь запутать Щепилу в словах и выведать от него.
– Да, как поехал он, – сказал Щепило, забывшись и полагая, что он уже рассказал все предшествовавшее. – Но, он поехал, да не доехал… Ох! умная голова благодетель мой, князь Юрья Патрикеевич! Что же ему делать, когда Господь не назначил его от рождения быть воином? Он велик в Совете… Ну, овому талант, овому два…
«Овому ничего», – пробормотал Иван, усмехаясь;
– Да, овому два. А кабы еще к советному, великому уму, да Господь дал храбрость Юрью Патрикеевичу – вот, как дал он ее Басенку, примером сказать, или Андрею Федоровичу Голтяеву…
«Голтяеву!» – невольно воскликнул Симеон и захлопнул книгу, но опомнился, развернул снова и без мыслей перебирал листы в ней.
– Так, кто бы тогда с Юрьем Патрикеевичем сравнялся? – продолжал Щепило, ничего не замечая. – А впрочем, теперь Басенок узнал, как его бабушку зовут…
«Басенок? Как же это?»
– Да, так: храбёр он, больно храбёр, да наскочил на лихого. Нет! видно с Шемякой-то не с своим братом – так его растрепали, что едва ноги унес.
«Добрый друг! – промолвил тихо Симеон, – но и тебя я не узнаю: ты пережил проигранную тобою битву!» – Симеон погрузился в мрачную задумчивость.
– И то сказать: видима-невидимая сила идет на них! От одних пожаров так светло бывает по ночам, что в самом дворе княжеском хоть деньги считай.
«И меня нет там!» – невольно воскликнул Иван.
– Нет? – сказал Щепило, – чего нет – все есть! Не только дружина пошла, не только сам Великий князь поехал, но и меды, и брагу повезли – шел, шел обоз из Москвы – конца не было видно.
Долго еще рассказывал и говорил Щепило. Ряполовские узнали от него множество подробностей о том, что после нечаянного разгона дружин московских Гудочником, посланы были послы к Юрию, а ночной разгон войска приписали колдовству; что с бесчестием прогнаны были от него послы; что все князья удельные отступились и не вмешивались в дело, не шли против Москвы, но и не помогали Юрью, который быстрым натиском разбил Басенка. После сего, в буйной, пьяной Думе Великого князя решено было защищать Москву, и сам Великий князь отправился с многочисленною, но нестройною толпою, навстречу дяде, приближавшемуся от берегов Клязьмы в грозном ополчении. Между тем Москва волновалась; улицы в трети Юрья закинули рогатками; всякий москвич вооружался; стража, усиленная вдесятеро, беспрестанно ловила вооруженных и разводила драки.
– Да где им! – воскликнул наконец Щепило, – только бы изменщиков у нас не было, а то Великий князь развеет, яко прах разметает ветр, все тьмы врагов. Юрья Патрикеевич сторожит Москву и велел уже приготовить хлеб-соль для возвращения Великого князя. Ведь завтра он, конечно, воротится с победою и с пленным дядюшкою своим, и запоем мы все: Твоя победительная десница! А послезавтра – чего мешкать… покатятся по площади головушки Юрья, и Шемяки, и Косого, и еще кое-чьи… – Щепило лукаво взглянул на Ряполовских.
«Умолкни, мерзостная тварь! – вскричал Симеон вне себя. Сердце его переполнилось. – Ты ли смеешь говорить о священных головах дяди и братьев великокняжеских!»
Хмель вдруг выскочил из головы Щепилы от испуга, в какой привели его слова Симеона и неожиданный переход из глубокого, неподвижного молчания в яростный гнев. – Что я разоврался тут! – забормотал Щепило. – Говорю о голове Юрья перед его сообщниками! Как бы убраться? Их двое, а я ведь один – правда, стража подле, но пока прибежит она, то меня уходят эти бесовы дети… – Он робко взглянул на дверь и рассчитывал, как может он в один прыжок быть за дверьми. Но к неописанному ужасу его, Симеон, быстро вскочил, ухватил его за грудь, прежде нежели он успел опомниться.
– Князья, бояре! отпустите душу на покаянье – ради Христа! Тут ведь стража – зареву – все прибегут и искрошат вас в мелкие кусочки…
«Слушай!» – сказал ему Симеон.
Щепило от страха не мог промолвить ни одного слова. Какой подлец не робок? Щепило указывал только на дверь пальцем, давая разуметь, что тут, за дверью, находится стража.
«Слушай, Щепило! – продолжал пылкий Симеон, не внимая знакам его. – Выпусти нас! Чего ты хочешь? Золота – бери, я тебе дам – я тебя осыплю золотом – выпусти только нас – дай нам уйти – выпусти одного из нас, а другой останется у тебя в залоге…»
– Брат, любезный брат! – сказал Иван, отнимая Симеона от груди Щепилы, – опомнись! Что ты делаешь?
«Да, я в самом деле забылся – взялся за этого мерзавца!» – Симеон отряхнул руку, как будто бы держал в ней нечистую жабу.
Пользуясь этим, в один миг, со страшным криком, отворил дверь и бросился вон Щепило. Стража, испуганная криком его, кинулась в темницу Ряполовских. Щепило столкнулся с воинами и полетел со всех ног. «Батюшки! Спасайте: изменники бьют и бегут!» – заревел он во все горло. Но воины остановились, видя, что Ряполовские неподвижно сидят вместе, обнявшись, и что Симеон плачет.
– Кто кого бьет? – сказал один из воинов.
«Изменники, злодеи! Они подговаривали меня выпустить их», – отвечал Щепило, оправясь и поднявшись на ноги. «Пойдем, пойдем, – продолжал он, толкая вон стражей, – сейчас пойдем к Юрью Патрикеевичу; кандалы на них, цепи – казнить их!» – говорил он, замыкая дверь снаружи замком и стараясь вспомнить, что говорил он Ряполовским, и боясь, не наврал ли им чего-нибудь лишнего.
– Спасают Москву, не заботясь уже о спасении Великого княжества! – говорил Симеон брату. – Внук Димитрия не мог отразить толпы бродяг, набранных крамольным дядею, когда дед его полтораста тысяч воинов выводил в поле и в прах рассыпал с ними ополчения Орды! Горе нам! Семьдесят лет крамола не будила русских земель, но теперь возродилась она, как неукротимая злоба древнего змия, диавола…
«На что раздражил ты неуместным гневом своим нашего тюремщика? Мы можем погибнуть…»
– Сил моих недостало более, и лучше, лучше погибнуть, нежели пережить бедственное наше время! Горе нам, брат! О! если бы я мог теперь стать хотя простым воином в ряды братий! Владычице Богородице! лук медян соделай людей твоих верныя, избранник мышцы, и перепояши их силою и крепостию, Пренепорочная, с небес подая им силу!
Шум и стук подле дверей темницы развлек внимание Ивана Ряполовского. Окошечко в двери, забитое железною решеткою, отворилось. Видна была голова Щепилы и еще какое-то другое зверообразное лицо. Как будто боясь войти в темницу, Щепило говорил своему товарищу, указывая на Ряполовских: «Вот эти самые молодцы их первых придется – первых, говорю тебе: это самые злые сообщники окаянного Юрки, чтобы ему ни встать, ни сесть!»
Окошечко снова захлопнулось. Возведя очи к небу, сжав руки, погруженный в молитву, Симеон не слыхал ничего, даже и увещаний брата. «Благоприменительный Господи, долготерпеливый и много милостивый, – говорил он, – податель всякия твари, словесныя и умныя, еже быти от не сущих всем даруяй, и еже добре быти, всемудре нам даровавый…»
– Он молится – слава Богу! – думал Иван, смотря на брата. – Молитва вытесняет отчаяние из души человека. Враги мои и брата моего! Если бы вы могли видеть его в сии мгновения! Как он выше вас, он, в темнице, молящийся за князя своего, скорбящий, что не может пролить крови своей за его спасение – вас, которые на золотых одрах своих согреваете в сердце своем измену…
Взволнованная душа Симеона утихала понемногу. «Брат! – сказал он, – ты видишь на мне тщету мудрости и разума человеческого! Я уговаривал тебя, юнейшего, быть мужественным и твердым и – первый поддался скорби и смертному греху отчаяния! Забыл я, что судьба князей и царей не судьба людей, и если волос с головы человеческой не падет без воли Божией – царству ли пасть без судеб его?»
Еще беседовали несколько времени братья и, спокойные совестью, предались сну. Уже светло было, когда вдруг громкий звон набата поразил слух их. Мимо окон скакали, как слышно было, всадники, и в самых переходах, мимо темницы заметны были беготня, шум и топот. «Слышишь ли, брат?» – сказал Симеон, поднимаясь с бедного одра своего.
– Я уже давно слышу, но не хотел будить тебя.
«Что же это значит? Смерть ли нашу, или гибель Москвы? Но во всяком случае князю тело, Богу душу… Спокойный перед судом человеческим, суда ли Божия устрашуся? Возстани, возстани, душе моя! что спиши?» Но грусть снова омрачила просветлевший на мгновение взор Симеона, Со слезами на глазах взглянул он на брата и сказал: «Жаль матери – останется старушка сиротою…»
Они замолчали и прислушивались. Набат гудел в Кремле, медленно и уныло; скоро и в других местах повторился звон его. Подле окна тюрьмы слышен был в то же время шум и крик толпы… Вдруг замок на дверях темницы Ряполовских зашевелился, тихо, тихо – дверь отворилась и – Щепило вошел к ним. Робко, вежливо стал он у двери и низко поклонился заключенникам.
– Князья-бояре, – сказал Щепило, видя, что Ряполовские начинают с ним говорить, – будьте милостивы, жалостливы – простите грешного меня, если я чем изобидел вашу боярскую честь! Простите, ради самого Создателя! – Он еще раз поклонился.
«Не опять ли выпил ты лишнее? – сказал Иван Ряполовский, – или просишь у нас прощения, как просят его у мертвых?»
– Избави нас, Господи! Не тем будь помянуто – что нам до мертвых, когда ваша честь и слава теперь-то и начинаются! Даруйте мне такую милость, дозвольте мне услужить вам: вы мне говорили вчера, чтобы выпустил вас, и сулили даже… Но, Господи избави меня от греха! А теперь, бояре – угодно только будь вам – я немедля выведу вас из тюрьмы… Не забудьте только моей посильной послуги. – Он снова низко поклонился. Недоверчиво взглянули друг на друга Ряполовские. – О! Не бойтесь никакого злого умысла, – воскликнул Щепило, заметив недоверчивые взгляды Ряполовских. – Нет, бояре! Царство нечестивых прешло, и Москва скоро возрадуется под властию законного Великого князя!
«Что ты говоришь?» – воскликнул Симеон.
– Набат лучше меня говорит вам, бояре, что царство Василия кончилось.
«Как? Он убит?» – хладнокровно спросил Симеон. Великость бедствия, после всего испытанного им, не только не воспламенила души его, но, казалось, подавила ее, как тяжелый, надгробный камень, поставленный на горестях и радостях человека, подавляет их и заставляет безмолвствовать холодный труп его.
– Если бы убит, так все хоть с честною смертью можно бы его поздравить, – отвечал улыбаясь Щепило, – а то и этого нет! Он и вся его пьяная сволочь бежали, бежали без оглядки от мечей Великого князя Юрия Димитриевича! Ох! в эту ночь такие чудеса наделались, бояре, что кажется и вовек не слыхано!
«Что же такое сделалось?» – спросил Симеон, тихо встав с одра своего и начав ходить по темнице медленными шагами.
– Вчера был в Думе Василия такой шум и спор, какой бывает у баб торговок на блинном базаре. Хватились за ум народы православные – вздумали идти навстречу Великого князя Юрия Дмитриевичу… Явная милость Божия: ослепило умы их! Да и кому было умничать-то? Не этому ли Юрью Патрикеевичу, с его литовскою четырехугольною головою? Не самому ли князю Василию? Сказали ему, что он должен предводительствовать ратью, так он едва не растаял от слез, прощаясь с молодою княгинею. Толпа сволочи поплелась за ним, да только что дорогою грабила, да буянила. А между тем в Кремле, тайно, уклали все на возы, и в самую полночь Василий прискакал назад верхом, запрягли лошадок и покатились возики из Москвы, с князем и с княгинею. Хорош воин: на врага идет, а животы в запас убирает!.. За ними кое-как убрался еще кое-кто…







