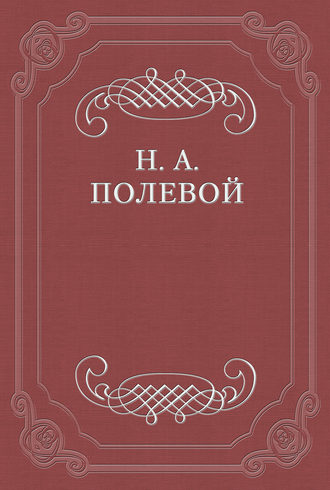
Николай Полевой
Клятва при гробе Господнем
«Что же Москва?»
– Господи! Как узнали к утру в Москве, да как зашумит народ – своя воля – дружин воинских нет! Слышите, как трезвонят в набат? Ведь это простой народ разгуливает – бежит его в Кремль столько, что и счету нет! Стража осталась только что у дворца великокняжеского – стережет Софью Витовтовну – будто для почести, а в самом-то деле для того, что когда не успела старушка убраться, так теперь ее и не выпустят, а с рук на руки передадут Великому князю Юрию Димитриевичу. Только бы успела она дожить; ведь она на одре смерти, совсем не встает, и видно ей придется встречать добрых гостей, или отправляться в гости самой!
«Бедная мать! – прошептал Симеон, – понимаю твою скорбь…»
– Бояре и князья, одни сошлись в Думу, другие отправились с повинною головою к Великому князю Юрию Димитриевичу. А Туголуцкий смышленее всех – бросился готовить хлеб-соль и хочет у самых Фроловских ворот встретить князя; другие не знают, куда деваться…
«Чего же ты хочешь от нас?» – спросил Симеон.
– Ведомо, что вы были всегдашние радушники правой стороны и стояли за нашего, законного Великого князя, Юрия Димитриевича, за него терпели, в тюрьме насиделись, чуть головы не сложили. Велика честь будет вам от него. Теперь в суматохе никто и не вспомнит о вас – всякому до себя! Я поспешил сюда, чтобы освободить вас. Идите, добрые, милостивые бояре, примите старшую власть, пока пожалует к нам сам Великий князь. Стоит вам появиться, так все замолчит перед вами. Все теперь головы потеряли! В народе сумятица, крик, шум. Иные из простонародья поговаривают поднять на щит дворец; другие грозят Боярской думе; третьи кричат, что надобно выместить зло на сообщниках Василия, ограбить дома бояр его, а между тем заваривают в набат, пьют; разбили княжеский погреб – мелькают и огоньки кое у кого – спасибо, что еще, кто поумнее из народа, так уговаривает других не буянить, а то давно подняли бы дым коромыслом!
«Стало быть, народ признаёт Юрия? Чего же вам всем бояться?»
– Да, оно так, что нельзя признать законного владыку – но, правду сказать, бояре, народ-то ведь глуп: и не разберешь, что он шумит. Пока Юрий Димитриевич пожалует, так над Кремлем панихиду успеют отслужить. Ведь у всякого из нас есть свои животишки[118], малы, велики – ну, и жёнушки, детишки. Смилуйтесь, бояре! Вас народ любит – выйдите, гаркните о Великом князе Юрии, сладьте думу!
«Но Юрья Патрикеевич, но Старков, но Василий Ярославич! Где же девались все они?»
– Василий Ярославич уплелся за Василием, а другие – коли правду вам истинную сказать – все прислали меня к вам, как радушникам, любовникам Великого князя: примите все под начало и уладьте мир и согласие.
Жар вступил снова в лицо Симеона. Чувствуя это, он скрепил сердце и сказал Щепиле:
«Если точно прислан ты от князей и бояр, то поди и скажи им, что Ряполовские из тюрьмы своей нейдут. Если же все налгал ты на князей и бояр, то вспомни, что ты давал клятву и целовал святой крест Великому князю Василию Васильевичу; что муж, ломающий клятву, потребится от земли, как червь непотребный, а на том свете будет висеть над огнем неугасимым, повешенный за орудие преступления своего – язык, который, по гражданскому правилу, должно у каждого клятвопреступника ископать и вытянуть с затылка. Вот тебе мое слово, и не смей оставаться здесь более, или произносить еще что-либо предо мною!»
– Он помешался от радости, – шептал Щепило, пятясь задом к двери и выпучив глаза на Симеона. – Но все-таки не должно оскорблять его. Даром что он с ума. сошел – быть ему в великой чести у Великого князя, Юрия Димитриевича! И теперь я не понимаю уже, что он говорит – каково же заговорит он, когда на ум-то взойдет – тогда наш брат не поймет его речей, хоть три дня слушать будет.
«Суета суетствий всяческая суета! – воскликнул Симеон, оставшись наедине с братом. – Я предвидел твои бедствия, юное чадо, отрасль доброго корени, но плод еще недозрелый! С добрым советником и великого стола додумается князь, а с злым советником и малый стол утратит. Сбылись слова Пророка: И устави Господь слово свое, еже глагола на нас и на судей наших, судивших во Израили, и на цари наши, и на князи наши, и на всякого человека Израилева и Иудина – навести на ны зло велие, еже не сотворися под всем небесем, яко же сотворися во Иерусалиме!»
– Но я еще не опомнюсь от всего слышанного, – сказал Иван Ряполовский. – Как? Две недели тому, сильный князь Московский повелевал Русью; все князья русские, как данники добрые, собирались к нему и веселыми гостями пировали на его свадьбе, и враги его были его друзьями… Две недели – и где власть? Где друзья? Где дружины воинские? Он – беглец из родительского наследия; мать его в плену; подданные ослушники, вельможи изменники, друзья и враги или предатели!.. О, моя отчизна, святая Москва!
«Щепило приходит к нам потому, что нас почитают в Москве главными предателями своего князя! – сказал Симеон. – Ищут средств, как измену свою и клятвопреступление сделать еще более отвратительными! А совесть, суд Божий, правота? Святитель Иоанн! право и мудро говорил ты псковичам: Отдайте нелюбие ваше, дети, зане же видите, уже последнее время наступившее… Нет, нет! никогда предки наши и отцы наши не знали этого бесстыдства, этой наглости порока, с какою всюду выставляет он ныне главу свою и все заражает своим смрадным дыханием…»
Симеон остановился, замолчал и, казалось, в звоне набата, не перестававшего греметь во многих местах Москвы, слышал подтверждение слов своих. Он поднял руку и как будто сам с собою говорил: «А князи наши? У меня крепко врезались в душу слова старого летописца, слова, великой мудрости исполненные: Сбывается слово евангельское, яко же сам Спас во Евангелии рече; в последние дни будут знамения велики на небеси, и гладове, и пагубы, и трусы, и восстанет язык на язык! И се ныне, братие, не зрим ли восставших? Се бо всташа ратующе, ово татарове, ово же туркове и инде же фрязове – и правоверный князь на брата своего или на дядю кует копие свое и стрелами своими стреляет ближние своя… Понеже последнее время приходит!..»
Он умолк. Но набат не умолкал.
Глава III
Я с страхом вопросил глас совести моей…[119]
Батюшков
Через несколько дней после описанных нами событий, в Архангельском соборе подле гробницы деда своего стоял Димитрий Красный, юнейший, прелестный сын Юрия Димитриевича, и молился. Слабо проницали в мрачное, ветхое здание собора лучи солнца, ярко сиявшего в небесах, как будто показывая собою символ божественного, которое – там, в далеких небесах, горит несгораемым, незаходящим солнцем, а здесь, на земле, во мраке страстей и сует, только теплится свечкою перед Образом Предвечного! Архангельский собор не вмещал еще в себе тогда целых поколений владык России; гроб несчастливца Шуйского не стоял еще там, рядом с гробами царей Михаила и Алексия, и грозный Иоанн не почивал еще наряду с юным Петром императором и двумя царями Феодорами. Но уже обширная могила предназначена была в сем соборе грядущим поколениям князей; один ранее, другой позднее должны были они успокоивать кости свои здесь, в стенах храма, тесными рядами ожидая гласа трубы судной! Уже там, подле древнего гроба Калиты, почивали Симеон Гордый, Дмитрий Донской, Владимир Храбрый, Василий Димитриевич и братья его Петр и Андрей.
Быстро и неожиданно вступил в собор Шемяка. Взглянув на него, Димитрий Красный изумился выражению лица и не знал, что волнует брата его – гнев или отчаяние? Глаза Шемяки пылали, щеки горели, грудь вздымалась от тяжелого дыхания. Небрежно, без внимания, перекрестился он перед святыми иконами и угрюмо подал какую-то монету соборному дьячку, на свечу. Потом повернул к западным дверям Собора, неровными шагами подошел к гробу Донского и остановился в такой мрачной задумчивости, что не заметил даже юного брата, подле стоявшего.
«Счастливый князь! Зачем не твоя участь мне? – сказал Шемяка вполголоса. – Зачем, если твоей участи не суждено мне, не родился я простым князем… Простым воином-смердом быть лучше, нежели родиться князем, потомком Великого, славного князя, и томиться, подобно человеку, мучемому жаждою, хотя и по горло в воде стоящему!» Движение Красного заставило Шемяку опомниться. Он увидел брата, внимательно устремил на него взоры и сказал: «Ты, как совесть, как ангел-обличитель, являешься мне в минуты самых томительных страданий души моей!»
– Молю Бога, – отвечал Красный, – чтобы он сподобил мне, грешному и тленному человеку, уподобиться ангелу благодатным действием на душу твою, любезный брат!
Шемяка молчал.
– Не знаю, любезный брат, – продолжал Красный, – не знаю, что возмутило душу твою; но умоляю тебя не умножать уныния души, что есть уже грех пред Господом, еще большим грехом – ропотом на судьбу Божию. Ты сейчас укорил великого нашего деда близ гробницы его за то, что родился потомком его и князем; ты желал переменить свое высокое звание на звание презренного раба, смерда! Все люди суть равны перед лицом Бога, но, если ты завидуешь бедному счастию смерда, не уподобляешься ли ты тому богачу, о котором Пророк возвестил в притче царю Давиду, богачу, для угощения гостя отнявшему последнюю овцу убогого, когда у него самого были стада многочисленные?
«Да, я согрешил моими словами, – сказал Шемяка, задумываясь, – но я ли виновен?»
– Ты, без сомнения. Все исходит от Бога, все, кроме греха, который порождает сам человек. Откуда брани и свары в вас? Не отсюда ли, от страстей ваших, воюющих в душе вашей?
«Брат, благодари Бога, что он даровал тебе душу, к которой, как к золоту ржавчина, не может пристать порок и грех! Не таков я: моя душа – океан, взрываемый каждым мимолетным ветром! Такова судьба моя, что самое святое начинание обращается у меня во зло – и зло, и грех пристают ко мне, как мухи летят к трупу, которого не одушевляет жизнь! Дай мне жребий деда или дяди Василия, окружи меня теми опасностями, какие окружали их, но дай мне и то славное поприще, какое им предлежало! Что могу я сделать, тем более несчастливый, чем выше других я поставлен? Зачем было возвышать меня судьбам Божиим, когда я связан по рукам и по ногам – туплю меч в междоусобии и томлюсь среди крамол и низких хитростей, в которые увлечен, которых не могу отвратить!»
– Зачем же не удалишься ты от них? Зачем не оградишь себя молитвою от сует, презрением от крамол, доброю волею от хитростей?..
«Брат! ты не можешь судить о душе моей по своей душе, кроткой, согреваемой одною любовью и желанием в горний предел от мира… Знаешь ли ты, что раздражило теперь меня? Добродетельное, великое самоотвержение раба! Как низко стоял перед ним я – сын победительного князя, внук Донского! Ты слыхал о Ряполовских, молодых боярах Василия? Подозрение, ни на чем не основанное, злоба товарищей, безрассудство тетки Софьи, были причиною, что за твердую защиту меня и брата в совете бояр их бросили в тюрьму и едва не лишили жизни. По занятии Москвы нами, я узнал все подробности дела, узнал, что Ряполовские могли уйти из тюрьмы и не пошли, страшась, что их обвинят в соумышлении с нами. Я спешил освободить их. Но отец и Дума его сначала противились мне, хотели сберечь Ряполовских, как людей опасных умом и мечом, хотели увлечь их к себе наградами или осудить на вечное заточение. Подобной боязни я не понимал; подобных средств я не умею употреблять. Твердо стал я за Ряполовских, выпросил им свободу и предложил им свою дружбу. И они не захотели ни благодарить меня, ни дать мне руки, как другу! Неизменчиво сказали они мне, что прежде готовы были отдать за меня жизнь, когда знали, что я не умышлял ничего против Василия и был ненавидим и гоним невинно, но что теперь видят они во мне врага своего. Зная, что князь их в плену, только тогда готовы они будут предаться отцу моему, когда Василий сам откажется от Московского престола и разрешит их от присяги, ему данной! Гнев закипел в душе моей – я укорил их неблагодарностию – они потребовали снова тюремного заключения! Я готов был обнять и – задушить их в одно время! И у Василия такие люди и среди двора, столь ничтожного, презренного, когда все пало и пресмыкается перед отцом моим – я должен остаться врагом Ряполовских, когда готов стать перед ними на колени; должен гнать их, увлеченный в бедственную крамолу отцовскую, когда в душе моей презираю сию крамолу, готов проклинать несчастную вражду честолюбия и виновников ее…»
– Остановись, брат! Что говоришь ты? Кто виновник? Отец наш! Его ли дерзнешь судить?
«Итак, что же я? Нож, слепое, бесчувственное орудие, которое употребляет несправедливая воля других? О, скорее, скорее на битвы – там, по крайней мере, душе легче, там, по крайней мере, свободнее дышу я!.. Здесь – и в храме Божием нет отрады душе и молитва не облегчает меня…»
Поспешно пошел Шемяка из собора. Красный остался, горестно и печально смотря в след его. «Душа Мстислава Храброго, ярость Романа Галицкого! – Думал он, – что бы сделал ты, если бы одушевила его в прежние, времена? А теперь он изноет от борьбы, и – да сохранит его Господь Бог! Да не падет он в беззаконие, увлекаемый дикою страстью и излишеством душевной силы!»
Надобна была молитва праведника Шемяке: он шел на совет нечестивый, в беседу злую, тлящую обычаи благие!
В доме Юрья Патрикеевича, занятом теперь боярином Иоанном Димитриевичем, сидели и беседовали Косой и боярин Иоанн.
Шемяка не любил боярина Иоанна Димитриевича, но взор его, как взор василиска, окаменял кипящий дух Шемяки; ум боярина Иоанна смирял добрую, пылкую, неопытную его душу. Шемяка видел, что в боярине этом заключена была тайна победы и что только он один был в состоянии укрепить и упрочить власть Юрия и успокоить волновавшуюся Русь.
– Добро пожаловать, князь Димитрий Юрьевич, – сказал боярин, вставая из-за стола, за которым сидел рядом с Василием Юрьевичем Косым. – Просим садиться к нам и участвовать в нашей думе. Нам надобны теперь крепкие души, смелые умы, твердая воля. Всем этим обладаешь ты, по милости Божией. Просим садиться!
Все еще неуспокоенный, Шемяка поместился подле Косого, безмолвно сидевшего за столом.
– Мы говорили с братцем твоим о том, что нам должно теперь делать, – сказал боярин. – Он соглашается со мною, что удачная победа над врагом есть только слабое начало всего дела. Обстоятельства требуют работы, труда, и теперь не мечом, но умом должно действовать всего более.
«Признаюсь, боярин! – сказал Шемяка, – я не имею ни опыта, ни способностей к вашему думному делу. Рука моя всегда готова помогать; скажите: куда мне надобно понести войну!»
– Последние события могли уверить тебя, князь, что не всегда меч бывает нужен и не всегда можно им перерубить то, что запутывает ум людской. Чего лет шесть, или семь, добивался родитель твой мечом, то в шесть, или семь дней было кончено, когда у Василия в думе не стало ума.
«И прибавь – когда мечи у него притупились, боярин, – сказал Шемяка, – прибавь это! Посмотрел бы я, что сделал бы твой и всесветный ум, если бы Василий умел сразиться на берегах Клязьмы, если бы воеводы его были похожи на Басенка, а вельможи на Ряполовских…»
Боярин нахмурил брови, принужденно улыбнулся и продолжал:
– Спорить об этом, князь, теперь некогда, и весьма мне жаль даже, что ты поздно пришел и я не имею уже времени объяснить тебе все, что объяснял твоему брату. Он и я просим тебя верить, что мы думаем не на зло: хотим умирить Русь, всем учинить добро и потому надеемся мы, что ты не откажешься подкрепить нас своим голосом.
«Что же могу и что должен я делать?»
– Теперь назначен первый боярский совет у твоего родителя. Мы все идем туда, и должно чтобы правую речь нашу усилил и подкрепил твой голос, как только можно.
«Думайте, – сказал Шемяка, – я не отстану от вас».
– Этого и ожидали мы. Надобно тебе знать, что родитель твой, к горю нашему, весьма ослабел духом на старости лет. Кроме того, он управляется умом людей, приближенных к нему, а эти люди… не все одарены даром совета, если и не станем подозревать их в злом умысле. Напрасно говорил я ему, что и самый совет боярский вовсе не нужен и что дело решать надобно князю не с толпою, а с немногими. На большом совете только спорят по пустому, или соглашаются без толку, а дело не делается. Но родитель твой, как дитя, любуется тем, что почитая себя законным князем, может теперь показать все величие Великокняжеское. Надобно бы спешить управою дел, а он хочет еще разговаривать о всяком вздоре и заниматься обрядами. Дел у нас на руках необозримая громада: решение судьбы князя Василия Васильевича; договоры с Тверью, Рязанью и Новгородом; посольство к хану, а другое в Литву; устройство чиноначалия в Великом княжестве – дела важные! Я сказал брату твоему, что если Морозов, любимец родителя вашего, получит первенство в думе – я не слуга ваш: хлеб насущный сыщу я везде – и у хана, и в Литве.
«Этому не бывать! – воскликнул Шемяка. – Морозова я терпеть не могу: он смутник, – клеветник, и я не знаю даже, за что любит его отец мой!»
– Радуюсь, слыша твои добрые ответы, – сказал боярин, – и прибавлю еще к тому, что подозреваю Морозова в тайной измене.
«Он двадцать пять лет служил отцу моему, – сказал Шемяка, – и никогда не изменял ему ни в беде, ни в счастье».
– Измена измене разница, – возразил боярин, – я не обвиняю Морозова, но подозреваю только…
«Долго надобно бы тебе все изъяснять, – сказал Косой нетерпеливо, – а нам теперь всем некогда. Дело в том, любезный брат, что ты не должен отставать от нас и верить, что нам хорошо известны все обстоятельства. Морозов дурак, если не злодей. Воспитанный с отцом нашим, он умел овладеть душою нашего отца – но ему не быть – или нам не быть!»
– Согласен, потому что терпеть его не могу, – отвечал Шемяка.
Тут вошел к ним боярин с известием, что князь Юрий Димитриевич скоро выйдет из молельни своей и пойдет в совет. Оба князя и боярин Иоанн поднялись с мест своих. Присланный боярин удалился.
– Что же Гудочник? Где же он? – сказал Косой.
«Не постигаю, – отвечал боярин Иоанн. – Ему давно надобно бы здесь быть. Или он обманул меня?»
– Гудочник? – спросил Шемяка. – Нельзя ли мне видеть его? Хочется узнать этого хитрого пролазу, который услужил нам лучше многих и о котором наслышался я, что он святой, что он колдун и – Бог знает что еще!
«Жаль, что он не явился теперь, а то, может быть, скоро его нельзя уже будет видеть. С ним, именно, пора кончить, князь Василий Юрьевич – так сделать, как я тебе говорил».
– Что же такое надобно сделать с ним? – спросил Шемяка.
«Надобно повесить его», – сказал боярин хладнокровно. Шемяка содрогнулся, а Косой улыбнулся, заметив его содрогание. «Ты еще не привык, князь, – сказал Иоанн, улыбаясь, – к государственным делам и так же боишься подобных пустяков, как набожная старуха боится согнать муху с носа, думая, что она по воле судьбы ей на нос села. Гудочник хитрый соглядатай и человек опасный. Всегда надобно, употребив таких людей для своей пользы, освобождаться от них».
– А что надобно делать с изменниками? – пробормотал Шемяка невнятно. Он молча простился со своими советниками и пошел.
– Кажется, – сказал Иоанн, – он будет наш?
«Для чего не поласкал ты его, боярин, какою-нибудь битвою? Сказать бы тебе, что мы пойдем хоть за Каменный пояс[120], завоевывать Великую Пермию, или полуночное Сибирское царство, которое, говорят, лежит на восток, далеко за Булгарами[121]».
– В самом деле! Но неужели его, как ребенка, убаюкивать надобно? Кажись, князь, что мы обо всем условились? Помни, что о тебе идет речь и что именно тебе, а не отцу твоему, который, может быть, скоро переселится к отцам нашим, надобно радеть о Великом княжестве.
«Боярин! повторяю снова, что твои пользы неразлучны с моими».
– Ради Бога: настоять на том, чтобы родитель твой учредил отдельный совет и прогнал всю эту вздорливую толпу.
«Да!»
– Новгороду поход, Василию тюрьма, боярам его суд, со всеми другими пока мир, и ты соправитель отца.
«Аминь!» – сказал Косой, крепко обнял Иоанна и поспешно удалился.
– Конец ли моим заботам? – пробормотал Иоанн, оставшись один. – Теперь, когда все думают, что я превознесен честию и славою, меч судеб, может быть, висит на волоске над моею головою! Нет, Иоанн! не успокоиться видно тебе до могилы! Тщетно собираешь ты – кто подкрепляет тебя? Только Косой может еще несколько понимать твои предприятия; но его дерзость, гневливость, неопытность.. Горе, горе! А Шемяка? А Красный?.. Они ни к чему не годятся: один воин, другой монах! Несмотря на младость Василия я видел в нем признаки отцовского нрава… Теперь поздно возвращаться… О София, София! Для чего погубила ты себя и – меня!
Он вздохнул, отворил маленький поставец и налил в небольшую рюмочку из серебряной фляжки драгоценного и редкого тогда напитка. Это была: живая вода, как называли тогда хлебное вино европейцы, или рака, как называли русские. – Голова у меня кружится, – продолжал Иоанн – последние дни в таких заботах провел я… Прежде, бывало, все ничего, а теперь старость дает себя чувствовать – пора бы мне на покой… Но что за мрачные мысли приходят ко мне в голову сегодня? Если бы только время, надобно бы сходить помолиться… Ну, Бог милосерд и долготерпелив! Он не то, что мы грешные…
В это мгновение, по задним дверям, вдруг вошел к боярину Иоанну Гудочник.
– Насилу ты, приятель, приплелся, – сказал боярин. – Добрые ли вести? Говори скорее!
«Если весть об измене можно назвать доброю, – сказал Гудочник с улыбкою, – да! Через час – письменное свидетельство вероломства его будет в руках твоих».
– Старик! я построю монастырь и ты будешь игумном в этом монастыре, чтобы лучше отмолить грехи.
«Шутишь, боярин! Ты обещал мне также сказать добрую весть?»
– Твое дело кончено, – отвечал боярин, немного подумавши, – да, кончено: князья согласны и добрый старик Юрий не спорит. Хоть завтра можешь ты отправиться в Новгород к твоему любимцу Василью Георгиевичу и позвать его на княжество.
«Ты поспешил исполнить», – сказал Гудочник, внимательно смотря на боярина.
– Ты видишь, что теперь и жить-то спешат, – отвечал боярин, отворачиваясь. – Особливо нам с тобой – долго ждать не должно! Вручи мне письмо Морозова и я обменяю его грамотою на Суздальское княжество. – Боярин остановился, как будто собираясь с силами. Гудочник не переставал смотреть на него пристально.
– Вот тебе Бог порукою и Пречистая его матерь! – сказал наконец боярин глухим и дрожащим голосом.
«Бог страшно карает клятвопреступников! – сказал тогда Гудочник твердым голосом. – Благодарю тебя за весть твою, но скажи мне, боярин: от чего же Косой и вчера еще думать не хотел?»
– Разве Косой княжит в Москве? – сказал Иоанн угрюмо.
«Разве Юрий княжит в Москве?» – повторил в свою очередь Гудочник насмешливо.
– Я! – воскликнул Иоанн с нетерпением.
«А ты? – отвечал хладнокровно Гудочник. – Полно, так ли боярин? Ты мог бы отпилить голову Морозова и без письма его, если бы ты княжил. Боярин, боярин! то, что изрек ты мне – дело великое, а ты так легко все это выговорил! Бог страшно карает клятворушителя!»
– Я и без тебя знаю, что он карает, – вскричал с досадою Иоанн, – и сдержу клятву свою – слово свое, хотел я сказать…
– Нет! клятву, боярин! Ты призвал господа Бога и Пречистую Его Матерь во свидетели, а по слову Евангельскому человек может называть словом только: ей, ей, или ни, ни – всякое другое слово есть уже клятва…
– Письмо Морозова!
«Грамоту Василию Георгиевичу – только грамоту – и более ничего нам не надобно, ни людей, ни денег!»
– Дерзкий старик!
«Гордый боярин! Ты должен был наперед знать, с кем ты имеешь дело! Не бывать плешивому волосатым, не взойти песку хлебом и не провести тебе меня! Поди, узнай, что ты еще не знаешь, спроси в чьих руках будет печать великокняжеская и кто засядет первым в думе Юрия? Товар у меня налицо – я готов продать его – от тебя все это зависит – и через час письмо Морозова будет в руках твоих!»
Он начал тихо отступать к двери, оглядывая боярина с головы до ног. Свирепо оглядывал его также боярин Иоанн. Видно было, что это два опасные соперники и что равно страшились они друг друга.
Стройно и величаво открылось заседание Великокняжеской думы в Кремлевском Дворце. Несмотря на быстрое завладение Москвою, походившее на набег, никогда, со времен Василия Димитриевича, то есть более семи лет, не видано было такой сановитости в совете и во всех подробностях обрядов и учреждения. На великокняжеском престоле восседал теперь убеленный сединами старец; подле него, с одной стороны, сидели трое сыновей его, мужественные, смелые, величественные князья. В длинных рядах, по обеим сторонам около стен, сели бояре, князья откупные и сановники. Блестящие воины окружали комнату и стерегли вход, стоя у дверей. Лучшие ковры, дорогие подушки, редкие подзоры вынуты были из великокняжеских кладовых. Великолепие это, многочисленность и величавость собрания, и взгляд на самого Юрия, и детей его, внушали невольное почтение. Никогда юный Василий, сухощавый, невидный собою, не мог передать сердцам присутствовавших столь сильного чувства благоговения. Софья Витовтовна, присутствовавшая в совете Великокняжеском, всегда казалась в нем каким-то небывалым видением, и никогда не могли приучиться к ее виду, никогда и не умела она поддержать важности своего сана.
Впрочем, кто мог бы проникнуть в души собравшихся на совет Великокняжеский, кто, не ослепляясь блеском и наружным видом, умел бы смотреть беспристрастно, тот увидел бы и узнал с первого мгновения, как нестройно, несогласно, наскоро составлено было все это собрание. Ковры, паволоки, подзоры взять из кладовой и положить, развесить близ престола было и легко и недолго. Но тут являлось странное смешение людей, лиц, мнений, отношений, характеров. Кто не покраснел бы от стыда, не потерявший еще способности краснеть, если бы произнесены были в собрании слова: изменник, вероломец, клятвопреступник? Впрочем, этой беды опасаться было нечего. Кроме того, что, где все виноваты, там никто не прав и, следственно, все правы, спрашиваем: кто осмелился бы сказать все сии слова, заставляющие краснеть? Наконец, удивительно гибкая совесть царедворцев умела уладить все слова и лица так же хорошо, как уложены были уборы, ковры, оружие, одежда. Все глядели благоговейно вниз, потупив глаза, сложив руки; седые бороды стариков были гладко расчесаны; русые и черные кудри молодых примаслены и разглажены. Уже найдены были приличные слова и выражения для того, чтобы говорить о воцарении Юрия, падении Василия, переходе бояр, войска и народа к новому князю и завладении Москвою. И надобно было приискать эти слова и выражения: все, кто заседал в совете Василия, были теперь в совете Юрия, все – кроме Басенка, Ряполовских и князя Василия Ярославича. Тут видны были Юрья Патрикеевич, Старков, Ощера, Туголукий и с ними – Иоанн Димитриевич и боярин Морозов, всегдашний наперсник Юрия. Страшное сомнение возникло было о том, где кому сесть; но Юрий прекратил его, объявя, что до его великокняжеского рассмотрения, все должны быть без мест, то есть не должны считаться местами. И что же? Честолюбие умело и тут отделить себе уголок! Все старые, почетные бояре сели ниже и оправдали пословицу: унижение паче гордости. В то же время разные партии и отношения размежевали все собрание на разные части. В одной стороне особенно собрались бояре московские, покорившиеся Юрию и думавшие быть отличенными за гибкость совести; в другой бояре звенигородские, гордые победою своего князя и думавшие торжествовать над московскими своею случайною верностью; в третьем месте молодые честолюбцы, надежные[122] на то, что ими при перемене властителя заменят старых бояр; в четвертом люди, желавшие только того, чтобы их не трогали и дали им средство, как медведям в зиму, лежать спокойно в берлоге и сосать лапу.
– Прежде всего, мои верные, добрые сановники, князья, бояре и думные люди, – сказал Юрий, – воздадим единодушно хвалу единому победодавцу Богу, им же царие царствуют и сильные творят правду. Буди имя его благословенно, всегда, ныне и присно и во веки веков!
Он стал медленно креститься. Руки всех зашевелились, и с глубоким, набожным вздохом, многие вслух повторили слова Юрия. «Постой, постой, – говорит Туголукий соседу, – дай же и мне руку-то вытащить, да перекреститься. О дай, Господи! такое же долголетие и благоденствие Великому нашему князю, Юрию Димитриевичу, как тесно теперь в собрании нашем от великого множества людей, приверженных к нему душою и телом!» – проговаривал он вслух.
Туголукий не был выгнан из собрания; он исполнил свое намерение – поднес у Фроловских ворот хлеб-соль Юрию, поклонился ему при всем народе в ноги и теперь спокойно сидел в ряду с другими.
– Хочу означить победу правого дела и возвращение мне законного моего, отчаго и дедняго стола, – продолжал Юрий, – жертвою новому преподобному чудотворцу Сергию, его же святые мощи уже десять лет явлены миру пребывают. Духовный отец мой, игумен Савва, молил меня, да прейдет в основанный им Звенигородский монастырь, что на Сторожах. Исполняю его желание и вдаю богатый вклад в сию милую для меня обитель, которую почитаю моею, особенною, великокняжескою обителью. Но, да вознаградит обитель преподобного Сергия потерю сего святого мужа: умолил я старца Зиновия, гробового монаха[123], при мощах преподобного Сергия находившегося, принять звание настоятеля Троицкой обители. Начатый строением над мощами преподобного Троицкий собор повелел я, моею великокняжескою казною, выстроить велелепно, весь из белого камня и повелел расписать его корсунским писанием[124] изографу Даниилу, и сопостнику его Андрею. Вдаю в обитель святого Сергия 5 сел, 6 приселков и 12 деревень. Подчиняю ей на веки веков: монастырь на Москве, что Богоявления Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа; да еще монастырь Николай Чудотворец, в Дерязине, что в Переяславле, да еще Девичий монастырь, церковь Покрова Пресвятыя Богородицы на Хатькове, и по всем тем обителям игумен Зиновий избирает, управляет и ведает в церковных чинах, в монастырских строениях и во всем, духовне и телесне. Все сущие и сущия в обителях сих, да чтут его и да повинуются ему во всем, по Боге, без всякого прекословия; имеют же его честна, во всяком опасении и порадовании, яко присного своего господина, отца, пастыря и учителя, зане обрели мы его во всем благоговении и чистоте, боголюбива, боящегося Господа, сокрушенна сердцем и приводяща себя во вся благая и спасительная дела. И отныне на веки вотчины, села, деревни, починки и весь быт святыя Троицкия обители Сергия Чудотворца тарханною грамотою освобождаю я от всякия посохи, ямского, тяглого, осмичного, косток, поженного. И все люди, кои суть обители сея, на яму с подводами да не стоят, ни лесу, ни камня не возят, ни конских и проезжих кормов не дают, полоняничных денег не платят, проводников татарских и немецких не ставят и в своры, на волки, лисицы, медведи и лоси не ходят, и ловчие, и охотники, и псари к ним не въезжают, станов у них не чинят[125], и собак у них не кормят. А куда кто поедет по делу обители, чернец или белец, водою и землею, пеш будет, или на коне, или в ладье – тамги и мыта, головщины и весного, медового и соленого, серебряного и медного, и оловянного никогда, ни с чего и никому не дает, безтаможно, безмытно, безпошлинно, без отзову, без отворота, поворота, подъема и явки. И люди монастырские пошлин и податей никоих не дают и городов не делают, тюрем не ставят и не стерегут, и целовальников к нашему государеву делу не отправляют, и никакого тягла не тянут, и к ямчужному амбару сору и дров не возят. И суд даю обители бессудный, как только им Бог по сердцу положит, и в смесном суде, не с монастырскими людьми, судит настоятель с братиею, а наместники наши, и волостели, и тиуны, и суд наш от всего отступаются. Кто с дерева ли убьется, в воде ли утонет, или водою кого мертвого принесет, или кого возом сотрет, или мертвого подкинут, или зверь съест, лошадь убьет, или кусом кто подавится, громом кого ушибет, или кто от своих рук утеряется – все то судит Бог, да по Нем настоятель, а не я грешный, Великий князь Московский, Божиею милостию.







