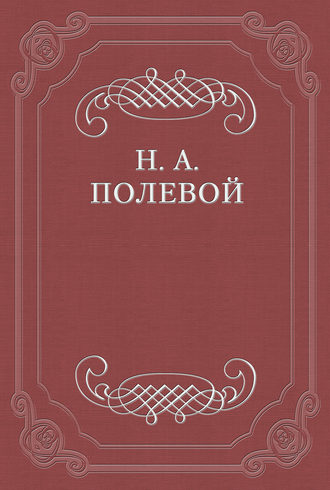
Николай Полевой
Клятва при гробе Господнем
– Скажи, князь Димитрий Васильевич, – спросил он, – как умел ты достигнуть этой простоты нравов, как ты мог воскресить в наше время, горькое и бурное, смирение, радушие наших предков и заставил себя любить, а не бояться? Уверен, что все твои люди добры, счастливы, что они любят тебя.
«В этом и я уверен, – отвечал Заозерский. – Я прежде всего молился Богу, князь; потом удалялся от блеска и шума, и не искал славы и богатства, отказался от всех свар и тягостей мира и величия. Когда отец делил нам наследство, я выпросил себе здешний, дикий, пустой край, застроил в нем селения, заложил Божии храмы, забыл, что я князь, почитал себя помещиком и семьянином. И Бог благословил труды мои. Теперь ожили пустыни; в суровом крае здешнем ничто не достается без труда: я сам подавал пример трудов своим подвластным. Как не любить им меня, коли я сам люблю их? Как не быть им добрым, коли я не подаю им худого примера».
– Счастливый человек! Но как внушил ты им такое радушие, такую простоту в делах и даже речах?
«Я изгнал все дворские чины, все обряды, отчуждающие сердце от языка. Ты назвал меня счастливым, князь, и ты не ошибся: я точно счастлив, как только на земле может быть счастлив человек. Богу угодно было и меня посещать горестями, но я принимал их в страхе Божием, как испытания, а не наказания. Ты удивлялся моему бесстрашию во время бури на озере, но это не была человеческая храбрость, а упование, твердое упование на Бога, никогда непреложное, с коим не страшны волны, ни морские, ни мирские. С ним претекал я и по волнам жизни. Я женился уже не в молодых летах, и добрая супруга моя – дай ей Бог царство небесное! не долго погостила со мною. Она оставила мне трех сирот. Я не хотел посягать на второй брак, не хотел отдать детей в волю мачехи, и сам посвятил им свои заботы. Они утешают меня за то в старости. Ты видел моего младшего сына – не моего уже, а Божьего. Я жертвовал им с верою Авраама! Вот старший.
Ни тот, ни другой никогда в жизнь свою не огорчали меня ни словом, ни делом. И где же им насмотреться и наслушаться худого? Порок не родится с человеком, но пристает к нему в мире, как заразительная болезнь. Симеон мой удалец на охоте, славный наездник; Андрей с малых лет был кроток, молчалив, склонен к грамоте. Наконец Бог внушил ему мысль посвятить себя служению Его. Благослови его, Господь! Симеону передам я своих остальных детей – дочь и подвластных моих, которых почитаю не рабами своими, но детьми. Он должен будет заботиться о том, как устроить судьбу сестры и подвластных после меня, и тем легче ему будет это, что дочерью Бог благословил меня кроткою, благочестивою и смиренною, а подданных у меня немного… Постой, князь: полюбив тебя еще прежде за дела твои, еще более, когда я увидел тебя, почитаю уже тебя другом моим. Не за то я тебя полюбил, что ты внук Донского и сын старшего из русских князей, но за дела твои, о которых и в нашу глухую сторону дошла весть. Да! кто мог оказать правоту души в таком деле, в каком оказал ее ты? Кто сам такой молодец, как ты, тому сердце и душа моя всегда открыты! Сейчас хочу я показать тебе этому доказательство. – Боярин! – сказал Заозерский, обращаясь к одному старику, – поди и скажи моей Софье, чтобы она пришла сюда, поздравила моего дорогого гостя с приездом и поднесла нам по чаре заздравной». – Боярин поклонился и вышел.
– У вас в Москве – говорят – татарский обычай прятать жен и дочерей вошел в сильное обыкновение. Но мы думаем еще по-старому: не крепкий терем бережет девичью славу, но добродетель и смирение. Жены и дочери у нас ходят всякое воскресенье в церковь Божию, и мы не скрываем их перед нашими друзьями и людьми искренними.
«Памятно мне будет пребывание у тебя, князь Димитрий Васильевич, – сказал Шемяка, задумавшись, – и грустно думать мне, что я старше тебя горем, какое перенес доныне, и опытом в жизни человеческой и в страстях людских. Смотря на тебя, отдыхает душа моя от всего, чего ты не видал и не знаешь, и что я видал и знаю».
– Бог создал людей на счастие в жизни сей, но мы сами мытарим своим счастием. Кто же нам велит обуреваться страстями и накликать на себя горе, если мы не знаем меры любочестию и тщеславию? Вот, не в осуд будь сказано, племянник мой Александр Ярославский – к чему кривил душою, в делах между твоим родителем и его племянником? Поверь, что он ничего не выиграет. Не мое дело судить, а больно нездорова душе человеческой кривизна. Лучше малое с правдою, нежели многое с неправдою.
В это время возвратился боярин и сказал: «Князь Димитрий Васильевич! дочь твоя, княжна Софья Дмитриевна, по твоему приказу пришла приветствовать гостя твоего».
Две старые няни вступили в это время в комнату. Все присутствовавшие, кроме князя Заозерского, встали. Вслед за нянями вошла девушка. Глаза Шемяки устремились на нее. Девушка низко поклонилась на все стороны. Шемяка – забыл отдать ей поклон… Ему показалось, что вся комната пошла кругом: он чувствовал, что вся кровь бросилась у него к сердцу и опять отхлынула от сердца.
Бела, румянец во всю щеку, высока, стройна, с голубыми большими глазами, в землю потупленными, с жемчужного повязкою, от которой висели поднизи на лоб и виски, с русою, длинною косою, заплетенною в широкою решетку во весь затылок и сходившую потом золотою полосою по спине, в ферязе, обхваченном шелковым широким поясом, в золотых серьгах, жемчужными монистами на шее, с зарукавьями на руках, убранными драгоценными каменьями, – такова была молодая княжна, дочь Заозерского.
Тихо, неслышными шагами, подошла она к отцу, молча поцеловала его руку, взяла у няни небольшой поднос, который няне передан был от дворецкого. На подносе стояли две серебряные чарки, налитые вином. Не смея поднять глаза, подошла она к Шемяке; руки ее дрожали, так что вино едва не плескалось через край чарок, и тихо начала говорить:
«Князь Димитрий…» Княжна забыла, как звали Шемяку по отцу, остановилась, щеки ее загорелись сильнее.
Шемяке хотелось бы затаить свое дыхание на это время, чтобы вслушиваться в каждый звук соловьиного ее голоса.
– Юрьевич, – промолвил отец, смотря на дочь с любовью и радостью.
«Князь Димитрий Юрьевич, – сказала тогда княжна, – поздравляю тебя с приездом и прошу выкушать на здоровье».
Что-то хотел сказать Шемяка, но не умел, поклонился княжне, взял чарку, другую поднесла княжна отцу своему; всем присутствовавшим, кроме молодых людей, поднесены были также чарки. Общий голос: Здравия князю Димитрию Юрьевичу! – раздался в комнате.
– Князь Димитрий Васильевич, будь и ты здоров, с любезными детками своими и со всеми домочадцами! – отвечал Шемяка, выпил чарку и хотел поставить на поднос; но руки княжны дрожали, как уже говорили мы, а Шемяка, Бог знает от чего, смущался – и чарка покатилась с подноса и упала на пол. Княжна ахнула и побледнела. Шемяка поспешил поднять чарку, извиняясь в неловкости, а княжна снова зарумянилась, улыбка мелькнула на ее устах и глаза как-то нечаянно встретились с глазами Шемяки.
Скромно поклонилась она опять всем; отец поцеловал ее в лоб, и она вышла, сопровождаемая своими нянями.
– Ну! сядем опять и выпьем! – сказал Заозерский. – Девичье дело робкое, и скромность, лучше камня самоцветного, убор девушке. – Шемяка что-то бормотал о счастии Заозерского в детях.
«Да, Богу благодарение за детей моих – в глаза и за глаза скажу… Ты, Семен, этим не гордись, но помни, что все от Бога и от того, что ты помнишь заповеди Его», – сказал Заозерский, принимая поднесенный ему кубок. Растроганный сын поцеловал его руку.
Ужин был кончен; но кубки продолжались, при беседе умной, веселой, растворяемой благочестием. Князь велел подать даже заповедных своих наливок. Уже навеселе и поздно встали из-за стола, и после молитвы, прочитанной вслух Заозерским, Шемяку проводил юный князь Симеон в отдельные покои, для гостей назначенные.
Рассеян, странен сделался Шемяка после ухода княжны Софии Дмитриевны. Он мешался в ответах и даже заставил некоторых из присутствовавших тихонько усмехаться и покашливать для скрытия своего смеха. Сказав несколько слов Чарторийскому, Шемяка спешил лечь, простился с ними, и – не мог уснуть. Не знаем, что он видел во сне. Не угадаете ли вы?
Глава III
Кузнец, кузнец! скуй мне венец;
Из остатков золот перстень:
А мне тем ли венцом венчатися,
А мне тем ли перстнем обручатися…
Старинная песня
Три дня прошло со времени приезда Шемяки к князю Заозерскому, но не видно еще было сборов в обратную дорогу. Чарторийский с досадою подошел к Сабурову утром на четвертый день, оглянулся кругом и сказал ему:
– Слышно ли что-нибудь о нашем отъезде?
«Нет, я ничего не знаю», – отвечал Сабуров.
– Не в добрый час пустились мы в эту дорогу – не тем ее помянуть!
«А что тебя сердит, князь?»
– Что? Хорош спрос! Да, что мы здесь делаем? Я не узнаю ни себя, ни князя Димитрия Юрьевича. Один только и оставался лихой князь на Руси, и тот начал теперь по монастырям ездить, завез нас в эту глушь и растобарывает с ханжой, старичишкой, на которого прежде и не взглянул бы.
«Тебе не нравится Заозерский?»
– Неужели тебе он нравится? Чем этот князь отличается от богатого смерда? Где он бывал, что видел? Чем может похвалиться? Только что монахов кормить, да о Писании толкует и сам на поварню заглядывает. Без него баба горшка щей в печь не поставит. Заметил ли ты, что у него подле стола, на стенке, висит большой ключ? Это ключ от его княжеского погреба. Вчера он приводил какие-то слова из духовной… какого бишь князя…
«Ведь он и твой предок был, этот князь – как же ты его не помнишь?»
– Что мне от этих предков, когда они мне ни в кармане, ни на земле ничего не оставили… Да, вспомнил: какого-то Мономаха! Ты расхохочешься, Сабуров, что этот Мономах, монах, заказывал детям в духовной[150]: «В дому своем сидя, не ленитесь, но за всем сами смотрите; не зрите на тиуна, ни на других, чтобы не посмеялися пришельцы ни дому, ни столу вашему». Слова эти так забавны, что я заставил Заозерского повторить их раза три и затвердил.
«И по завету предков Заозерский смотрит сам за погребом и за горшками в печи? Ха, ха, ха!»
– Всего непонятнее: как он умел облелеять нашего князя? Тот с ним не расстается, глядит ему в глаза, не наслушается его речей и совсем почти не говорит со мною.
«И со мною. Он сделался печален, уныл, мрачен. Знаешь ли что? Заозерский совсем не так прост, как кажется: он старик плут!»
– Да, плут. Ты догадываешься?
«И ты?» – Они взглянули друг на друга, как будто не смея сказать угаданной ими друг у друга мысли.
– Его женят! – шепнул наконец Чарторийский.
«Да его обабят! – промолвил также Сабуров, – и тогда плохо нам будет…»
– Не в добрый час пустились мы в эту дорогу – не тем она будь помянута!
«Ты любишь эту поговорку, князь?»
– Дедушкина. Только у меня и наследства, что добрый меч дедовский, да несколько поговорок, как, например, эта: помути, Боже, народ, накорми воевод!
«Да – когда наш князь сладит с этим стариком[151] – прощай наши веселые гулянки, лихие забавы! Нашего князя постригут и пойдет род маленьких монахов, как боголюбивый княжич Андрюша».
– Впрочем, боярин… Черт побери – что за девка! Кровь с молоком! Только я не люблю белобрысых…
«Ну, что в ней хорошего: она слишком сухопара; мне давай дороднее! Вот моя красавица, когда поперек руками не обнимешь!»
– Да ведь ты не князь Долгорукий! Нет! что ни говори, а за одни глаза этой пустынницы можно полвека отдать. Что за глаза, Сабуров! Не дивлюсь, если у Димитрия Юрьевича сердце ретивое с места они сшибли!
«Глаза, глаза! Я охотник не до глаз, но до румяных щек, а наша монахиня-княжна совсем не румяна. У нея краска, как роза; настоящий румянец должен походить на красный мак».
– Однако ж, если он женится на ней – ведь издохнешь с тоски, Сабуров! Уговаривай князя поскорее уехать в наш благословенный Углич. Ох! если бы теперь пуститься нам в Москву, либо в Звенигород! Ведь уж там началась свалка – была бы работа мечу дедовскому!
«Ты, кажется, имеешь сведения верные об этом, князь Александр?»
– Я? нет! Я так думаю по рассказам этого новгородца, которого видал у тебя в Угличе, а вчера нечаянноьздесь встретил.
«Встретил?» – с беспокойством спросил Сабуров.
– Да, – отвечал Чарторийский, не заметив его беспокойства. – Ты не видал его разве? – продолжал он.
– Нет. Да, зачем он здесь?
«Стану я спрашивать! Ведь эти новгородцы везде шатаются и все знают…»
Разговор прерван был приходом Шемяки. Собеседники остановились. Шемяка был задумчив, лицо его бледно.
«Поди, – сказал он, обращаясь к Сабурову, – и спроси у князя: могу ли я его видеть теперь?»
Сабуров пошел. Шемяка, без мыслей, казалось, смотрел в окно. Чарторийский осмелился начать разговор,
– Вот на счастье наше, морозы, и снег повалил. Если три дня пойдет он так, то можно будет лихо прокатиться до дома.
«Да, мы скоро поедем…»
– Право, князь? – сказал весело Чарторийский, но угрюмый взор Шемяки остановил его. – Прости меня, князь… – продолжал он.
«Оставь меня, любезный мой товарищ и друг – я теперь не в состоянии ни шутить, ни смеяться, ни говорить, ни думать…»
– Князь! не для одного смеха и радости Бог дал мне душу, но и для того, чтобы делить печаль друзей моих…
«Знаю, знаю, уверен в этом, но…»
Сабуров возвратился, донося, что встретил князя Заозерского, шедшего к Шемяке. Вслед за ним вступил Заозерский. Он нес на руках небольшую книгу.
– Ты угадал мое намерение видеть тебя, любезный гость, – сказал Заозерский. – И знаешь, зачем шел я к тебе? Как сборщик на церковь Божию, ктитор двух монастырей, предложить: не угодно ли будет тебе пожаловать что-нибудь на сооружение нового придела в Спасокаменской обители.
«Охотно, охотно, князь! – отвечал Шемяка, – сколько ты назначишь…»
– О, нет! что тебе Бог на сердце положит, то и пожалуй.
Сабуров и Чарторийский между тем вышли. Шемяка взял книгу и казался в замешательстве, Заозерский смотрел на него с удивлением. Шемяка кинул книгу на стол и бросился обнимать старика.
– Что с тобою сделалось, князь? – спросил Заозерский беспокойно.
«То, что от одного слова твоего, князь, зависит вся судьба моя. Я решился – реши ты! Если бы я говорил с ханжою, или коварным князем каким-нибудь – может быть, я был бы осторожнее. Но с тобой говорить хочу я, как с самим собою! При первом взгляде на тебя, казалось мне, что я вижу в тебе родного, отца – князь! будь мне отцом! От твоего слова все зависит!»
– Любезный гость мой! что ты говоришь? Боюсь ошибиться…
«Ты не ошибешься – да, не ошибешься!»
– Неисповедимы судьбы Божии! – сказал Заозерский, крестясь.
«Да, неисповедимы! Надобно было мне бежать от свар и смут княжеских, бежать сюда, узнать тебя, увидеть ее! Князь Димитрий Васильевич, отец мой родной! прости меня – она будет со мною счастлива – не гонись за славой и богатством! Знаю, что она достойна венца великокняжеского – требуй его, скажи, ты увидишь… я готов и его добывать…»
– Душа добрая, душа пылкая, юноша по сердцу моему! обдумал ли ты все это?
«Я не в состоянии ни о чем думать. Знаю только, что если ты не отдашь ее за меня, то я сейчас еду, и не в Углич мой, но в Москву, в Москву, на битву, в бой – за брата, против брата – кто первый начнет, тот будет мой товарищ!»
– Бурный порыв юности! Да, таким я всегда представлял его себе – таков он и есть! – сказал Заозерский. – А что теперь мне делать? Вразуми меня, Господи!
«О, я знал, я предчувствовал, что мне суждена везде горькая участь, что я не стою ее, что мир благочестивого рода вашего возмущу я собою, что не мне владеть этим ангелом Господним…»
– Что ты говоришь, князь! Не греши: человека называть ангелом!
«Да неужели ты думаешь, что она человек? Но, кончено, и больше ни слова! Князь Димитрий Васильевич! прощай – спасибо тебе за хлеб за соль, спасибо за то, что ты указал мне, как и в этом треволненном свете можно быть счастливу. Ну! душа моя забудет, отдохнет…»
– Да, постой, постой! Ох, какой это бешеный народ-прости меня… Князь! дай мне одуматься…
«Тут нечего думать! Говори, если еще не сказал ты довольно ясно».
– Я не привык поступать так, князь Димитрий Юрьевич! Благословясь и подумавши начинают такое важное дело…
«Да, разве не благословение Господне святое чувство это, которое ощущаю я в сие мгновение к твоей дочери? Не показывает ли оно, что Бог соизволяет на мое счастие? Осталось за нами, за людьми! Чего еще тебе надобно? Послов, сватов? А! так и ты подвержен человеческим слабостям, тщеславию, гордости? А я думал видеть в тебе совершенного человека!»
– Един Бог совершен; но ты грешишь, князь, и обвиняешь несправедливо старика, которого хочешь назвать отцом своим.
«Будь же им, будь – я забуду тогда имя князя!»
– Сядь, сядь, любезный князь мой! – сказал Заозерский, усаживая насильно Шемяку. – Говорю тебе: дай мне опомниться, одуматься…
«Тут нечего думать, повторяю тебе – если ты не князь только, а точно человек».
– Но ты князь столь великого рода: у тебя есть родня, есть друзья… Их мысли…
«Нет у меня никого – ты видишь сироту, у которого нет ни отца, ни матери: этот сирота пришел к тебе и просит тебя быть отцом его. Что тебе до моих родных!..»
– Дай мне сроку… хоть на три дня.
«Прощай, князь! стало быть, ты не отдаешь мне своего неоцененного сокровища!»
– Хоть немного подумать…
«Три дня! Да переживу ли я эти три дня? Я лишился пищи и питья, сна нет, голова кругом, а он на три дня откладывает, как будто судное дело, по которому справки собирать надобно! Ох, ты, человек праведный! Диво ли, что ты был всегда добродетелен, если ты не знал ни одной страсти человеческой, если ты никогда не испытывал и этого проклятого чувства, которое хуже ада, которое на мученье людское на белом свете…»
– А давно ли называл ты любовь свою благословением Божиим? – Заозерский улыбнулся.
«Не смейся надо мною, князь! Сам я всегда смеялся над зазнобами и ахалками – почитал это бабьим делом. Да, никто же и не любил так, как я! Где тебе знать, как любят!»
– Нет! я знаю его, это, и горестное, и сладостное, чувство, хотя не испытывал его столь сильно, как ты. Добрую подругу свою знал я с малолетства и любил ее, сначала как сестру, а потом Бог привел ее быть мне супругою, и – счастлив, счастлив был я с нею!
«Тебе дорога память ее?»
– Ее память? И теперь, хоть уже много лет она в сырой земле… эх! не напоминай об ней! – Слезы покатились в два ручья у старика, и он закрыл глаза рукою.
«Нет! нарочно напоминаю: ее памятью, если ты еще помнишь ее, заклинаю, молю тебя, князь, добрый мой князь!» – Заозерский обнял Шемяку и, целуя его в пламенные щеки, сказал, усмехаясь сквозь слезы:
– Но, ты все еще не сказал, чего ты желаешь?
«Руки твоей Софьи Дмитриевны, ее одной! Князь! не мучь – скажи мне!»
Заозерский обнял его еще раз и тихо проговорил: «Она твоя – твоя на веки веков!»
Невольно упал на колени Шемяка и целовал руку старика. Обратив глаза к образу, Заозерский проговорил: «Боже великий, неисповедимый! Во имя Твое, святое, да будут они благословенны! Сократи дни мои и предай им долгоденствия; возьми мое счастье и отдай его им! Князь Димитрий Юрьевич! отдаю тебе дочь свою милую, блюди ее, храни ее!» Он благословил Шемяку. – С радостным кликом обнял его Шемяка. «Отец мой!» – «Сын мой!» – слышны были их восклицания.
Плакал Заозерский, обнимая Шемяку, плакал он, сев подле него на скамью и тяжело дыша. «Судьбы Бога тайные, – сказал он наконец, – думал ли я, отводя сына моего во храм Господа, что там ожидал уже меня сын, Богом ниспосылаемый в замену того, которого жертвовал я Господу?.. Но, нет: сердце мое вещало мне с первого на тебя взгляда, что ты мне не чужой!»
– И мне, – сказал Шемяка. – Говорю тебе, что мне казалось с первого раза, будто ты мне родной. Грусть непонятная и радость какая-то тревожили меня. Но когда увидел я твою Софью – все разрешилось, и я сказал сам себе: вот моя суженая! Моя! ох, отец мой – моя? не правда ли?
«Да, да! Сбил ты меня с толку – ей, ей! какой человек – я и сам не опомнюсь… Да, как все это сделалось!»
– Он у меня спрашивает! Да, я что могу растолковать тебе?
«Довел меня Бог видеть дочь мою невестою князя Димитрия Юрьевича, о котором столько говаривали у нас. Что теперь скажут большие князья и знатные люди? Князь! опрометчиво поступили мы, не подумали – меня станут осуждать и тебя… Нам надобно было обо всем этом раздумать…»
– Думай отныне за меня ты! я твой сын и от всего отказываюсь. Не внук Донского, но простой углицкий князь будет зятем твоим… Пойдем же к ней, отец мой! пойдем к ней поскорее!
«Как? Погоди до вечера; дай собраться; мы вас благословим и тогда посидим рядком и полюбуемся на вас».
– Ждать еще? До вечера? Нет, нет, отец, родитель мой! сжалься надо мною – дай мне хоть взглянуть на нее…
«Знаю я это взглянуть! – сказал, усмехаясь, Заозерский. – После, после!»
– Нет! теперь, пойдем, пойдем к ней, – Шемяка тащил его за руку.
«Эдакая горячка! Погоди, говорят!»
– Безжалостный человек! ты нагляделся на нее с малолетства, а я только раз видел ее, и после того прошло три дня!
«Да, ведь теперь она не в приборе: ты разлюбишь ее, ненарядную, увидевши днем. Она и не выйдет к тебе – она такая упрямая, своенравная – по мне пошла!»
– Отец! ради Бога Создателя!
«Вот ведь с этой молодежью – свяжись, так и не рад будешь! Да, меня-то за что ты обнимаешь, голова удалая, сердце ретивое? Я Софья, что ли?»
– Ты отец мой, ты мой спаситель!
«Постой же, я велю хоть позвать ее из терема к себе – постой – видно, от тебя не отбиться!»
Заозерский пошел. Шемяка остался один. Ему казалось, что земля горит под его ногами. Он задыхался он жара и подошел к печке, пощупать: не слишком ли печка была натоплена в этом покое. Но печку в этот день еще и не топили… Время летело. Шемяка терял терпение. Он хотел уже идти к Заозерскому, когда старик дворецкий вошел и, радостно усмехаясь, сказал: «Князь Димитрий Васильевич ждет тебя, князь Димитрий Юрьевич».
Холод пробежал по телу Шемяки от этих слов. Он побледнел, хотел ступить ногою и не мог. Дворецкий в испуге подбежал к нему. «Ничего, ничего, добрый старик – от счастья не умирают!» – сказал Шемяка.
Счастливец!.. Смеешь ли роптать, ты, бедный человек, на бытие свое, если Бог украшает жизнь твою такими минутами, такими перлами счастия!
Поспешно пройдя до молельной князя Заозерского, Шемяка остановился. Дворецкий отворил дверь: там стоял Заозерский, старик боярин его, князь Шелешпанский, и старая няня – подле нее стояла София, бледная, как полотно.
Испуганный ее бледностью, Шемяка вошел робко и остановился. Заозерский стал на колени перед кивотом, где находились в богатых ризах образа, и начал молиться. Все преклонили колена, и Шемяка следовал примеру других, сам не чувствуя что делает.
После трех земных поклонов Заозерский встал. София хотела подняться, но не могла. «Дочь моя милая», – сказал ей Заозерский. Яркий румянец показался на щеках ее, и она поспешно встала. «Дай мне твою руку», – продолжал Заозерский. Как будто лихорадка била Софию. Она опять побледнела и вся дрожала.
С неизъяснимым чувством радости, горести – нет! ни радости, ни горести – смотрел на нее Шемяка и без мыслей промолвил: «Княжна! родитель твой согласен на мое счастье, но ты…»
Глаза Софии обратились к нему и слезы, как крупный жемчуг, посыпались с ресниц ее. Она готова была лишиться чувств. Няня поддержала ее.
– Князь Димитрий Васильевич! – сказал Шемяка, – неволею только татары берут. Если княжна…
«Давайте мне ваши руки!» – отвечал Заозерский, со слезами на глазах и с улыбкою на устах.
София протянула руку, Шемяка тоже сделал, и ему показалось, что огонь пробежал по всему телу его, когда рука его коснулась руки Софии. Сложив руки их вместе, Заозерский проговорил: «Бог да благословит вас! Живите и веселите нас, стариков!»
Схватив руку Софии, Шемяка устремил взоры свои на глаза ее. Жарко вспыхнули щеки ее; она скрыла лицо свое на груди няни.
«Княжна, княжна! одно слово из уст твоих! Одно твое милое слово!»
– Полно, князь, – сказал Заозерский. – Девичьи слова дороги – их не скоро добьешься.
«И, матушка княжна! полно совеститься: ведь уже князь Димитрий Юрьевич теперь твой суженый, С Божьего и с родительского благословения!» – говорила няня.
– Нет, княжна! скажи мне, скажи, если я тебе не нравен, если ты не любишь меня… – говорил Шемяка, не опуская руки Софьиной.
«Да, скажи ему, родная!» – говорила няня, усмехаясь. София что-то пробормотала няне. – «Что говорит она?» – воскликнул Шемяка.
– Да, что говорит: я уж его и во сне сегодня видела! Вот что говорит она.
Напрасно София хотела загородить рукою уста нескромной няни: слова были сказаны; тайна ее открылась. Безжалостная старуха отодвинулась от нее, и София осталась одна, выданная страстным взорам Шемяки, с раскрасневшимися щеками, на которых бледность не смела уже появляться. София не знала, куда ей скрыться от людей, не смела поднять глаз. Шемяка любовался ею и не отваживался к ней приблизиться. Заозерский, няня и Шелешпанский смотрели на них улыбаясь.
«Ну, коли так, то о согласии ее и спрашивать нечего. Кто во сне девичьем мерещится, тот наяву любится. Да впрочем, ведь я ее не принуждал; она добровольно сказала мне: Да! Не правда ли, Софья?»
– Да, – прошептала она, едва внятным голосом. Шемяка – не говорил ни слова.
«Ну, поздравляю тебя, князь Димитрий Юрьевич: ты такой же молодец бить врагов, как уговаривать стариков и завоевывать сердца девушек. Поздравляю тебя!»
Заозерский обнял Шемяку. Шелешпанский рассыпался в поздравлениях после того, наговорил даже много и такого, отчего щеки невест горят ярче. Старики наши любили шутку и позволяли себе быть нескромными в шутках при таком случае. Дошла очередь до старой няни: весь сказочный набор приветствий рассыпала она, уподобляя невесту бурмитской жемчужине, белой лебедке, светлому месяцу, а жениха камню самоцветному, ясному соколу и светлому солнышку. «Да, я уж предвидела, – продолжала болтливая старуха, – что этому быть, когда с подноса княжны чарка упала, как она подносила здоровье князю Димитрию Юрьевичу. Дай вам, Господи, любовь да совет, мир да привет на тысячу лет. А теперь вам надобно, по нашему обычаю, поцеловаться. Поцелуй, как замок, два сердца смыкает, и после него уже нельзя воротиться, да и не захочется: так тебя и тянет к любимому человеку, которого хоть один раз в жизни поцеловал!»
Легко прикоснулся губами своими Шемяка к ротику Софии. «Княжна! – сказал он ей, – на земле ли я, или уже в раю небесном?» Взгляд, брошенный украдкой, взгляд нежности, заботы, замешательства, был единственным ответом Софии.
Долго хотел бы Шемяка пробыть в этом сладостном забвении самого себя, но Заозерский напомнил, что пора расстаться. Счастливец теперь имел уже довольно сил исполнить повеление старика. Заозерский и Шемяка встретили толпу бояр и дворян в большой комнате. Они собрались радостно приветствовать своего князя, поздравлять Шемяку и потом спешили готовиться к вечеру. Шемяка ушел в свои покои; ничего не говорил он о своей невесте с сопутниками – с ними не хотел он говорить – и Чарторийский и Сабуров проклинали Заозерского, думая, что их время уже миновалось. Так поступают все угодники страстей своего повелителя, если видят, что он разрывает ничтожный плен их. К вечеру весь дворец был освещен. Богато одетый, цветущий радостью явился Шемяка и казался первым красавцем в кругу придворных князя. Он в самом деле похорошел в несколько часов: время красит, безвременье старит. Вывели невесту, со всеми обрядами, в дорогом убранстве и, по прочтении молитвы священником, благословили дедовским образом жениха с невестою. Тогда мог Заозерский полюбоваться, видя рядком милую дочь свою с юным ее женихом. Пошли кубки по рукам. По странному смешению религиозных обрядов с житейскими обычаями, едва благословили невесту, и едва священник раскланялся, едва прошли слезы умиления и благоговение на лицах присутствовавших, во дворе княжеском застучали в медные тазы и железные сковороды, старики пустились в шутки и прибаутки, и хор девушек, подруг княжны, призванных к ней с обеда и разряженных, запел свадебные песни. Хотите ли знать их?
Не лежи, черный бобр, у крутых берегов,
А черна куница возле быстрой реки;
Не сиди, князь Димитрий, во чужом пиру,
Князь ты Димитрий Васильевич;
Снаряжай свадебку молодой княжны.
Молодой княжны Софьи Дмитриевны!
– Глупые вы люди, неразумные!
Уж у меня свадьба снаряжена,
Девять печей хлеба напечено,
Десятая печь витых калачей,
Витых калачей с завитушками;
Девять поставов браги наварено,
Десятый постав меду крепкого;
Уж у меня приданое изготовлено!
Девять городов, с пригородками,
Девять теремов, с притеремками.
* * *
На заре рано, на утренней,
На восходе красного солнышка,
На закате светлого месяца,
Не от ветра, не от вихоря,
У князя Димитрий Васильевича
Учинилась беда великая:
Вода на дворе возлелеяла,
Три кораблика уплыло —
Первый с червонным золотом,
Второй со светлым серебром,
Третий с красною девицею,
С княжною Софьею Дмитриевною.
Не жаль мне червонного золота,
Не жаль мне светлого серебра,
Только жаль мне красной девицы:
Та у меня была дочь родимая,
Дочь родная, дочь любимая.
* * *
Венули ветры по полю,
Грянули веслы по морю;
Ходит княжна в высоком терему,
Княжна Софья Дмитриевна,
То подумаешь, то раздумаешь;
С кем бы мне думушку придумавши,
С кем бы мне крепкую раздумаши?
Думать думу с родным батюшкой —
Та ей дума не верна, не крепка,
Те словеса ей не понравились;
Думать думу с одной матушкой —
Та ей дума не верна, не крепка,
Те словеса ей не понравились;
Думать думу с молодым князем,
Князем Дмитрием Юрьевичем —
Та ей дума верна и крепка,
Те словеса ей понравились.
Так пели подруги княжны, пока старики и гости чокались кубками и шумели; жены князей и бояр сидели неподвижно, а жених наговаривал невесте речи любви и счастия, держал ее белую руку в своих руках и иногда, украдкою, целовал ее румяные щеки и нежный ротик. Ужин был сытный и – пьяный. Расставаясь, при громких песнях, София сама поцеловала Шемяку, когда старики обнимались и, с шумом прощаясь, клялись в вечной любви к Заозерскому и в непременном счастии жениха и невесты. Как ни тщательно старались дворецкие Заозерского помогать гостям убираться домой, однако ж двоих нашли потом в углу, забытых. С трудом могли уверить их, что они расположились спать не дома. Один послушался и скоро побежал, когда объявили ему приказ супруги его; у другого совсем пропал хмель, когда нарочно стали говорить подле него, будто у соседа его, в прошедшую ночь, вытащили скрынку с деньгами из кладовой.
Три дня, каждый вечер, продолжались подобные гулянки. Радовались все подданные князя; приезжали поздравлять его даже все монахи из Каменского и Куштинского монастырей. На четвертый день угощали обедом их и духовенство, а простому народу выкатили целые бочки браги. Невеста являлась только по вечерам; днем была она невидима, и только жениху позволялось утром, на минуту, являться в ее терем. Шемяка забывал весь мир. Пора было миру сказаться счастливому князю: он был слишком счастлив!







