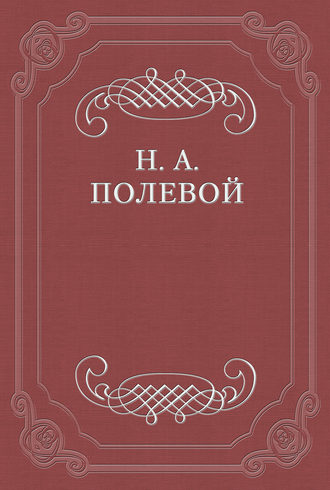
Николай Полевой
Клятва при гробе Господнем
«Ну, удалый молодец! – сказал Буслай, – делать нечего: не чесан ты – купим гребешок золотой и расчешем твои волосы; не умыт ты – вытопим баню, да выпарим удалого! Будь ты мне старший крестовый брат: я твоей милости кланяюсь. Поволь сказать нам честное твое имя и как твое отчество и откуда ты родом-племенем? А мы твоей буйной головушки доселева в Новегороде не видывали».
– Не велика моя порода, не знатен мой род, – отвечал незнакомый богатырь. – Родился я в Старой Ладоге, от дьячка Фалалея; зовут меня, доброго молодца, Иван, по отчеству я Фалалеевич, а по прозванью Дурачок, потому что мне книжное ученье не далось. Хотел было меня отец в звонари поставить, но как я ни зазвоню, все колокола не выдерживают, бьются, расколачиваются, а я чуть увижу, что колокол треснул, схвачу его с сердцов за уши, да и швырну в Ладожское озеро. Прихожане наконец на меня рассердились, сказали отцу, что либо со мною ему жить, либо с ними. Делать было нечего отцу моему: обнял меня, заплакал, надел на меня котомку, дал мне посошок и благословил, идти на все четыре стороны. Шел я, шел путем-дорогою и пришел к вам в Великий Новгород…
Что же, князья, бояре, – сказал тут. Иван Гудочник, – видно вам моя сказка не понравилась: вы ее не слушаете, да, кажется, чуть ли уже вы и не уснули?
Мы не хотели прерывать сказки, которую сказывал Иван Гудочник. Не знаем – понравилась ли она нашим читателям, а слушателям Ивана Гудочника сказка эта очень приглянулась и пришлась по нраву. Они нетерпеливо слушали начало ее, дивились, спрашивали, хвалили старика-сказочника, но с половины сказки начали головы их качаться, глаза слипаться, сон одолевал их, так что они забыли наконец все: и дела свои, и сказку, и Гудочника. Напрасно некоторые еще бодрились, протирали глаза: один за другим заснули все слушатели Ивана Гудочника, кто куда склонивши свои головы. Старик управитель уже давно и крепко спал, между флягами и сулеями. Тишина сделалась такая, как в полночь на кладбище, и только храпение спящих перерывало ее.
Осторожно прислушивался еще некоторое время Иван Гудочник и, понижая голос, говорил: «Что же вы это, князья, бояре, не слушаете? Заснули на таком месте, где пойдет ложь самая пестрая, а правда самая затейливая. Я вам расскажу: как поехал Буслай за море, как попутала его нелегкая и полюбилась ему княжна заморская, как ее унесла некошная сила, как он с товарищами ее отыскивал: был у Чуда Морского, задушил Кащея Бессмертного, провел царя Высокоброва, обокрал Бабу-Ягу, служил у Огненного царя, заклинал еретика-людоеда, рассмешил царевну Несмеяну, выкупил душу отца своего, связанную рукописанием, данным лукавому…»
Уверясь наконец, что слушатели все крепко спали, Гудочник вдруг изменил вид свой. Он вытянулся бодро, со злобною усмешкою поглядел на спящих и сказал; «Спите же, братия моя, и почивайте! Бог предает вас в руки мои; но – я не вор, не разбойник: отдаю и то, что вы мне подарили…» Тут высыпал он на стол серебряные деньги, которые сбросили ему бояре. – «Но, вы поплатитесь мне дороже», – примолвил он, смело подошел к спящему Юрью Патрикеевичу, вынул у него из-за пазухи сумку, вытащил из нее великокняжескую печать, взял разные бумаги и положил сумку опять за пазуху Юрьи. То же сделал он с боярином Старковым. Неспешно пробегал он потом глазами взятые бумаги; не мог скрывать своей радости, видя их содержание, и спрятал свою покражу в карман.
Набожно обратился тогда Гудочник к образу и воскликнул: «Боже великий, вечный, святый! направь бренную руку раба Твоего! Благослови его начинания, пошли сон и слепоту на враги моя, даруй очам моим прозрение, да исполню святую волю Твою!»
Поспешно схватив гудок свой и шапку, Гудочник Осторожно ушел из комнаты. Никто не встретился ему на лестнице; ворота боярского дома были не заперты, хотя возничие и провожатые боярские ушли в теплые хоромы и спали там. Гудочник отвязал от кольца лучшую верховую лошадь, бодро вспрыгнул на нее, тихо съехал со двора и поскакал потом во всю прыть. Снег хрустел под копытами бодрого коня, продрогшего на сильном морозе.
Глава VIII
…Младой, неопытный властитель,
Как управлять ты будешь под грозой,
Тушить мятеж, обуздывать измену![110]
А. Пушкин
На другой день после пира, бывшего у боярина Старкова, рано утром подьячий Беда прибежал в великокняжескую Писцовую палату, разбудил привратников, придверников, пригнал писцов, велел им поскорее приводить все в порядок, расставлял поспешно скамейки, ставил чернильницы, чинил перья. Нельзя было узнать из его неподвижных глаз и сухощавого лица, был ли он испуган, сердит или печален. Он останавливался среди своих занятий, поднимал бороду свою кверху и, казалось, внимательно прислушивался. Вдруг раздался шорох шагов, послышался голос у дверей. Беда оставил свою работу и почтительно вытянулся. Дверь быстро отворилась; вошел наместник ростовский. Одежда его была в беспорядке, лицо бледно, волосы всклочены, голос хриповатый, как будто наместник три дня сряду гулял, или две ночи не спал.
– Еще никого нет! – вскричал наместник. – Смилуйтесь, ради Создателя! Послали ль за ними?
«Послано уже во второй раз», – отвечал Беда,
– Ох! погубят они нас! – наместник бросился на лавку в совершенном отчаянии. Беда долго безмолвствовал и наконец, тихо и почтительно, осмелился спросить, что причиняет его милости такую жестокую горесть?
«Будто ты не знаешь!» – воскликнул наместник, вскочив со своего места. Размахивая руками, начал он ходить вдоль палаты.
– Меня разбудили поспешно, приказали поскорее явиться и устроить все к заседанию княжеской Думы…
Наместник хотел что-то объяснить Беде, как двери расхлопнулись настежь и сам Великий князь вошел, смущенный, едва опомнившийся ото сна, неумытый, непричесанный, в простом, легком тулупе.
– Петр Федорович! Что это такое? Что рассказали мне? Я ничего не понимаю!
«Государь, князь Великий! Не знаю что и все ли тебе рассказано», – отвечал наместник.
– Ты прискакал сюда неожиданно… Говорят, что все погибло, что все мне изменяют, что дядя Юрий поспешно идет к Москве…
«Правда, Государь! Я скакал сюда опрометью – дядя твой идет по Ярославской дороге – моя дружина разбита – я едва спасся!»
Сухое лицо Беды вытянулось при сих словах и сделалось еще длиннее и суше. Князь казался вовсе неразумевшим, что с ним делается. Он только крестился обеими руками. В это время в палату вошли князь Друцкой и Асяки, предводитель татарской дружины князя.
– Где же мои бояре?
«Где твои дружины, Государь! Спроси лучше: где твои воины?» – воскликнул наместник.
– Я не знаю… Асяки! где твоя дружина?
«Мы оберегаем Кремль, Государь!»
– В Кремле все тихо и безопасно, Государь, – прибавил князь Друцкой. – Мои копейщики на страже у Константиновских и Флоровских ворот.
«Тихо ли в Москве?» – спросил Великий князь.
– Не знаю, Государь! Я начальствую только над кремлевскою стражею.
«Кто же в нынешнюю ночь начальник Москвы?» – спросил Василий.
– Не знаю, Государь!
«Кто же из вас что-нибудь знает! – вскричал Василий горестно. – Но не заметно ли в Москве чего-нибудь шумного? Говори, говори прямо, князь!»
– Москва – море, – отвечал князь Друцкой, – и что на одном конце ее деется, того через три дня не узнают на другом конце.
Тут вступил в палату князь Василий Боровский. Он казался встревоженным, смущенным.
«Государь, Великий князь! – вскричал князь Боровский. – Треть Юрия все бунтует, и моя треть волнуется! Спеши усмирять крамольников!»
– Князь, мой любезный брат! помоги мне! Я не знаю, что мне делать! – говорил Василий.
Поспешно вошел в сию минуту еще боярин. Страх и робость были видны на лице его. «Государь! – сказал он, – спеши к своей родительнице: она очень нездорова! Супруга твоя при ней, плачет, рыдает…»
Жаль было смотреть на Василия в сии минуты: смущенный, встревоженный, пораженный вдруг столькими ударами, он не знал, что думать, не знал, что сказать и куда идти! Палата наполнялась между тем боярами и князьями. Явились Старков, Юрья Патрикеевич, Ощера.
– Думные мои советники, бояре, князья мои! – вскричал Василий, – скажите, что со мною делается? Слышу, что против меня идут в торжестве враги, мать моя при смерти, жена плачет, измена раздирает Москву. Но давно ли, не вчера ли еще, были мы с вами, в великокняжеском нашем Совете, и вы все уверяли меня, что я торжествую, что отвсюду окружен я верными людьми, что народ души во мне не слышит, что вы пойдете с сильными дружинами на вероломного дядю, что князья русские явятся по первому моему слову?
«Князь Великий! утро вечера мудренее – не нами началась эта пословица, не нами и кончится. Может быть, того мы вчера не досмотрели, что сегодня увидим. – Так начал говорить Юрья Патрикеевич. – Но есть еще другое присловье: даст Бог день, даст Бог ум. Мы все слуги твои и рабы твои, мы будем стараться, а ты, Великий князь, успокойся, не унывай, молись, возложи печаль свою на Господа и верь, что погибнут мыслящие тебе зла. Главное дело; будь в этом крепко уверен. Вера дело великое – она все побеждает. Теперь примемся мы советоваться и думать».
– Не поздно ли, когда вы не успели надуматься прежде, – сердито вскричал наместник ростовский.
«Петр Федорович! замолчи! – сказал Юрья Патрикеевич. – Все дело надобно обсудить и посмотреть в старые решения, как все это прежде делывалось, так мы и решим».
– В каком судебнике сыщешь[111] ты указ на решение этого дела? – сказал наместник ростовский.
«А ты думаешь, что прежде этого и не бывало? – с жаром возразил Юрья. – Будто новое нам это дело! Посидел бы ты в первом месте в княжеской Думе, так привык бы и не к этаким делам. То ли было, когда князь Василий Димитриевич Богу душу предал, и мы с покойным владыкою Фотием ночь ноченскую сидели в Думе, и уже утром боярин Иоанн пришел к нам и сказал, что дело порешено – тогда только решились мы разойтись! А когда, потом раздумье было о поездке Великого князя к Витовту, или о поездке в Орду…»
– Ах! был тогда у меня боярин, за которым не знал я, что такое заботы и тоска моего великокняжеского сана! Для чего он сделался лютым врагом моим и злодеем! – проговорил Великий князь тихо, обращаясь к князю Оболенскому, молодому чиновнику, по-видимому, человеку, близкому его сердцу.
«Мне кажется, – отвечал, также тихо, этот юный друг Великого князя, – что дядюшка твой не проспал еще вчерашней хмелины. Я никогда не видал его таким говорливым: откуда рысь берется».
Василий усмехнулся.
– Нет! ты еще не привык к ним. Старики бояре народ такой, что прежде наговорят много пустого, а потом уже примутся за дело. Я всегда дремлю, когда начинаются наши советы, и просыпаюсь только под конец, чтобы слушать, когда примутся советники мои за настоящее дело.
О юность, юность! как мало знаешь ты жизнь человеческую, как весело и шутливо ты играешь ею, и как ты везде и всегда одинакова!
Между тем говор голосов заглушил уже слова Юрьи; бояре и князья зашумели, будто пчелы, встревоженные в улье. Тут, придавая себе сколько мог более важности, Юрья Патрикеевич подошел к столу, возвысил голос и провозгласил: «Прежде всего, уверимся в верности рабов и слуг княжеских. Бояре и князья! подымите руки и повторим: да не будет на нас благословения Божия, если кто из нас помыслит зло против Великого князя нашего, Василия Васильевича!»
– Да не будет, да не будет! – раздался общий крик, руки всех присутствующих были мгновенно подняты.
«Прежде хмель станет тонуть, а камень по воде поплывет, нежели я изменю моему князю!» – вскричал Старков.
– Да лопни моя утроба, яко Иудина! – закричал Ощера.
«Батюшка ты наш! дай себе ручки расцеловать!» – вскричали многие, бросаясь целовать руки Василия; другие обнимали даже ноги его.
– Ты что стоишь, татарин? – сказал Ощера Асяки. – Целуй и кричи!
Асяки усмехнулся. «Я худо знает, что ваша кричит, – сказал он. – Давай сражаться – пойду, убью, либо убьют Асяки!»
– Вот, – воскликнул Юрья, – главное теперь и сделано! Не беспокойся, Великий князь, благоволи поспешить к матушке своей, Великой княгине Софье Витовтовне: она беспокоится о тебе и ей очень нездоровится, утешь ее, и пожалуй после того к нам. А мы на досуге здесь все дела обдумаем!
Великий князь безмолвно удалился; за ним ушли князь Друцкой и Асяки.
«Молодцы вы, бояре и князья! Как ажио вы пригрянули! – сказал Юрья. – Спасибо, исполать, исполать вас!»
– За нами не станет! – воскликнул Ощера.
«Садитесь же все по местам, да станем судить и думать».
Наместник ростовский потерял последнее терпение. «Если ты хочешь дурачиться, так твоя воля: но за что ты нас-то дурачить думаешь, Юрья Патрикеевич?» – вскричал он.
– Как: дурачить?
«Ребят что ли нашел ты? Помилосердуй: то ли теперь время, чтобы растобарывать, когда вся безопасность Москвы висит на волоске?»
– Я еще прежде хотел было тебя спросить, Петр Феодорович: кто созвал Думу Государеву в такое необыкновенное время и что за важные дела такие привез ты, из-за которых даже и помолиться доброму человеку не дали порядком, как будто в уполох ударили?
«Я по приказу Государеву велел согнать сюда всех вас, беспечных стражей его покоя и здравия!» – гневно воскликнул наместник.
Юрья не любил ссор, но не любил и нарушения порядка. Струсив от гнева и слов наместника, он сказал, однако ж, довольно твердым голосом: «Непристойных речей говорить и распорядку мешать – все-таки не должно, боярин…»
– Так вы распорядком называете это, бояре и князья, что более недели прошло, как вы должны были немедленно отправить дружины, уладить князей, захватить крепче Москву – и ничего этого не сделали, а только что пили, да гуляли?
«Во-первых, – отвечал Юрья, – дружины высланы: одна с тобою, вторая с Басенком, третья с Тоболиным…» Наместник хотел прервать слова его, но Юрья махнул рукою, говоря: «Дай кончить, – и продолжал. – Тебе надобно было захватить Дмитров, взять в полон князя Юрья Димитриевича и злодея Ваньку-боярина; Басенку стать в Сергиевском монастыре и охранять место между Владимиром, Суздалем и Дмитровой; Тоболину идти на Галич[112] и Кострому, отрядив дружины в Нижний. Так ли, бояре, было? А?»
– Так! так! – заговорили все.
«Сегодня положено выступить главному отряду воинства под моим воеводством; войско собирается в трети князя Василия Ярославича. – Так ли, князь?»
– Войску велено было собраться, но ты сам приказал ему после того разойтиться, – сказал князь Боровский.
«Как: я приказал?»
– Да, сегодня в ночь пришел от тебя приказ: выступить части его по Коломенской дороге и идти поспешно на Рязань; Тоболину послан приказ взять Ярославль, а остальным дружинам разойтись по домам.
«Что вы? Что вы? – вскричал Юрья. – Я и не помышлял! – Да разве я с ума сойду! Как – на Рязань – на Ярославль – разойтись?»
– За государевой печатью присланы были от тебя приказы. Где ты сам был – не знаю, не знаю также: кто велел перепоить дружины и кто велел потом отдать на грабеж пьяным воинам дома князя Юрия и детей его? – Там сделалось страшное смятение, началась драка, треть вся взбунтовалась – пьяницы прибежали и в мою треть – я не мог сопротивляться, кинулся сюда; да и что мне было делать?
«В Ярославль – по Коломенке? – говорил Юрья, – распустить – грабить!» – Он глядел на всех, выпучив глаза.
– Знай же, – сказал тогда наместник ростовский, – что я моею дружиною разбит врагами, не доходя до Дмитрова – едва бежал – и вся вражья сила напирает теперь на Басенка – ему не выдержать – и через несколько часов Великому князю небезопасно будет в Кремле!
«Да; зачем же ты не захватил князей? Зачем: ты не разбил дружин их? А ты, боярин Старков? Так-то смотрел ты за безопасность Москвы?»
– Да, не с тобой ли мы проспали всю ночь, после вчерашней пирушки! – вскричал с досадою Старков. – Ты, полно, сам не кривишь ли душою, Юрья Патрикеевич, что потихоньку спаивал нас, а между тем ночью раздал такие приказы…
«Я раздал? Посмотрите: вот они и печать, здесь…» – Юрья схватился за сумку, в которой всегда лежала у него великокняжеская печать и которую всегда носил он в кармане: печати не было, а вместо оной лежала записка: «Пей, да ума не пропей!»
– Измена! – вскричал Юрья. Записка и сумка выпали из рук его. Другие князья и бояре подхватили их и прочли записку. «Пей, да ума не пропей!» – раздалось в палате. Смех, досада, гнев заволновали собрание. Юрья безмолвствовал.
– Сидите вы подле баб своих, да гуляете, – загремел тогда наместник ростовский, – а мы кровь свою проливаем за вас. Князь Василий Ярославич! – продолжал он, обратясь к князю Боровскому, – в тюрьму этих замотых, скорее, и нечего мешкать! Где князь Константин Дмитриевич?
«Он уехал в Симоновскую обитель и сказал, что отрекается от всех дел», – отвечал Боровский.
– А что же князья Можайский и Верейский?
«Они злодеи! Прислали мне вчера сказать Великому князю: Мы по тебе душами нашими; да есть у нас свои люди и городы беречь, а одолеешь ты, князь Великий, князя Юрия и мы тебе кланяемся, да милости себе просим; не одолеешь, против тебя не пойдем, а только ты помышляй сам о себе…»
Шум в палате усилился в это время и напрасно хотели унимать его князь Боровский и наместник ростовский, Ощера, Старков и вчерашние собеседники сих бояр сидели, молчали, угрюмо повеся бороды. Но князь Юрья первый опомнился.
– Князья, бояре! выслушайте меня, – сказал он, – судите и решите. Грешный человек – скрываться не стану: праздничное дело, и кто же о Масленице не гуляет? Но тут было что-то недоброе: нас опоили, околдовали, и видно, что только заступление Угодника, которому вчера я отслужил молебен, со слезами и с водосвятием, спасло меня от напрасные смерти. Все это мы разыщем. – Измена, измена, князья и бояре!
– Измена! – Глупость! – кричали с разных сторон.
«Я первый предлагаю подать пример строгости, – провозгласил Юрья. – Два изменника, братья Ряполовские, сообщники Косого и Шемяки, сидят в тюрьме; казнить их немедленно, на торговой площади, во страх другим!»
– Казнить, казнить! – закричали Старков, Ощера и многие бояре.
«Москву усмирить войском».
– Да где оно? – сказал князь Боровский.
Тут явился в палату, прискакавший с Троицкой дороги, вестник, молодой боярин, посланный от Басенка. Все окружили его. Едва мог собрать силы смущенный боярин и сказать, что на Басенка напали дружины неприятельские, сбили его, и он едва успел оправиться и остановиться на берегах Клязьмы.
Еще не прошло всеобщее изумление от сего нового известия, как прибежал князь Друцкой и сказал, что в трети Юрья Димитриевича начался пожар, тамошняя чернь вооружилась дрекольями и испуганные москвичи бегут отовсюду в Кремль.
Нестройный крик заступил тогда место Совета. Взаимные обвинения, укоризны, упреки сыпались со всех сторон. Вскоре явился сам Василий Васильевич и тщетно хотел унять раздор, споры, несогласие советников своих. Между тем как смятение в Думе умножилось, вести беспрерывно приходили, одна другой хуже и, вероятно, были увеличиваемы приносившими их людьми, испуганными, встревоженными, захваченными врасплох. Лица вестников говорили еще выразительнее слов их. Юрью Патрикеевича, что называется, совсем загоняли; он только уже старался уверить Василия, что не изменял и не изменит ему.
Наконец, Василий, как будто перемог самого себя, как будто сознал в себе новые силы. В первый раз в жизни своей, величественно, твердым голосом, провозгласил он своим советникам:
«Или не знаете вы, в чьем присутствии осмелились забываться до такой степени, рабы мои? Или уже не чтите вы крови Мономаха в лице вашего князя, которому клялись быть верными в жизни и смерти? Умолкните, дерзкие рабы!»
Смелый голос юноши, рожденного на троне, и неожиданность поступка и слов Василия Васильевича, внушили невольное почтение всем присутствующим. Все умолкли.
Несколько голосов осмелились было еще проговорить глухо: «Измена, Государь!»
– Молчать! – громко воскликнул Василий.
Настала совершенная тишина. «Если есть измена, если и между вами, здесь даже, кроются клятвопреступники – я не страшусь их! – сказал Василий. – Идите, окаянные злодеи, идите, к моему вероломному дяде, который, забыв крестное целование и слово клятвенное, дерзает восстать против власти, поставленной от Бога и утвержденной его и моим повелителем, великим царем Востока и всея Руси!»
Все молчали. «Чувствую, – продолжал Василий, – чувствую, что десница твоя, Господи! тяготеет надо мною и предвижу все бремя, возложенное тобою на рамена мои, да сподоблюсь быть достойный пастырь стада твоего! В то время, когда мать моя находится при дверях гроба – сатрапи, мучителие, царие, начальницы стран варварских, на зло смудрствовавшеся, на стадо твое сие, яко же львы и зверие свирепо яростнии рыкающе!» – Василий поднял глаза к небу и благовейно сложил руки.
– Князь Великий и брат мой по родству! – сказал тогда растроганный князь Боровский, – позволь мне сказать тебе совет мой…
Василий тихо повел рукою на его сторону. «После советы человеческие, – молвил он, – а прежде к Богу-советодателю!»
Он оборотился к одному из бояр и сказал: «Иди, вели отворить Успенский собор, позови отца протоиерея, скажи, чтобы он приготовился к Последованию в нашествие варваров. Я немедленно явлюсь в святом храме».
Он умолк и тихо проговорил, после некоторого молчания: «Господь сокрушаяй брани!.. Благодатию есте спасены чрез веру и сие не от вас: Божий дар! Но от дел, да никто не похвалится: того бо есмы творение, создани о Христе Иисусе на дела благая, яже прежде у готова Бог, да в них ходим!»
«Кто идет со мною молиться во храме Божием?» – спросил Василий, обозревая собрание. Он встал и, не говоря более ни слова, пошел к дверям. Все встали, пошли за ним в глубоком молчании. Писцовая палата опустела. Остался только Беда с немногими подьячими и начал приводить в порядок бумаги и скамейки.







