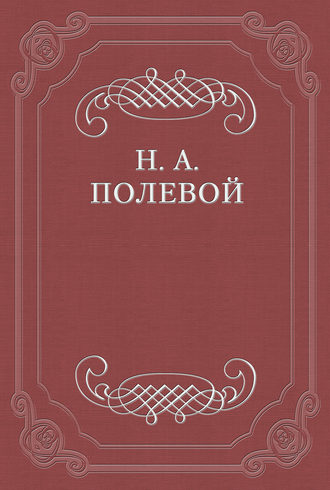
Николай Полевой
Клятва при гробе Господнем
«Мы, верные твои слуги, можем ли не стараться о твоих пользах. Мы уже собирались и долго думали. Нам кажется, что теперь можно многое выиграть тебе, государь».
– Не пристать ли мне к брату, если он точно снова затеял старое дело?
«Бог знает, государь, князь Димитрий Юрьевич! Оно бы и так, да ведь вы с братцем-то не однонравны, и он, может статься, затеял, не спросясь озадков[145], а так – очертя голову. Может быть, новгородцы и мирволят ему, может быть и Ярославль с Тверью тоже; но все дело трудное: на Тверь, на Ярославль и на Новгород полагаться все равно, что весною по тонкому льду идти. Но поторговаться с Москвою теперь, кажись, не было бы плохим делом».
– В самом деле! Можно бы уцепиться опять за московские поместья, потолковать о Звенигороде, о Дмитрове. Не правда ли? Да, что слышно о брате Димитрии?
«Брат твой, государь, человек неземной. Говорят, что он только и дела молится, поет, читает, беседует с духовными, ему некогда и думать о мирских делах».
– Досадно, что и мне тоже некогда, добрый мой боярин! Вели поскорее позвать московских послов ко мне.
«Но прежде надобно бы посоветоваться и приготовиться…»
– Времени нет. Я завтра поутру еду, и далеко.
«Как, государь, едешь? Куда же?»
– Мне вздумалось помолиться Богу, боярин, и я еду в Каменский монастырь.
«Как, государь: в Каменский? За Кубенское озеро?»
– Да, боярин. Поди, и зови сюда московских послов. Мы их отпустим, я поеду, а вы без меня хорошенько порассудите…
Боярин значительно улыбнулся, как будто давая знать, что очень понимает предлог этого богомолья. «Да не ближе ли проехать в Кострому из Ярославля?» – сказал он, понизив голос и внимательно смотря на Шемяку.
– Посмотрим, – сказал Шемяка. – Прежде всего переговорить с послами. – Он спокойно начал рассматривать и пересматривать оружие, развешенное на стенах комнаты, напевая какую-то песню.
Важно и степенно вступили в комнату московские послы. Видя, что Шемяка рассматривает булатные кинжалы и сабли, они значительно перегляделись друг с другом. Бояре Шемяки, с ними пришедшие, наблюдали таинственное молчание, важно потупив глаза в землю.
– Князь Великий Василий Васильевич прислал нас, послов своих, к тебе, Димитрию Юрьевичу, князю Углицкому и Ржевскому, младшему брату своему, и приказал тебе, брату своему, править поклон и узнать о твоем, брата своего молодшего и князя Углицкого и Ржевского, здоровье и как ты обретаешься?
«Слава Богу, бояре и послы московские Великого князя и старшего брата моего, слава Богу!» – сказал Шемяка, пробуя острие кинжала пальцем и невнимательно отвечая уклонением головы на низкий поклон московских послов.
Послы опять взглянули друг на друга, внимательно соображая все слова и движения Шемяки.
«Что, Великий князь и брат мой? Где он и здоров ли?»
– Когда мы поехали из Москвы, – отвечал старший посол, – государь наш, Великий князь, обретался в Москве, а где теперь изволит пребывать, нам неведомо; а оставили мы его, государя, Великого князя, старшего брата твоего, подобру и поздорову, милостию Божиею, молитвами святителей московских и заступлением Пресвятые Богоматери, честные иконы ея Владимирские.
«Садитесь, дорогие гости, – сказал Шемяка, повесив кинжал на стену, садясь сам и указывая места послам, – садитесь! Здесь, как в деревне, чинов нет. Хозяин без хозяйки, живет холостяком, угощает гостей, чем Бог послал. Довольны ли вы ночлегом и хлебом-солью в моей монашеской обители?»
– Мы, государь, князь Димитрий Юрьевич, за хлеб за соль твою благодарствуем и всем довольны.
«Садитесь же, дорогие гости. Мне, право, жаль, что некогда мне с вами хорошо побеседовать. Я хочу завтра утром ехать: вздумалось Богу помолиться, и давно уже звал меня к себе старик князь Заозерский, Димитрий Васильевич. Отправлюсь к нему провести осеннее время и прожить в тамошней стороне, пока можно будет опять по первой пороше зайцев травить».
– Доброе дело, князь Димитрий Юрьевич. Но мы к тебе приехали, кроме спроса о твоем здоровье, по нашего Великого государя, князя Великого, делу.
«По делу? Не веря пословице, что дело не медведь, в лес не уйдет, я люблю тотчас сбывать всякое дело с рук; скажите же поскорее, в чем это дело!»
– Государь наш, Великий князь Василий Васильевич, прислал к тебе, молодшему своему брату, подтвердить прежние крестоцеловальные грамоты новыми.
«Да ведь я не нарушал и прежних грамот?» – сказал Шемяка, улыбаясь.
– Великий князь это совершенно знает; но где крепка вера и дружба, чего бояться подтвердить их вновь?
«Давно ли писаны были и старые грамоты? Кажется, что в годе они не успели еще выдохнуться! Разве что-нибудь слышал обо мне Великий князь недоброе? Ведь я говорил и тогда, чтобы включить в договор именно: сплетней не слушать и тотчас выводить наружу. Как бишь это придумали вы на тот раз изложить в грамоте?» – спросил Щемяка, обращаясь к одному из бояр своих.
– А что вы услышите о моем добре, или о лихе от христианина, или от иноверца, а то вы мне поведаете в правду, без примышления, – отвечал боярин.
«Нет, не то: это не годится! Я именно говорил о сплетнях… Впрочем, вероятно вы, послы, привезли грамоту новую, уже совсем готовую. Чего же долго толковать? Читайте ее!»
– Если благоволишь, князь Димитрий Юрьевич… – Старший посол вынул грамоту и подал Шемяке.
«Читай, боярин!» – сказал Шемяка, зевая и беспечно отдавая грамоту своему боярину. Боярин развернул ее и начал:
«Божиею милостию и Пречистыя его Богоматери, и по нашей любви… – При сих словах все перекрестились. Боярин продолжал: „…на сем, на всем, брат мой младший, князь Димитрий Юрьевич, целуй ко мне крест, к своему брату старейшему, Великому князю Василию Васильевичу: быть тебе, брат, со мною, с Великим князем, везде за один, до своего живота, а мне Великому князю быть с тобою везде за один, до своего живота. А кто будет, брат мой, мне, Великому князю, друг, тот и тебе друг, а кто будет, брат мой, мне, Великому князю, недруг, тот и тебе недруг“.»
– Но, дорогие мои гости, все это было уже прежде говорено? – сказал Шемяка, усмехнувшись. – Что тут нового?
«А с кем буду, брат мой, я, князь Великий, в докончании, – продолжал чтение боярин, – мне и тебя с ним учинить в докончании, а с кем будешь ты в целовании, и тебе к нему целование сложишь. А не оканчивати тебе, брату, без меня, Великого князя, и не ссылатися с моим недругом ни с кем; ни мне, Великому князю, не оканчивати без тебя ни с кем».
– Последнее и прежде казалось мне вовсе бесполезным словом, и теперь таким же кажется, – сказал Шемяка. – Куда ко мне, в Углич, посылать Великому князю спрашивать у меня: с кем ему оканчивать, с кем не оканчивать? Но если так заведено – еже писах, писах! Продолжай, боярин!
«А добра тебе мне, Великому князю, хотеть во всем и везде, а мне, Великому князю, тебе добра хотеть во всем и везде. А держать тебе меня, Великого князя, в старейшинстве, как держал отца моего, Великого князя Василия Димитриевича, отец твой, князь Юрий Димитриевич…» Взор Шемяки омрачился при сих словах. Казалось, что неприятное воспоминание прошедшего сильно отозвалось в душе его. Но он промолчал, и боярин продолжал чтение: «И подо мною тебе, под Великим князем, все мое Великое княжение держати честно и грозно, без обиды, во всем, чем благословил меня мой отец, Великий князь Василий Димитриевич своею отчиною…»
– Но если вся грамота такова, – сказал Шемяка, – и читать ее нечего: все это я давно знаю! Боярин! вели подать мне печать мою и позовите священника с крестом и Евангелием…
«Но, государь…» – возразил боярин Шемяки.
– Но, боярин мой советный, – возразил Шемяка нетерпеливо, – терять время по пустому не должно… Все, что теперь слышали мы, было в старых грамотах, и я готов сто раз подтвердить это, утвердивши единожды! Скажите все слова мои моему брату, Великому князю, – продолжал Шемяка, обращаясь к послам московским. – Он напрасно беспокоился и посылал вас. Самый злодей мой, следя за каждым моим шагом, не перенесет ему обо мне лихого слова. Не на грамотах основана дружба… мир… Ну!.. или как угодно назовите это… Грамоты, своим неприятным складом напоминающие старое, давно забытое, мне совсем не нравятся…
«Здесь есть многие перемены, государь», – сказал боярин, потихоньку пробежавший между тем грамоту.
– Какие же перемены?
«Говорится об окончании многих дел, которые оставались нерешенными».
– Какие еще дела оставались нерешенными? – воскликнул Шемяка вспыльчиво, – все было решено!
«Князь Юрий Димитриевич, – сказал старший посол, – государь наш, Великий князь, желая окончить всякие поводы к нелюбови, подтверждает о Дмитрове и о твоих московских и костромских волостях и жеребьях – Кореге, Шопкове, Лучинском, Сурожике, чтобы держать их за тобою в братстве и чести, без обиды, по докончальным грамотам и печаловаться тобою и твоею отчиною».
– Благодарю за попечение, но об этом также было прежде сказано.
«О не покупке и не держании закладней, взаимно, управлении Ордою Великому князю и выходах по старым дефтерям, не вступании тебе в Вятку…» – продолжал московский посол.
– О Гавриловских селах и об Ярышове и Иванове пора бы кончить, – сказал боярин Шемяки, перебивая речь посла, – право, пора бы кончить. Но и здесь все еще говорится, что долг князя Димитрия Юрьевича остается за Великим князем…
«Пятьсот-то рублей? И неужели ли их еще не отдали нам? – спросил Шемяка. – Я, право, и позабыл».
– Платою не замедлят, – сказал московский посол, – наш государь, Великий князь, слово свое сдержит; но князь Александр Иванович до сих пор не докончил с Великим князем об этих селах.
Ни послы, ни боярин Шемяки, говоря обо всем другом, не упоминали главнейшего. Наконец, старший посол решился сказать Шемяке: «Если ты, князь Димитрий Юрьевич, подтверждаешь условие – кто мне друг, тебе друг, кто тебе недруг, мне недруг, то, конечно, подтвердишь и другое: А всяду я сам на конь, на своего недруга, и тебе со мною пойдти, а пошлю тебя, и тебе идти без ослушания, а пошлю своих воевод, и тебе послать с ними твоих воевод?»
– Бесспорно, – отвечал Шемяка. – Если понадобятся мои людишки к дружинам Великого князя, пусть только известит меня. – Он отвернулся к окну, в которое сильно стучал порывистый дождь осенний.
«Такое обещание, – продолжал посол, – разуметь должно и в том случае, когда бы и самый родной брат твой вздумал учинить размирье и нелюбие к Великому князю?»
– Как? Что это значит? – спросил Шемяка.
«Князь Василий Юрьевич[146] назван в этой грамоте недругом Великого князя», – сказал боярин Шемяки.
– Что же не сказали мне этого с самого начала, – вскричал Шемяка, – ни вы, послы, ни ты, боярин? – Он обратился к тем и другим.
«Государь, князь Димитрий Юрьевич[147]…» – бормотал боярин.
– Князь Димитрий Юрьевич… – вполголоса промолвил старший посол.
Все снова замолчали. Шемяка сел подле окна, потом встал со своего места и безмолвно начал ходить по комнате. Сильное внутреннее движение изображалось на лице и в глазах его.
– Князь Великий, государь наш, полагает, что тебе уже известно, молодшему брату его, о клятвопреступлении недостойного брата твоего и о том, что он, забыв долг и совесть, забыв милости Великого князя, прислал к нему обратно крестоцеловальные грамоты и пошел на него снова крамолою и враждою.
Шемяка не отвечал.
– Великие благодеяния государя нашего, Великого князя, излиянные на князя Василия, могли тронуть самое каменное сердце человеческое и возбудить в нем чувство раскаяния, примиряющее грешного человека не только с подобным ему человеком, но даже с самим Богом. Злые дела Василия возбудили теперь всеобщее негодование, и князья русские, по первому слуху, поспешили в Москву подтвердить клятвы свои и присоединить силы свои к силам великокняжеским.
Еще ни слова не говорил Шемяка.
– Но никогда не думает уравнять тебя князь Великий, государь наш, с братом твоим. Он знает нелицемерную, нелицеприятную дружбу твою к нему, Великому князю. И здесь-то прилично воскликнуть с пророком; Аще сядеши на трапезе сильного, разумно разумевай предлагаемая тебе.
«Твой текст невпопад, посол московский, – сказал наконец Шемяка, останавливаясь и быстро глядя в глаза московскому боярину, – ты обдернулся и вытащил из мешка памяти твоей не то, что хотел сказать. Всего же более невпопад твое велеречие и красноречие: это мед, подставленный волу. Я не понимаю, из чего все сии слова и хлопоты? А, вероятно, старший брат мой, Великий князь – все эти слова надобно повторять, как можно чаще, чтобы не отвыкали от них, – думал: кого бы мне послать к углицкому медведю? У кого из бояр московских язык сладкоречивее и легче мог бы улюлюкать этого медведя?.. ха, ха, ха!» – Шемяка захохотал, и горесть изобразилась в то же время на лице его. Он опять начал ходить взад и вперед.
– Я давно хотел представить тебе, князь Димитрий Юрьевич, – сказал Дубенский, – что надобно решить многие обстоятельства. Вот и о третьих, чтобы не ходить далеко, сколько споров, Господи Боже мой! Надобно уж положить единожды навсегда, что, кто зовется на третьи, твой да твоего брата, берут третьего от Великого князя, а не то, наоборот, из твоих, а не то, наоборот, из княж Димитриевых. Поименует же третьих тот, кто ищет, а тот берет, на кого ищут, а не захочет тот, на ком искали, его обвинить и велеть с него доправить… Иначе, право, никак не сладить.
«Гнев твой, князь Димитрий Юрьевич, воистину несправедлив», – сказал посол московский, оправясь от замешательства, в какое введен был словами и насмешками Шемяки.
– Я не гневаюсь, – сказал Шемяка, – но мне смешно, когда я соображаю настоящее, то, как поступают со мною. Открыто, прямо говорил и делал я: неужели еще не убежден в этом князь Великий? Зачем же хитрить со мною? Или вы почитаете меня таким олухом царя небесного, что не замечу хлеба в печи и стану ее топить? Или вы хотите, – продолжал Шемяка с увеличивающеюся горячностью, – или вы хотите, чтобы я, отдавши все Великому князю, своими руками принес ему голову родного моего брата и кровью его запил дружбу с Москвою, позор мой и унижение?
Едва не задыхался Шемяка говоря это послам московским; но вдруг он остановился и тихо сказал своему боярину: «Если новые грамоты Великого князя сходны с прежними, я готов подтвердить их.
Принеси их ко мне и я, не читавши, приложу к ним печать свою. – Послы московские! объявите вашему князю, что я не нарушаю грамот и обещаний, подтверждаю их вполне, осуждаю брата моего, если он снова начинает вражду; но далее не ступлю я ни шагу: с Москвою мир, с братом мир, с целым светом мир!»
Он пошел из комнаты. Послы молчали и переглядывались друг с другом, а Дубенский начал опять свое: «Нет уж о третьих, примером сказать, надобно нам докончить основательно, бояре и послы! Вот-таки недавно был пример: Федька хмелевщик бил челом на суздальца Фомку лапотника. Видите в чем стала притча судебная: Федька продал ему лукошко хмеля в полную меру, с насыпом и договорился он взять за то лаптями; Федька же договорился отдать ему лаптями добрыми с перешивкою с двойным оборотом и за лапти взять хмелем. Вот и тот и другой с умыслу, что ли, или так, опростоволосились, о лукошке-то и забыли договориться. Федька-то новгородским мерять начал, а тот суздальским… Ведь у нас на Руси, слава Господу, язык один и вера одна, да мера не одинакова: вот… Но, добро пожаловать, бояре и послы, к нам в палату, там свободнее…»
Глава II
…Домы праотцев, обычай их простой![148]
Крюковский
Среди волн обширного Кубенского озера, к восточной стороне его, находится каменный остров, как будто отломок от берега, брошенный в воду. Волны со всех сторон омывают обитель, построенную на сем острове – как будто отломок от мирских сует. Здесь некогда, в древние времена, спасся от бури и гибели белозерский князь Глеб, плывя из Бело-озера в Устюг рекою Позоровицею, Кубенским озером и рекою Сухоною. Не оставалось спасения бедствующему князю среди свирепых волн Кубенского озера, и он во глубине души дал обет: построить обитель на том месте, где спасен будет. Ладья пристала к дикому, неизвестному дотоле Каменскому острову. Глеб изумился, найдя там жителей: то были старцы, пустынножители, скрывшиеся от мира на сей отдаленный, дикий остров. Гостеприимно принят был князь сими отшельниками и подивился их бедному, но великому житию. Они проводили дни свои в молитве, обращали в истинную веру диких корелов и чудь, живших по берегам озера; часто терпели они нападения и муки от дикарей, но платили им за зло добром и душевным спасением. На месте ветхой часовни, куда отшельники сбирались молиться, князь повелел воздвигнуть церковь и вокруг нее срубить кельи. Так Спасокаменский монастырь, первый из северных вологодских монастырей среди лесов и пустынь, обитаемых дикими народами, возник, будто знамение грядущего великого благочестия сей земли. Глеб одарил обитель вкладами и богатствами и через несколько лет почил в мире.
В течение многого времени потом усердие, ревность, чудеса святых икон, привлекали поклонников в монастырь Спасокаменский. Прошло два века и много человеческих родов. Чудь и корела были покорены, разогнаны, усмирены. Князь Василий Васильевич Ярославский, потомок Великого ярославского князя, святого Феодора Ростиславовича Черного, раздавая уделы пятерым сынам своим, отдал все Кубенское заозерье четвертому сыну своему Дмитрию. В Заозерье свое уехал князь Димитрий и основал жилище свое там, близ устья Кубены. Против села Устья при деревне Чириковой доныне стоит часовня: здесь некогда находились дворы и терема исчезнувшего в веках князя Димитрия Заозерского и его княжеского рода.
С переселением на Кубену князя Димитрия началась особенная слава Спасокаменской обители. Благочестие было неизменно в роде князей, происшедшем от святого князя Феодора. Обитель прославилась тогда великими, сподвижниками. Инок Дионисий, благословился у Каменского игумена, ушел в пустыни северные и там, на Глушице. близ Сухоны, основал Покровскую обитель, где доныне почивают святые мощи его и сотрудника его Амфилохия. Инок Александр скрылся в дикие леса и болота Сянжемские и умолен был князем Димитрием возвратиться после многих уже лет пустынножительства, просиявшего в чудесах. Князь поселил его на реке Куште вблизи своего дворца. Наконец, и юный сын самого князя Димитрия возжелал оставить мир и скрыться в Спасокаменской обители. Все дивились молве о сем благочестивом подвиге, ибо юному княжичу едва совершилось двенадцать лет.
Прямо в Успенский соборный храм Спасокаменской обители вошел Шемяка, достигнув стен ее после трудного пути. Смиренные иноки встретили его и просили простить, что игумен за старостию и слабостью сил не может встретить князя. Шемяка запретил им беспокоить старца и, приложась к святым иконам после молебна за благополучное путешествие, хотел сам посетить настоятеля, не велел извещать о себе и пошел по длинному переходу низких деревянных келий к келье, занимаемой игуменом.
Казалось Шемяке, что душа его никогда еще не испытывала такого сладостного спокойствия, какое ощущал он со времени прибытия своего в Спасокаменскую обитель. Трудная дорога, бурное озеро, и среди волн его мирная обитель, о которую разбивались и бури водные и суеты мирские, уединение, тишина, благочестие, безмолвие, удаление от всех забот мира, казалось, готовили душу его к миру с самим собою, миру, дотоле неизвестному Шемяке! Трогательное зрелище ожидало его в келье настоятеля.
Он увидел игумена, убеленного сединами старика, сидящего на скамейке; перед ним на коленях стоял отрок лет двенадцати. Возложив левую руку на русую голову отрока, правою игумен благословлял его. В стороне стоял старик, одетый просто, без всякого оружия и, подняв руки к образу Преображения Господня, молился; слезы текли по щекам его.
Изумленный Шемяка стал близ порога кельи. Игумен отвел в сторону левою рукою отрока и обратил правую к Шемяке, приветствуя его: «Конечно, вижу я в тебе, почтенный гость, – сказал он, – князя Димитрия Юрьевича и благословляю приход в мирную обитель нашу внука Димитрия Донского?»
– Я этот князь, – отвечал Шемякаг принимая благословение старца.
«Добро пожаловать, князь!»
– Я прервал беседу вашу, отец игумен, и винюсь в том.
«Оставь здесь все твои дворские приличия, – отвечал игумен. – Ты застал нас за таким делом, которое совершается благодатию Божиею. Ты видишь князя Димитрия Васильевича Заозерского, а это юный сын его Андрей».
– Не дивлюсь твоему изумлению, князь Димитрий Юрьевич, – сказал Заозерский, заметив, что простая одежда его привела в замешательство Шемяку, не узнавшего в нем владетельного князя Закубенской стороны. – Вы, люди сильные и знаменитые, привыкли отличать князей сребром и златом, дорогим оружием и драгоценною одеждою; мы живем, напротив, в простоте дедовской: золото и сребро бережем для святых храмов, в дорогом оружии нужды не имеем, а сражаться со зверями, обитающими в дремучих лесах наших, нам надобно оружие простое, а не щегольское. Поздравляю тебя, любезный гость, с благополучным приездом в наши Палестины. Да благословит Господь вхождение и исхождение твое.
Он поцеловался с Шемякою и, утирая слезы, сказал: «Когда узнаешь вину слез моих, не осудишь меня. Богу угодно было вложить ревность к ангельскому чину в душу сына моего, отрока младолетнего. Не смел я противиться и теперь привел его сюда, как агнца к стаду Христову. Приобретают праведные мужи душу чистую, а я – теряю сына!» Он закрыл лицо руками и зарыдал.
– Садись, князь Димитрий Юрьевич, – сказал игумен, – а ты, князь Димитрий Васильевич, не малодушествуй. Дорог сосуд серебряный, дороже позлащенный. Благодать на роде вашем, благодать на доме твоем! Волею притекает княжич твой в святую обитель – не препятствуй ему, да не согрешишь. Но, пусть он не обрекается еще монашеской жизни, пусть только живет с нами, совершает подвиги духовные – я еще не отнимаю его у тебя и не благословляю ему клобука иноческого.
«Отец игумен! – воскликнул отрок Андрей, – молю тебя: облеки скорее грешное тело мое в броню праведников!» Он сложил руки и поднял глаза к небу, уподобляясь ангелу, который молит воззвать его скорее от земли в небесную обитель…
– Нет, чадо мое, нет сего не будет! Ты юн, ты неопытен, тебе незнакомы еще страсти людские: ты их ведаешь, ты боишься их только по слуху. Приемлю тебя, но сан иноческий получишь ты через несколько лет – не прежде. До тех пор подвергнешься ты искусу, узнаешь отшельническую жизнь иноков, соразмеришь с нею силы свои, и ум отдаст за тебя отчет совести…
«Да будет тако!» – сказал Заозерский, еще раз утер слезы, обнял, благословил сына и задумчиво сел подле Шемяки. Юный Андрей прислонился к коленам отца своего.
Слезы навернулись у Шемяки. Он крепко пожал руку добродетельного князя Заозерского и сказал: «В какую обитель мира и тишины зашел я? Какими ангелами окружен? Зачем скрываете вы в лесах далеких добродетель и чистоту души, достойные благочестивых предков ваших?»
Тогда началась тихая, поучительная беседа между двумя князьями и игуменом. Не было удивления, ласкательства, лести и суеты. Шемяке не говорили даже ничего о Москве и бурных событиях современных, как будто собеседники его вовсе об них не знали. Какое-то чувство детского благоговения ощущал Шемяка при виде и словах князя Заозерского. Казалось ему, что он внимает отцу своему. Он забыл в сии мгновения все смуты и волнения мирские. Никто не спрашивал Шемяку, за чем и с кем приехал он. Монастырская трапеза ожидала князей в общей трапезной. Внимая беседе старцев и чтению жития святых мужей, сидя в ряду со смиренными иноками, Шемяка внутренне сознавался, что никогда, никакая великолепная трапеза великокняжеская не доставляла ему столь великого наслаждения.
Дружески, как будто старого знакомого, просил потом князь Заозерский Шемяку посетить его хижину. «Говорю хижину, – промолвил князь, – потому, что мне совестно назвать княжеским дворцом свое жилище – бедное против ваших обширных чертогов княжеских, против великолепных теремов московских. Я давно уже и только один раз был в Москве, но слышу, что с тех пор она еще более разрослась и похорошела».
– Чашу воды студеной, под соломенной кровлею, предпочту я у тебя всем великолепным обедам и пирам московским, – отвечал Шемяка.
«У нас найдется даже чаша браги и чарка меду, – сказал Заозерский, – для такого дорогого гостя. Просим только не взыскать на нашей простоте. Но ветер разыгрывается на озере; надобно засветло убраться восвояси; потом мы вместе посетим здешнюю обитель. Пойдем, князь, простимся с отцом игуменом, и я еще раз благословлю чадо мое, моего милого Андрюшу!» – Он вздохнул.
Князья застали игумена, слушающего чтение жития св. Евстафия Плакиды[149]. Трогательную повесть эту, чистым, ясным голосом, читал юный Андрей. Умилительно внимал несколько минут сему чтению Заозерский и потом стал прощаться с игуменом.
– Ветер крепчает, вода ходит сильная, – сказал ему игумен, – как поедете вы, князья? Не остаться ли вам здесь?
«Может ли озеро погубить своего властителя? – отвечал Заозерский, улыбаясь. – Охотно готов бы, но обо мне станут беспокоиться дома мои сироты, они и без того наплакались, прощаясь с Андрюшею, и теперь, конечно, ждут не дождутся меня».
– Скажи им, родитель мой, – воскликнул Андрей, – скажи поклон от меня брату Симеону и сестре Софье и уверь их, что такого же спокойствия и радости желаю я им в мире, какое чувствую здесь!
Заозерский прижал его к сердцу и едва опять не заплакал. Они простились.
Семь верст расстояния отделяет Каменский остров от берега озера. Узкая коса земли простирается от него до берега. Но теперь, в осеннее время, сия коса была залита водою, и переправлялись на остров и с острова на берег в лодке. Один Чарторийский был с Шемякою. Большая лодка князя Заозерского стояла в затишье близ обители; несколько удалых гребцов ударили веслами и ладья понеслась по волнам.
Только что отчалили от берега, как ветер будто с неба упал крутящим вихрем и яростно запенил волны озеоа: тучи затмили небо; мелкий дождь засеялся туманом. «Не воротиться ли, батюшка, князь Димитрий Васильевич?» – сказал старый кормщик. – «Ничего, брат Федул!» – отвечал князь. – «Ну, коли воля твоя, княжеская, есть на то – помоги святитель Христов, Николай Чудотворец! Ребята! раз два! Махом, дружно!»
Гребцы грянули: «Раз, два! Господи, благослови!» – Шемяка любовался неустрашимостью старого князя, не походившею на пылкость молодой души, но твердою, крепкою, уверенною в себе. Заозерский спокойно разговаривал с Шемякою, сидевшим подле него. Наконец буря до того усилилась, что самые опытные гребцы изъявили опасение. Темнота вечера, вода, вливавшаяся в ладью, холодный ветер, дождь измучили всех, и главное – кормщик подозревал, что они сбились с пути. Никогда не бывавший в бурю на воде, Шемяка начал сомневаться. Но он дивился хладнокровию князя Заозерского, и хотя не мог в темноте рассмотреть лица его, но спокойные движения и стройные речи князя показывали, что он нисколько не робеет. Никакого беспорядка в управлении лодкою не было, как будто прогуливались в тихую погоду.
«Тише! слушать!» – крикнул наконец Заозерский громким голосом. Вблизи, сквозь порыв ветра, слышан был звон колокола. «Ну, слава Богу! – сказал он, – это куштинский колокол. Держи влево – раз!» Лодка повернулась так криво и быстро, что Шемяка, не ожидавший сего движения, упал бы в воду, если бы Заозерский не удержал его сильною рукою. Вскоре пристали к берегу. Крепость души и мужество воспламенительны в юноше, но когда встречаем их в старине, они внушают невольное к нему почтение. Это чувствовал теперь Шемяка. Толпа народа, около зажженных по берегу костров, издалека отвечала радостным кликом на голоса пловцов, кричавшим к ней с воды. Едва только лодка причалила, народ обступил Заозерского: одни целовали ему руки, другие готовы были броситься на колени, третьи восклицали: «Отец ты наш, батюшка князь! насилу тебя Бог принес!»
– Полно, полно, ребята! – говорил Заозерский. – Спасибо вам за любовь вашу ко мне! Да, шутка ли, стоите вы здесь на дожде, на холоде! Ступайте по домам!
«Ты за каждого из нас готов броситься в воду – как же нам было не подождать тебя, хотя мы и ведали, что Бог спасет тебя для нашего счастья!» – кричали многие из толпы.
Заозерский вошел в большую теплую избу, построенную подле пристани. Тут приготовлены были сухие одежды; спутники Шемяки находились тут же. Вскоре явилось несколько дворян Заозерского, изъявлявших радость свою о благополучном прибытии князя. Лошади были подведены, и все отправились в княжеский дворец.
В самом деле, дворец Заозерского не походил на московские княжеские терема и дворы. Строение обширное, но в один этаж, совершенная простота в расположении, без далеких переходов, без огромных вышек, без фигурных украшений в покоях, теплых, чистых, красивых опрятностью, хотя дома знатных бояр московских превосходили это княжеское жилище многими затеями.
Молодой человек лет пятнадцати бросился на шею Заозерского, встретив его на крыльце: это был старший сын князя, Симеон. Слуги, бояре, дворские люди ожидали князя у ворот, на обширном крыльце, в сенях, в покоях. Все изъявляли радость свою, целовали руки князя и не думали чиниться с Шемякою. Добродушная, свободная веселость одушевляла всех, когда Заозерский попросил Шемяку сесть в переднем углу за стол, покрытый пестрою скатертью, и сам сел подле него; бояре и дворяне Заозерского шумною толпою заняли целую половину комнаты. Как добрый семьянин расспрашивал Заозерский весело ли провели время без него, шутил, смеялся, велел без чинов садиться старикам подле него; приказал принести доброго, горячего взвару, говоря, что он и гости его прозябли. Горячий взвар – домашняя брага, вскипяченная с разными пряностями, – был принесен в оловянных кружках. Молодежь, находившаяся в комнате, стояла с почтением перед стариками, не смея сесть. Вскоре доложил дворецкий, что ужин готов. Заозерский просил Шемяку и спутников его разделить с ним простую хлеб-соль.
Большой стол накрыт был в особой комнате. Ни серебра, ни дорогого хрусталя не было. Чистый оловянный прибор стоял на столе. Обильны, многочисленны, но просты были кушанья. Не садясь еще за стол, Заозерский стал перед образом, прочитал вслух молитву и запел благовейно: «Царю небесный, утешителю душе истинный!» Все пристали к его голосу. Благословив после сего ужин и собеседников, Заозерский сел в главное место, указал Шемяке место напротив, сын его сел налево, старики поместились по обеим сторонам, а в конце стола сели молодые люди. Число всех присутствовавших простиралось до сорока человек. Началась беседа свободная. Кубки с медом и пивом были подаваемы часто. На особом столе дворецкий, крестясь, разрезывал кушанье. Когда наконец разговоры между гостями разделились, и все были уже навеселе, Шемяка обратился особенно к Заозерскому.







