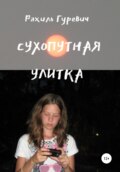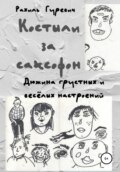Рахиль Гуревич
Тайный покупатель
Глава десятая. После катастрофы
Я очнулся, открыл глаза. Темно как на последней моей дороге. Кто-то (или что-то) коснулся моей руки, я услышал мужской гортанный голос:
− Антоний! – странные интонации. Я помнил: мы ехали на машине и столкнулись. Боль помнил, что меня куда-то тащили, помнил. Я стал шевелиться, проверяя на месте ли руги и ноги, пытался повернуться, крутить головой – жёсткая боль в голову.
− Где я? – сказал я, еле подбирая слова. – Почему так темно?
Мужчина с кем-то говорил не по-русски и не по-английски. Да это же наверное мамин муж. Она вышла замуж на днях…
− Какое сегодня число? – спросил я.
− Счас, Антоний, счас, − сильный акцент.
Раздались какие-то звуки, кто-то где-то ходил. Я пошевелился и потрогал голову – она была бинтах. Затылок ныл, там что-то колотилось, пульсировало.
Лежал как в бездне, услышал мамин голос.
− Мама! – я заплакал. Уж очень страшно было лежать в темноте.
− Антоний! – мама меня обняла: её запах, её волосы…
− Мама! Включи свет…
− Ты меня не видишь? – осторожный голос мамы.
− Нет.
− Как? Совсем? А лампу?
− Нет.
Я услышал вздох и нордически-спокойный третий голос:
− Не волнуйтесь, я предупреждал.
− Что такое? Я ослеп?
− Нет, нет Антоний. У тебя травма затылочной области. Но зрительные центры почти не задеты. Мы делали МРТ. Постепенно зрение должно вернуться.
***
Не буду подробно рассказывать о том, как я не видел, только слышал. Спокойный голос обещал, что зрение вернётся. Эти спокойные голоса! Сколько их я переслушал за последующие месяцы слепоты. Перевязки, перевязки, перевязки… Меня куда-то тащили, куда-то возили, кормили, обслуживали. Жуткое состояние, пограничное состояние, вне времени, вне пространства. И так – до суда.
Очнувшись, я не сразу сообразил, что левая рука сломана – я же шевелил руками, но оказалось, что я поднимал всё правую руку, а левая лежала с дощечкой, то есть лангеткой. Сказали − сотрясение мозга, немного порезана голова, просто зашили. Над бровью, на затылке, и ещё где то, на плече и лопатке. Я ещё успел подумать: хорошо, что я по офисной привычке достаточно коротко всегда стригусь не то что Дан, он-то отрастил волосья и собирает их в хвост. Я сразу стал осваиваться, как только голова стала меньше болеть, а кружилась или не кружилась, я не понимал – я же ничего не видел. Я лежал ещё неделю, потихоньку стал подниматься, ходить на ощупь. Сняли гипс. Рука похудела, осунулась − на ощупь мне так казалось.
На ощупь – я стал осваиваться. Как крот, выходил с помощниками в больничный парк. Удивительно: но я чувствовал жалость к себе поводырей, по интонациям, по разговору, по молчаливым паузам. Дни и ночи смешались. Мама… Всего три дня не омрачённого ничем семейного счастья. Но мне не было её жалко, вот вообще. Анализируя ситуацию постфактум, я пришёл к выводу, что всё покатилось окончательно в тартарары, когда она решила поехать отдохнуть в эту её Италию. В моей жизни было всего три недели счастья, и ничего, не плачу, мама же счастлива до сих пор, ну я ей подпортил кончено же любовь.
Мама первая всполошилась, забила тревогу – я же не ответил ей на вечернее сообщение в тот роковой понедельник. Ах да: я ж был не в духе. Она стала нервничать, что я не отвечаю, позвонила утром соседке. Но наша милейшая отзывчивая соседка тоже ничего не знала, позвонила в нашу квартиру, но ей никто не ответил. Тогда мама забеспокоилась не на шутку и позвонила Староверову. Он обещал узнать, и в тот же день сообщил маме об аварии. Мама вылетела ближайшим рейсом, а её муж – как только смог. Пока мама не приехала, то есть больше суток, рядом со мной находился Староверов, он дежурил в реанимации. Там меня держали в сонном состоянии, я ничего не помнил. В палате действие медицинской наркоты закончилось, я принимал обезболивающее и ещё разные лекарства. То есть был в сознании. Я спрашивал у всех, кто входил ко мне: где мои друзья. Медсёстры, санитарки, врачи – у всех спрашивал. Тёзка Антонио (а мужа мамы звали именно так!) как-то невнятно отвечал, оправдываясь, что, мол, плохо знает русский язык, но именно по его ответу, по тому, как резко он перешёл на итальянский, я понял: дело плохо.
Мучился неведением я недолго. В парк на прогулку пришёл следователь и сообщил, что Савва погиб, а Дан выжил, он сейчас в Москве, в первой градской. Следователю я рассказал всё, что помнил, что катили по ночной дороге, что соревновались с мотоциклистом, я выехал на встречку, а там без включённых фар кажется машина. Следователь спросил:
− А зачем вы выехали на встречную полосу?
− Сзади был сильный толчок.
− Понятно, – скрип ручки о бумагу. Счастливый! Он может писать.
Следователь приходил ещё три раза, выяснял и спрашивал. В итоге мама наняла мне адвоката. Меня перевезли в Москву. Я жил с Антонио, не знаю где, на какой-то квартире. Мы с Антонио ездили по врачам, по каким-то светилам. Все говорили, что постепенно я должен начать видеть. И я действительно в Москве стал видеть солнце, потом какие-то силуэты на фоне окон, но всё в красном или жёлтом тоне. Были дни, когда снова не видел, а потом – улучшение. Адвокат приехал ко мне в Москву и сказал, что скоро суд, и что не надо никому говорить, что я что-то вижу, начинаю видеть.
− Почему? – спросил я.
− Гарантии не дают?
− Н-нет. Обнадёживают.
− Понимаешь, Антоний, − сказал адвокат. – Данила Муравьёв был в сознании во время аварии. Обвинение будет строиться на его показаниях. Муравьёв утверждает, что ты был за рулём постоянно. Он ничего не знает о толчке сзади, утверждает, что его не было. Ты как думаешь: что это был за толчок? Была ли позади машина? Что ты видел в зеркала?
− Н-не помню, − я пытался вспомнить и не мог. – Помню, я видел утренний рассвет и радовался, что мотоциклиста больше нет, радовался, что он улетел.
− Но Муравьёв утверждает, что мотоциклиста он отпугнул пистолетом. И он вас не обгонял.
− Как не обгонял! − возмутился я и схватился за голову – так пронзило резкой болью.
− Да. Он так говорит.
− Он не может так утверждать! Это враньё. Они сначала прикалывались. Я испугался. И потом в бардачке пистолет. Я и не знал, что газовый, я решил, что они меня убить хотят.
− Это была сигнальная ракетница. Неужели ты не заметил вспышки?
− Н-нет.
− Но хлопки-то слышал?
− Ветер гудел. Скорость…
− Я видел протоколы его допроса. (Адвокат представлял меня на следствии.) Скорее всего, тебе дадут небольшой условный срок, лучше, чтобы ты оставался незрячим на момент суда. У тебя подписка о невыезде, но если тяжёлый диагноз и инвалидность, ты сможешь выезжать в больницы как сейчас. И ещё… − адвокат замялся.
− Что?
− У меня сложилось такое впечатление, умоляю: не нервничай. Против тебя на самом деле что-то готовилось. Ты должен был погибнуть, не Савва. Что-то пошло не так. Мне кажется всё было подстроено, но это бездоказательно, это моя чуйка. Ты же тоже почуял недоброе?
− Я стал богу молиться. У них такая игра, они прикалывались. И вдруг я понимаю, что пест настоящий. Я не знал, что он газовый, − твердил я, ещё и ещё раз переживая тот свой позорный испуг. – Может я зажмуривал глаза, когда он стрелял – я не помню. Такое состояние, знаете, живот сводило…
Я не мог придти в себя минут пять, адвокат терпеливо молчал, не торопил меня, дальше по привычке я стал горячо протестовать и возмущаться. С адвокатом я мог себе это позволить. Следователя я боялся, я представлял его спокойным и сухим человеком – я судил о его внешности по голосу. А тут…
− Я по-человечески тебе сочувствую, как человек, а не по обязанности как адвокат. Я не могу разобраться, что и как. Но что-то странно отвечает на вопросы Муравьёв. Лучший друг, говоришь?
− Да. Мы дружили. − И я рассказал всё с детства. Я смотрел на себя и свой рассказ как бы со стороны, вроде бы всё, что раньше – не со мной случилось, с другим человеком: школа и прочее.
− Пожалуйста, делай вид, что полностью слеп, даже если начнёшь видеть. Это может помочь тебе разобраться. Может, в зале суда ты что-нибудь поёмушь. Знаешь бывает: человек среагирует и выдаст себя. Взглядом, движением. Что-то прояснится лично для тебя.
− Но я не вижу.
− Суд не сейчас же, прогнозы у тебя хорошие.
− Вам сколько лет, Константин Маркович? – адвокат сидел на фоне окна и я видел силуэт тучного мужчины, мне подумалось: а сколько ему лет, наверное за пятьдесят, но голос такой вкрадчивый, понимающий, не старый.
− Мне сорок три. А что?
− Ничего, просто, − вздохнул я.
− У вас, у всех троих в крови нашли алкоголь, Антоний.
− Чуть выпили-то днём, то есть под вечер. Разошлись поспать. Муравьёв и ехать с нами не хотел. Я был за рулём, но я был трезв. А на обратной дороге за руль сел Савва. А после уж я, после тёмного участка.
− Антоний, в анализах нашли промилле. Это факт.
Я поговорил с ним на отвлечённые темы, когда отошёл от первого потрясения насчёт гипотезы Константина Марковича, спросил:
− Как там Дан?
− Нормально. Но ходить никогда не будет, − сказал адвокат, я видел, что он отвернулся и смотрит в окно, – с незрячими ж не церемонятся.
− Как?
− Позвоночник сломал. Вы-то с Саввой на подушках безопасности выехали, то есть Савва, увы, умер, но…
Я знал, как умер Савва. Ему перерезало артерию на шее обломком пластика, пока нас доставали из машины, или что-то в этом роде. Мама рассказывала, но она всё начинала плакать, я не уточнял. Антонио вполне сносно объяснил, что у Дана подушка не сработала. Это вполне возможно, порш у Саввы был после ремонта, я никогда не уточнял, откуда и та первая вмятина на задней двери, и последующие, которые он регулярно ездил выправлять. То есть, по мнению адвоката Константина Марковича, у порша это была вторая авария и подушку то ли не заменили, то ли она просто не сработала. Порш стоял на экспертизе. Именно на анализе волос и ДНК проверялась моя версия о том, что я вёл совсем не долго, не всё время. Но как они там что-то могли понять, когда мы с Саввой постоянно во время поездок пересаживались: то он, то я.
Я стал какой-то бездушный. Даже мысль о смерти перестала пугать меня. Из ночи в ночь – для меня теперь ночь не кончалась и не начиналась – прокручивал прошлую жизнь, особенно последний день, вечер. Всё плотно, насыщено событиями до предела – утренник в ресторане, наш обед, поездка. Я постоянно думал о Тоне. Она говорила, что мои друзья – колясочник и покойник. Я припомнил её выражение лица за столом, когда она смотрела на Савву. Наверное, она его просто не увидела, пустое место вместо Саввы. А Дана увидела. Но я так и не мог понять, какая картинка явилась Тоне − он что: сидел в инвалидной коляске за столом?
Видел я лучше и лучше, меня возили на разнообразные процедуры, клали в какие-то ванны, делали гидромассажи и массажи, я даже плавал с Антонио в бассейне, через день он возил меня на такси к остеопату. Когда не видишь, а потом начинаешь всё чётче и чётче различать силуэты – это как в фильме, где проявляются плёнки и печатаются фотографии, постепенно на бумаге возникает изображение. Пока я был с Антонио в Москве, мама училась в автошколе, ходила с адвокатом на слушания. Антонио в ноябре уехал – он не мог больше оставаться, из-за меня он забросил дела, здесь он на меня потратил целое состояние, но это было крохой по сравнению с тем, сколько он потерял в Милане. Мама успокоила, сказала, что нищета нам не грозит.
Во время суда я уже начинал видеть чётко, как и обещали врачи, но скрывал. Суды шли до конца ноября, их было три. На втором суде произошло моё окончательное прозрение. Именно тогда я понял, что имел в виду адвокат − быть слепым, да и глухим, вообще по жизни выгодно и удобно, полезнее для нервов. Я считался обвиняемым и мама меня провожала в «клетку». Но решётки не было, это был загончик со стёклами. Рядом со мной, но за клеткой, как поводырь имела право сидеть мама, и адвокат совсем рядом сидел, за столом. Он ко мне подходил. Сначала-то с непривычки на ощупь всё, я ещё нервничал сильно. На первом заседании суда всё какая-то муть читалась обвинением, я очень устал. Во второй день вкатили Дана – скрипы и шуршания коляски, от волнения я перестал видеть вообще. Когда Дан давал показания, мне прям горло перехватило от возмущения. Дан всё врал. Всё! Получалось, что я предложил ехать, что я уговорил его, я был за рулём. В общем, топил меня Дан по полной. Я злился, злился, у меня потекли слёзы от возмущения, я часто плакал после аварии, я как старик, как мой дедушка перед смертью, жалел себя, исключительно и только себя, все три месяца только себя. В какой-то момент я поднял глаза и увидел Дана в коляске: вспышка, что-то щёлкнуло в затылке, может я сделал какое-то резкое движение. Закололо в шее, потом стало жечь голову – будто пулю всадили в череп. И я увидел тёмное стекло и через него – Дана в коляске. Нечётко, но всё-таки увидел. При искусственном освещении, а не напротив окна! Я помнил, что сказал адвокат и виду не подал, я не сказал даже маме, у меня тут же, в этой клетке созрел небольшой план. Я и дальше притворялся абсолютно слепым. Зрение моё прогрессировало, я видел всё лучше и лучше, на третьем суде, я изучал слушателей, они как-то прыгали перед глазами. Затемнённое стекло скрывало меня от всех. Заседания проходили в таком полузакрытом режиме, в городе почти никто не знал о них. Мирошев, хоть и маленький город, но в нём – областная пересылочная тюрьма с незапамятных времён, и в суде постоянно слушаются дела, даже федерального уровня, суд у нас работает денно и нощно и, как правило, в закрытом режиме, − жизнь суда если не табу в нашем городе, то близко – моветон об этом говорить. Когда мэра убили, так информация просочилась спустя месяц, а тут – всего-то авария в пригороде. Все уже сидели и ждали судью, мне показалось, что у входа в зал, там где стоят гвардейцы, маячит Владимир. Он огляделся, он искал кого-то, подошёл к отцу Саввы, пожал ему руку, поговорил и в прямом смысле откланялся. У Владимира руки в тату, я видел их как тёмно-серыми, он всегда ходит в светлых футболках, даже зимой на улице. Остальные торсы в зале были в одном тоне – у всех же, кроме Владимира, рукава длинные. Это точно был он, деловой, спокойный, смотреть на мою клетку он избегал. Жорыч похудел в два, даже в три раза − другой человек, убитый горем и озлобленный… Отец Саввы испепелял меня взглядом, я скорее не видел, а чувствовал. Больно и в прямом, и в переносном смысле было смотреть на мать Саввы, затюканная и убитая горем женщина, чего не скажешь о его мачехе (я узнал её по блеску бриллиантов) − Николь Николаевна обнимала сына, мальчика лет тринадцати, и (мне показалось!) совсем не выглядела расстроенной. Я наблюдал из своей «норы» Дана, его отца и его маму. Мама Дана не производила впечатление человека, который боится выходить на улицу, боится общества − может быть горе из-за парализации Дана на неё так полярно подействовало, привела в норму. На суд пришла и Лиза, девушка Дана. Она давала показания ещё в первый день. Я поражался лживости и лицемерию всей этой судейской вакханалии, буквально все врали, и Лиза чуть ли не больше всех, врала и обо мне, всё врала, всё было не так. Я был слепышём, но пелена спала с моих глаз. Водитель машины, с которым мы столкнулись, утверждал, что не знал, что фары у него не рабочие, он ехал из ремонта, где починили всё и всё работало, а на дороге вдруг перестали фары светить. Адвокат представил документы из сервиса, где водителю всё чинили. Меня допросили ещё во время второго суда, очень коротко, в основном отвечал адвокат, называя страницы дела, куда вложены справки. Я дал свои сто раз повторенные показания, что за рулём был я не долго, только сел. Мой адвокат же строил защиту на стрессовом состоянии… По ходу суда я понял, что меня держат вроде как за поехавшего крышей инвалида, адвокат утверждал, что я инвалид первой группы по общему заболеванию, хотя инвалидная комиссия на днях дала мне вторую, а теперь, когда я начал видеть, я был уверен, что через год инвалидность снимут. В итоге мне дали два года условно, присудили выплатить ущерб потерпевшим, и Николаю Георгиевичу я тоже должен был выплатить ущёрб, я так и не понял моральный, или материальный. Я думал: как я после всего буду жить с Даном? Он, кстати, нервничал всё последнее заседание, постоянно глазел на меня. Хорошо, что семья Саввы переедет – об этом заявил на суде сам Жорыч, он объяснил, что оставаться после произошедшего просто невозможно.
Окулист поздравил меня и маму, обрадовал, что всё идёт на удивление хорошо, что мой случай – повод для серьёзной диссертации. У меня защемило сердце при этом слове. Я бы тоже мог писать диссертацию, если бы меня приняли в аспирантуру, если бы переехал с Тоней в Петербург как она предлагала. Окулист выписал мне первые в жизни очки с линзами-хамелеонами:
− Раз в месяц записывайтесь, будем смотреть динамику и менять очки.
Потянулись унылые будни, я сидел у окна и скучал. Не проходило дня, чтобы я не вспоминал тот ужин, тот вечер, когда всё ещё было хорошо и даже прекрасно. Не проходило ни одной ночи, чтобы я не вспоминал Тоню. На суде я разозлился и стал лучше видеть. У Тони все видения были тоже связаны со злостью. Ну почему я не верил её предупреждениям, считая их враньём? Почему я так покалечил свою жизнь? Да что теперь причитать. Савву не оживить. А Дана мне хотелось укокошить. Я мучился ещё и от подозрений. Баскервиль, ягуар, звонок Жорыча, странное поведение друзей, бывших друзей…
Однажды запикал телефон. Он нечасто пикал – так, разный спам, сообщения от банка в основном. На следующий день мама рано утром уехала в посольство выпрашивать мне визу, что было нереально – я ж судимый, с не снятой судимостью, с не выплаченным ущербом. Но мама всё равно поехала.
А мне позвонили и огорошили, что ко мне едет бандероль, доставка до квартиры. Ёкнуло сердце − из суда, или от адвокатов потерпевшей стороны. Сколько заказных мама получила за три несчастных месяца! Но впервые экспресс-почтой, всегда мама ходила на почту сама – приносили повестку. Это оказалось вообще не почта, а совсем другая доставка. Курьер даже не обратил внимание, где я поставил подпись – я вообще не видел графу бланка. Доставка была видно дорогая, курьер очень вежливый. Я вскрыл бандероль. Это было рукописное письмо! Я начинал потихоньку читать, мама покупала мне книги для детей с крупным шрифтом. Письмо от Инны, на фирменной бумаге компании. Почерк у Инны был круглый, без наклона, я не любил такие почерки в школе, теперь же я поменял к нему отношение: буквы чёткие, уверенные, с нажимом, нет лишних элементов, всё пузатенькое. Я читал через увеличительную пластину, а потом бросил так читать, и стал читать просто в очках, забыв о боли в глазах. Буквы скакали в глазах и танцевали, но я забыл обо всём на свете, я читал:
«Дорогой Антоний! Как ты живёшь? Я знаю, что с тобой произошло…
Странно. Об аварии в городе никто не знал – так уверял Староверов. Я уверен: слухи ходили. Но я знал точно: на похоронах Саввы были только самые близкие люди и несколько человек из ресторана. Школа, наш класс, не знали о смерти Саввы. Инна знает… откуда?
Больше того, дорогой Антоний, я знаю, кто это всё организовал. Это наш с тобой любимый Валерий Яковлевич. После двухнедельных раздумий-мучений, я решила отписать тебе.
Утром во вторник (Инна написала число аварии) Валерий Яковлевич пришёл на работу раньше меня. Я пришла раньше обычного, так как машина была в ремонте, я ехала на метро и не рассчитала время. Когда я только прошла холл и ещё не поднялась на наш второй этаж, я услышала из его кабинета крики. Он с кем-то разговаривал по телефону и кричал: «Откуда я знал? Я не знал, что это не он! Клянусь – на переднем сидении был он! Они оба блондины, ну перепутал». Я торопилась, вдруг ему помощь нужна, дверь в кабинет была открыта, он разговаривал по стационарному телефону, увидел, что я вхожу, сразу закончил разговор, брякнул трубу на базу и захлопнул дверь передо мной. Он был хмур и зол, попросил меня приготовить ему крепкий кофе. Когда взял чашку, так ошпарился. Наталья Николаевна тоже рано приходит, она поливает цветы. И Валера начал меня прям при ней поливать из-за кофе, ну словами – ты понял. У Натальи Николаевны вытянулось лицо, она сделала ему замечание – он её чуть не убил, прямо с кулаками полез на неё, и она полила его из лейки. В принципе, Антоний, реально выяснить, с кем он разговаривал в утренний вторник – он же говорил по стационарному. Я даже обратилась в компанию под предлогом, что много холодного обзвона и хотелось бы знать номера для блока. Но телефон оформлен на собственника мне неизвестного, только ему могут предоставить данные о звонках, а мне − нет. Всё прошедшее лето наш главный был хмур, после выходных приезжал ещё в нормальном настроении, а к пятнице зверел. В течение года (после нашего с тобой общения) у нас с ним наладились отношения, мы собирались пожениться, и он как-то мне сказал, что должен получить долю в каком-то бизнесе, и тогда сразу. Но в августе он сник, как я тебе написала выше. В конце ноября, в пятницу вечером, все ушли с работы, и я тоже собиралась уходить, а он остался. Я так удивилась – впервые он в пятницу задерживался, раньше-то, помнишь?, вообще не появлялся. Я стала подозревать его, стала ревновать – он мог на работе расслабиться с любовницей – такое случалось. Я ушла и вроде как случайно забрала общие офисные ключи, которые надо сдавать под роспись охраннику, а спустя час вернулась – вроде как вернуть ключи. Охранника внизу не оказалось, я подошла к экранам и увидела, что у нас в офисе мужчина. Я поднялась наверх – но в офисе никого не было, из кабинета Валеры слышались голоса, я решила послушать, о чём они говорят – вдруг дверь не закрыта. Но дверь была закрыта. Я подкралась. Я подумала: ничего же такого нет, я просто вернулась вернуть ключи. Антоний! Они говорили о тебе! Что ты ослеп, что ты ничего не видишь. Я не помню дословно. Но они ругались. Тот мужик говорил, что не может заплатить всю сумму, потому что «ты убил не того», а Валерий настаивал: ты ослеп и не сможешь писать, поставленная задача выполнена. А тот мужик опять ругался, что «какой ценой» и «невинного пацана загубил», а Валерий опять: что не ты должен был быть за рулём, а тот другой. Я поняла одно − тебя хотели прикончить. И ещё мужик говорил Валере насчёт шлема – там камера и его надо уничтожить, а Валера уверял, что не дурак, что давно камеру разбил. Но мужик настаивал, что и шлем должен исчезнуть. Валера спорил и мужик замолчал. То есть, я так поняла, в шлеме у него был видеорегистратор, как и у всех мотоциклистов. Я это знала – тоже мужик ругал Валеру и за это. Ты говорил Валера приезжал к тебе домой? Не было ли у него в руках шлема? Обычно он оставлял шлем в кофре. Я вернулась на первый этаж, положила ключи на стол охранника, взяла журнал и расписалась. Я молила Бога, чтобы никто не стал просматривать камеры и вроде бы пронесло. Во всяком случае, Валерий мне ничего потом не сказал. Да никто эти камеры никогда и не просматривает, если честно. Я заперлась в машине. Вышел мужик и сел в ягуар. Я видела его в зеркало заднего вида, я почти никак не могу его описать – он был достаточно далеко. Он весь в татухах, эдакий леопард или ягуар, руки и шея, несмотря на погоду он был в футболке, ну там и джинсы, спортивный такой и достаточно крупный нос. Антоний! Остерегайся его. Он хотел, чтобы ты погиб в той аварии! Это он разговаривал с Валерой, он ещё стал орать на пустую будку у шлагбаума. Видно охранник так надолго удалился, что до сих пор не подошёл к пульту – он кнопокой даёт сигнал, мы все заезжаем по звонку, автоматически, а у ягуара пропуска не было. Я сидела и тряслась, я молила Бога. Но этот бешеный достал из багажника железку-ломик и сломал шлагбаум. Я побыстрее за ним уехала. И послала это письмо. Я понимаю, что ты не видишь и тебе кто-то должен будет прочитать. Я знаю, что ты с мамой – они говорили о твоей маме, Валера постоянно повторял, что ты никогда не бываешь один и извинялся. Валера боялся этого мужика. Я пишу не только из-за этого, что тату-мужик заказал тебя Валере – так, имхо, я поняла. Я пишу, потому что Валера вчера погиб на дороге, я с его мамой ходила на опознание, ездили в подмосковный морг. В интернете никаких новостей об аварии, коллективу сообщили, что Валера поменял место работы, все соцсети он удалил после твоей аварии, так что интернет-друзья не забили тревогу. Думаю: заморозки и гололёд, но по-моему он переобувался на зиму – всё, что он говорил мне по поводу мотоцикла, я пропускала мимо ушей, жаль. Я боюсь тебе писать на телефон и на почту – ты же не видишь. Умоляю. Сожгите с мамой это письмо. Если ты хоть чуть-чуть жалеешь меня – сожги. Я знаю: ты кристально- честный. Попроси маму отправить пустое сообщение. Я пишу номер, это мой рабочий номер, если что, можно сказать, что ты случайно нажал. Пустое сообщение или точку с запятой, всё равно как. Окей? Это будет значить, что ты сжёг это письмо». (Внизу стоял номер телефона.)
Владимир! В наш век мгновенных новостей любая новость может затеряться навсегда. Ничего неизвестно о гибели Баскервиля. Моё дело тоже замято. Сколько аварий по Москве, по областям! «Запомни: новостник – властитель дум. Что захочет, то и выведет в главную новость. Захотим – полный игнор», − наставлял Владимир.
***
Пепельница Дана до сих пор стояла на подоконнике, как цветок на Цветочной улице в фильме. Натыкаясь на всё, что можно, я «побежал» на кухню, но сжёг я конверт и упаковку, завоняла хлором, конверт превратился в мягкий комок. Письмо я сунул в карман. Я решил сходить к Дану и серьёзно поговорить, пригрозить, что пошлю письмо, куда надо, если он не ответит честно: что всё-таки произошло?! Я надел хамелеоны, я опирался на трость. Я решил притвориться почти слепым. Я шёл, постукивая палочкой по двору до подвала. Было сухо, я замечал листья, я смотрел, как ветер гоняет их сморщенные мумифицированные трупы по двору – на улице декабрь-месяц, а снега ни в одном глазу. У подвала меня встретил на коляске Дан, он курил под навесом. Я приближался к нему, как бы не видя. Он перепугался, испугался, но и смеялся надо мной. То есть он злорадствовал по-прежнему.
− О! Тоха!
Я сделал вид, что испуган окриком, остановился, но не стал его рассматривать вблизи. По идее, он должен понять, что я вижу.
− Мне телефон починить.
− А ты шутник. Оптимист, да? – Дан страшно захохотал. Нервно. − Лиза! – крикнул он.
Я знал, что Дан по-прежнему работает в своём подвале. И сейчас даже больше обыкновенного – много скопилось невыполненной работы за время, пока он, как и я, мотался по больницам.
Показалась Лиза – я узнал её.
− Покурил, Данилочка? Пойдём за прилавок. – Вроде и не видит меня. Скользкая особа, лгунья.
− Нет. Я тут погутарю со старым боевым другом, − голос Дана дрогнул.
− Нет! − Лиза протянула что-то Дану. Опираясь на костыли, Дан «пошёл» к двери – Лиза шла рядом и страховала. «Шёл» − это сильно сказано. Я вспомнил одну книгу. Там мальчик так же волочил свою ненужную ногу. Дан же волочил две ноги, «шёл» на руках. То есть на костылях. Ноги спокойно можно было отрезать, ампутировать – ничего бы не изменилось, Дан бы без них даже лучше справлялся. И зачем ему это пальто а-ля шинель Грушницкого? Оно же мешается… Я отвернулся, смотрел на людей, выходящих из наших подъездов – они с интересом пялились на меня, мама всем интересующимся сообщила, что у меня было сотрясение мозга. Вскоре Лиза появилась и стала помогать мне: она впереди – рука назад, я за ней – держусь за её руку. Всё это мне напомнило сказку «Буратино», когда герои спускаются через волшебную дверь в чудесную страну. Дан приказал Лизе уйти. Я стоял у лестницы, не подходил к витринам, почти чётко видел Дана – его прилавок освещён. Дан ухмылялся недобро. Ну так: остаться без ног и по-доброму смотреть на людей…
− Давай свой телефон. Что у тебя там?
− Ничего. Мне надо спросить у тебя, Данила.
Он направил настольную лампу − поток электрического света чуть не убил мои выздоравливающие глаза, я закрыл веки.
− Кто тебе приказал так отвечать на суде?
− Как?
− Что я был за рулём.
− Так ты и был за рулём. Я, что ли, был?
− Но я же пересел. Я ж не всё время!
− Какая разница!
− Ну просто ты сказал неправду, что я вёл всё это время.
− Жорыч приказал, − луч всё бегал. – Наверное, чтобы больше ущерб, − хихикнул Дан.
Пусть луч, просто свет, сквозь кожу он кажется розово-серым. Кажется люкс – единица освещения. А может люмен… Жаль я не могу спросить об этом Дана, раньше бы обязательно уточнил.
− Жорыч сказал, что его попросили взять тебя на работу. Он считает, что если бы не ты, Савва был бы жив.
− А кто попросил?
− Думашь, мне расскажут?
− То есть Савва следил за мной. Вы оба следили, так?
− Да я был приставлен! – Дан бросил лампу. Она освещала снова его лицо. Я видел, что он мучается, он дрыгал руками, теребил что-то в пальцах, какую-то деталь. Сейчас ещё запустит в меня чем-нибудь…
− Савва сказал, ну помнишь, в тот злопамятный день, чтобы я помог тебя довести.
− Куда довезти?
− Да не везти! А до-вес-ти! Доводить, значит. Мы должны были тебя раздражать, потом ради шутки, прикола, хохмы – напугать. Как тебе больше нравится, выпихнуть тебя из машины и забыть на дороге.
− Как? – я опешил, стал хвататься за стену, в глазах у меня поплыло, но я удержался.
− Веришь, Тох, я ничего не знаю. Меня попросили. Мы договорились, что устроем игрушечные стрелялки, остановимся, и как бы в шутку оставим тебя одного на дороге. Мы должны тебя были просто оставить!
– Зачем?
– Не касалось это меня, – трясся Дан. – Не моё дело. Но я предполагал, что с тобой хотят поговорить по душам на ночной дороге.
– Кто?
– Не знаю.
− Ты не должен был садиться за руль. Ты должен был остаться на дороге. Я не знаю, почему вдруг Савва разрешил тебе сесть. Ты же вышел, обогнул машину и должен был так и остаться, дверь Савва должен был заблокировать. Но он, мне так кажется, просто забыл. Вот ты и сел, и повёл. мы должны были уехать.
− И ракетница для этого?
− Ну конечно. Они увидели, что тебя нет. И погнались. Этот байкер неизвестно откуда, ты ещё стал с ним соревноваться. Ну разве может порш бэху такую сделать? Савва видно просигналил. Я не знаю, что это означало. А тот второй на спорткаре дал тебе, он мчался за нами и выжидал.
− Но я не видел его!
Дан захохотал:
− Ты не ожидал, вот и не видел. Мы же тебя напугали!
− Мужик на старом ведре попался случайно думаешь? Он затормозил, он видел, что ты летишь. И оказалось: приличный же человек на этаком ведре… Такой удар, правда по касательной, а он на суде прям огурец, это в консервной банке-то. Я тебе скажу, Тох, − видно было, что Дан мне рад. Мы с детства росли вместе, мы всегда друг друга поддерживали. Сейчас мне казалось, что Дан забыл, что он калека, что он продал меня с потрохами. Он делился со мной, разговаривал. Я не слышал, чтобы кто-то заходил в дом быта. Неужели Лиза закрыла дверь, чтобы не мешали? Наверное Дан мучается совестью, вот и болтает, интересно: Лиза всё знает или нет? – Я тебе скажу по старой дружбе – у челика машина по ходу бронированная. А тот на спорткаре, они с байкером видно заодно, он спихнул нас вправо, на встречку – видно байкер успел ему сообщить о ведроиде. Я не пойму, зачем, не знаю, кто это… А про хозяина ведра знаю.