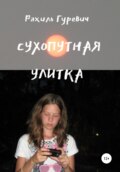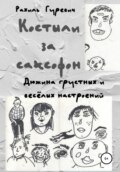Рахиль Гуревич
Тайный покупатель
Глава вторая. В квартире у Антония
В мире есть шанс у тех, кто богат и кто по знакомству, кто сыновья и дочки. Миром правит блат и родственники − так говорит папа. Антоний в общем и целом согласился. Он сказал, что «блат» – старое слово (все слова он разделял на старые и современные, к старым относился с доверием и почти любовью, но сам часто употреблял современные), до сих пор и по-прежнему решают дело связи, знакомства, но способности важнее, чем знакомства.
− Способности нигде не нужны, − сказала я.
Но Антоний привёл в пример себя. Я не могла понять Антония и его отца не могла понять. Странная история, удивительная, уникальная. Почему Староверов не рассказывал Антонию сразу, что он его отец? И мама Антония никогда про Староверова не говорила, даже когда он специально перешёл на работу в школу Антония. Староверов – скользкий тип, у него везде знакомства, везде связи, он додавит и добьёт, сказала я Антонию. С другой стороны – прекрасная работа, сиди и переписывай. Сложные шрифты, гравюры, криптограммы, но тонкой линией всё намечено на принтере – надо просто точно обвести, как в оригинале. Антоний ох как умел писать! Я по сравнению с ним просто дно. Штучная работа, кропотливая, но ведь и оплачивается. Во всяком случае, Староверов обещает. Я просила взять меня к ним в скрипторий хотя бы краски натуральные толочь мешать (они у Староверова на минералах), но Антоний сказал, что там химик готовит краски, а женщинам даже приближаться к скрипторию запрещено.
Когда я зашла к Антонию в квартиру, я просто с катушек съехала, улетела в другой мир. В прихожей, на стене, были приклеены камни. Такие отполированные, отшлифованные. Антоний сказал, что это его прадедушка собирал, привозил из экспедиций, и что озеро в нашем посёлке – искусственное, это его прадедушка сделал. Не сам конечно, был проект. Много было противников, но всё-таки сделали и берега обсадили соснами. Сейчас эти сосны огромные, они страшно качаются на сильном ветру, в соснах малинник, там пасутся отдыхающие и иногда выгуливают коз, − это я рассказала Антонию, он про малинник не знал, а про коз знал.
− Дамба на озере временная. Озеро будет постепенно зарастать, оно уже заболачивается.
Между камнями висели удивительные часы. Антоний объяснил, что часы пятидесятых годов, что они в хрустальной оправе, что к сожалению его друг Дан не смог починить завод, и механизм заменен на электронный, то есть батарейки, а что раньше они заводились. Но тикают по-прежнему. Антоний сказал, что циферблат, зелёный малахитовый, как в Эрмитаже и позолоченные стрелки напоминали ему с детства сказы Бажова. Он долго смотрел на часы, любовался камнями, мы мечтали, как поедем в Петербург. Он включал на особый режим люстру, люстра мерцала и камни мерцали, а часы отражались в зеркале рядом. Я обожала смотреть на эти часы, когда привыкла к Антонию. Я обожала тиканье, тихое-тихое, кошачье.
В кухне я села на табурет. Треугольные табуреты на кухне, сидение треугольное, из какого-то странного материала, не из дерева, и вроде не из камня. Табуреты очень старые о трёх ногах.
− Смотри. Совсем не шатается, − гордился он.
Кухня его, скорее его мамы, тоже необычная. Над столом висели полки, а на них стояли разные хохломские сувениры. Антоний презрительно называл эту полку мещанством. Его мама любила народные промыслы, она и работал в таком колледже, Антоний смеялся, что она там подхватила вирус прикладного искусства. Я прикладное не любила, все эти вазочки и статуэтки, но хохлома мне нравилась. Такая цыганщина, всё золотое, красное и чёрное.
Ещё на кухне были необыкновенные плитки, стены выложены ими. Вроде попадаете в избу, где печь выложена изразцами, Антоний говорил, что маме делали керамику по заказу в мастерской студенты; рельефы изразцовые, копии старинных, он объяснял, какие из каких губерний. К изразцам Антоний относился уважительно, считал, что это сродни геральдике, а значит недалеко и от шрифта. Антоний знал даже египетские иероглифы и санскрит, но сказал, что в школе знал хорошо, пока с ним отец занимался, в институте глаголица, кириллица, латынь и старославянский вытеснили из его бошки все шрифты, кроме устава и его производных. (Кстати, в скриптории, если бы он не артачился, согласился, ему приходилось бы сталкиваться чаще всего с уставом.) Антоний сказал, что все древнерусские памятники ему нравились, он читает по-старославянски и наиз много знает. А я даже «Слово о полку Игореве» не осилила, хотя именно оно досталось мне в тесте после девятого класса.
Антоний ничего на это не ответил. То ли он обиделся, то ли привык. Но я его сразу успокоила: русские сказки обожала.
Он заинтересовался:
− Почему?
− Там все оземь бьются и превращаются кто во что, в основном в волков и птиц. Все оборотни.
− Только поэтому?
− Ну и ещё там много убийств, в смысле жестокие они.
− Ну так фольклор.
Я ничего не поняла, Антоний пояснил:
− Жертвоприношение, традиции, вот и жестокие. Я в детстве не любил, что убивают, я адаптированные читал.
− А я обожала, − сказала я. – Убивали-то плохих.
Антоний необычный и квартира необычная. У моей бабушки везде лежали половички, скатерти − но это в нашем дачном доме. А дом, который остался от соседки, планировали сделать современным. Я рассказала Антонию о своих планах по хай-теку и минимализму, он изменился в лице, он считал, что бюджетный офисный мир пластика – полное фуфло. Я настаивала, я же на дизайне среды, мне лучше знать. Антоний покровительственно улыбался и заявил, что я порчу вкус в своём третьесортном универе, что попса скоро поглотит меня как и остальных, прогрызёт дыру в сознании. Антоний идеально красив. Или почти идеально. Он высокий, не то что я, полтораха. У него большие глаза, русые волосы, ну там правильные черты лица, и глаза. В них посмотришь и всё отдашь. То есть всё материальное и нематериальное. Я просто была поражена, когда он стал со мной разговаривать там на скамейке, понятно что он хотел отдать телефон, возвратить, извиниться. Вообще этот его поступок меня очень настораживал и никогда, даже в самые счастливые минуты, я не забывала о нашем тогдашнем конфликте. Странный был и его друг Дан. Он мне не нравился. Он был айтишник, но и спортсмен. Антоний был нормальный, но немного оплывший жиром. А Дан был подкаченный, в одежде казался худым, но была жара и я видела его в шортах и в майке. Дан был завёрнутый на всей это технике, у него торчали клоками волосы, он был небрит. Он был красив, даже симпатичнее Антония, такая мужская красота, настоящая мужская, но он так смотрел на меня странно, как на ворованную модель телефона или будто я – его девушка. Сейчас везде пялятся. Но на меня как правило посмотрят и отворачиваются безразлично, а некоторые ещё и прищурятся презрительно, особенно девушки в метро или тётки-губошлёпки за рулём, когда я напоказ медленно прогуливаюсь по зебре – пусть сбивают, хоть компенсацию получим и кредит погасим. Я заметила по своим клиентам по уборке: богатые тётки со временем становятся губошлёпками, даже если раньше у них вместо губ была нитка, такая щель для выплёскивания ругательств на люмпенов, вроде меня. Я ответила Антонию насчёт третьесортности моего универа, что меня и без универа многие явно считали третьим сортом. Чем дольше я мыла квартиры, тем больше я убеждалась, что у нас в стране есть господа и слуги. Антоний смеялся, называл меня концептуалкой, он считал, что в жизни всё прекрасно и можно всего добиться. Главное − не сидеть, сложа руки. Он всегда поправлял меня, когда я говорила неправильно, у него это получалось абсолютно не обидно.
В комнатах у Антония были расписаны обои. Разными буквами, шрифтами, буквицами, какими-то иероглифами и геральдикой.
− Это ты всё?
− Да. Обоям лет пять. Я их акриловыми красками пишу и кисточкой специальной. Постепенно, по настроению. Видишь: кусок ещё не расписанный. Будет настроение, можешь что-нибудь ты написать. Архитектурным желательно, не чертёжным.
− Поняла, − и я расписала на обоях цитаты из поэта Василия Уткина, он меня просто спас на ЕГЭ, а посоветовал его читать для экзамена мой непрактичный папа, он нарыл на даче полусгнившую малюсенькую книжку с надписью «библиотека «Огонька», бывает и от моего папы польза.
Антоний был счастлив. Думаю, именно тогда он решил, что мы будем вместе до смерти.
− Раньше были другие обои, те с рождения. Сначала мазюки, потом каракули, всё лучше и лучше – интересные были. Клинопись перерисовывал. Я тебе фото скину старых.
Но фото он не скинул. Я заметила, что Антоний как бы живёт одним днём. Он объяснял это спецификой работы, с которой его из-за меня уволили. Он никогда много не говорил о работе и не обсуждал клиентов, как например любит делать моя бабушка. Она как какой-то буравчик вбуравливается в человека и потом высказывает разные теории насчёт его характера и его прошлой жизни. Антоний – нет. Он обо всех отзывался достаточно хорошо, кроме отца, его он ненавидел всерьёз. Я не могла этого понять. Отец при очень крупных деньгах, при уникальном бизнесе, со связями, раз он старшего сына пристроил главным редактором на самом популярном сайте новостей. Но я вообще новостями и политикой не интересуюсь; пока дедушка был жив, я была в курсе, дедушка всё телевизор смотрел. А бабушка любит сериалы и ток-шоу, я с ней обсуждаю ток-шоу, точнее − поддакиваю. Мама же в свободное время играла на компьютере, она почти геймер, а насчёт новостей отзывалась, что не надо вообще всё это слушать, чтобы не расстраиваться. Папа интересовался новостями, но не всеми, а только по части музыки, культуры и искусств и знал все расценки в телевизионных певческих шоу.
В общем, Старовеверов, видно, имел деньги и вложил их в такую штучную типографию. Антоний рассказывал, что у его отца были какие то связи, какие то постоянные встречи, он мог со всем найти общий язык и расположить к себе.
− Он всё успевал, – Антоний морщился, когда говорил об отце, и всегда почти в прошедшем времени: – Он мало спал, мало ел, и иногда пил коньяк, очень дорогой.
И я не могла понять, у меня в голове не укладывалось: для Антония отец сделал всё, что мог в сложной ситуации, когда у него и жена, и любовница и обе с детьми, предложил такую хорошую работу, создал можно сказать с нуля бизнес.
Антоний любил книги. Он мне так бережно показывал старые книги, листал их аккуратно. Говорил, сколько книга стоит у коллекционеров, рассказывал интересные букинистические анекдоты. Я к своему стыду думала, что никто уже на бумаге не читает, в метро и бабушки сейчас читают с экранов. Антоний на многое мне раскрыл глаза.
Я множество раз повторяла, что не понимаю, почему он отказался, и пусть он хоть сто раз мне объясняет про общение, про команду, про совместные ланчи, корпоративы и летние посиделки с пивом у ТРЦ, и про походы в кино тоже, я всё равно не понимаю. Тем более, что в кино можно сходить всегда, вышел с работы, из скриптория, и пошёл в кино. Но Антоний возражал, что скрипторий нудятина.
− Ты не понимаешь, Тоня, − улыбался он. − Как бы тебе объяснить, − мне очень импонировало что он не бесится, как бабушка или папа, когда я настаиваю на своём, а объясняет всё почти спокойно, чересчур спокойно и доброжелательно. – Я родился не в своё время. Староверов готовил меня для себя, понимаешь?, ему наплевать на меня, я для него инструмент для заработка. Он очень навредил мне. В конце концов, это просто подло. Скрипторий − совсем не так, как ты думаешь: вышел после работы и пошёл фильм смотреть.
− А что тут думать? У тебя талант: сиди и пиши, переписывай. Это же самое главное – реализовать свой талант.
− Я же сто раз тебе говорил. Перепись затягивает, она поглощает тебя. И пока я пишу, переписываю, обвожу, мне ничего не хочется. И ничего не радует, пока не закончу.
− Ты не представляешь, какая это нагрузка на глаза, на руки. Руки болят.
− У меня тоже руки болят и что?
– Обычная жизнь – это счастье. Если бы не конкуренты, никогда бы не вспомнил даже об этих скрипториях.
− Да не конкуренты это. Это он. Твой отец Староверов организовал закупку.
− Тоня, не надо….
Несколько раз у нас возникали такие приблизительно разговоры, обычно когда мы шли к нему в гости, обратно мы всё чаще молчали, и чем ближе подходил к концу август, тем тяжелее и длиннее, тем опаснее и безграничнее становилось молчание, только крепче сжимались наши ладони, сцепленные в семейный кулак – говорил он и смеялся.
Он мучился на самом деле, его не взяли в аспирантуру из-за отца, плохо стали относиться на кафедре. Он страдал из-за этого и можно сказать, что решил забить на всю эту древнерусскую тоску. Уверял, что выдохнул: можно жить нормальной спокойной жизнью. Можно наслаждаться жизнью. Я предложила ему писать фэнтези, но он ответил, что с удовольствием, но он не может даже пост нормальный написать, не то что книгу, ему близко наукообразие, достоверность, он представляет картинки, ну то есть он мыслит знаками, у него восприятие слов не такое, как у всех. Слово для него тоже знак. Картинки возникают у него, когда он читает памятники и просто старинные тексты. Там мудрость веков. Хотя как раз скрипторы подпортили впечатление: списки дополнялись и изменялись в зависимости от времени переписывания и характера переписчика, его настроения. Я немного понимала, о чём он, потому что сама писала, но не могу объяснить просто и популярно. И тогда я рассказала Антону, какие картинки вижу я.
Он посмотрел на меня внимательно, по-моему он не поверил, решил что это мои фантазии, больные фантазии любимой девушке обыкновенно прощаются:
− В смысле?
− Я первому тебе говорю. – помедлила, и добавила: − Из живых.
− А из не живых? – Антоний в любой ситуации не терял иронии. Экспромт – это его.
− Из неживых дедушке я говорила.
− Понятно. Сверхспособность. Ты у нас, Тоня, избранная.
− Я не знаю, что это. Я тебе призналась, так как чётко знаю − ты совершаешь ошибку. Тебя обложили и всё равно заставят. Я видела тебя монахом. Это случается, если я очень разозлюсь. Очень редко. Я тебя очень люблю, просто обожаю. Ты у меня единственный первый и последний, – последнюю фразу я сказала почти неслышно: − Хватит рассказывать, как тебе тяжело, хватит проклинать свой талант. Смирись и согласись работать на отца.
Он снова посмотрел странно, он не верил мне. Верил и не верил. Я бы и сама не поверила, если бы мне такое выдали.
− Ты красивый – вот и наслаждаешься. Был бы уродом как Квазимодо, заперся ото всех как миленький и просидел бы в скриптории до смерти.
− Тоня! Ты красивая.
− Не надо. Я видела лицо твоего Дана, когда он меня увидел.
− Даньку ты понравилась. Он на всех так смотрит.
− Ты меня успокаиваешь.
− Нет. Я тебя ревную, когда тебя нет рядом.
− Нет, Антоний, не успокаивай меня. Тебе понравились надписи, мои этикетки. Ты лица запоминаешь намного хуже, чем шрифты.
− Не надо начинать эти глупые женские размазни, Тоня, ты и красивая, и умная. – Вот зуб даю: он решил, что у меня было помутнение рассудка из-за заниженной самооценки и стал нахваливать.
− Ты как мой папа. Как бабушка и дедушка. Они то же самое мне говорят, а одноклассники из автобуса вытолкнули.
− Ты, Тоня, никогда не замечала, что у людей которые должны умереть и знают об этом, взгляд обращён вечность? – вдруг спросил он. – Был ли у твоего монаха, такой взгляд?
− Не знаю, − честно ответила я. – Я вижу не чётко, как в тумане.
− А если человека в будущем нет, то ты его не видишь?
− Нет, пустое место.
− Ну значит я доживу до смерти, − рассмеялся он.
Я не любила этих разговоров про смерть. Я боялась смерти ужасно, когда я злилась на родных, я никогда на них не смотрела, злилась в пол – чтобы не знать, что их ждёт, какими они станут (а может и не станут), я бы этого не пережила.
Глава третья. Видеть старость
В последнее наше свидание я вернулась к теме.
− Началось давно. Совсем ребёнком, трёхлетним или лет четырёх, я ночевала на даче. Приснилось как наяву − кто-то стучит в окно, и потом вроде как стекла нет. Этот кто-то начинает мне что-то говорить. Он как медведь, но в косоворотке. Как в сказке «Морозко», я в то время эту сказку ещё не смотрела. Или не медведь, но страшный, и говорит низким голосом.
− Очень интересно. И что он говорил? – улыбался Антоний, но не добавил как обычно что это всё миф и фольклор. Тогда я решила, что он верит, сны же могут быть любыми, самыми что ни на есть фантастическими, но сейчас знаю: он не хотел меня обижать, считал меня ненормальной, делал вид что «слушает и внемлет».
− Я не помню, что говорил чародей, это чудище медвежье. Проснулась, в ужасе стала кричать. Дедушка прибежал, стал меня успокаивать: «Страшное приснилось?» «Да». «Медведь?» – он видно сказал наобум, просто так. «Да, медведь». Но был это всё-таки не медведь, человек но какой-то лесной, серый и мохнатый, в красной рубахе…
− Был сон, и был. Многим снятся кошмары. Особенно в детстве, – резонно заметил Антоний. − Просыпаешься и успокаиваешься.
− Это кошмар-кошмар. Сон я не забывала. И ещё сон, когда я лечу вниз с лестницы эскалатора в метро и не падаю. Со снов я отсчитываю то время, когда я потихоньку стала осознавать свою непохожесть. Каждый жуткий сон – как предвестник моих будущих видений.
Антоний поморщился:
− Я понял, что ты Кассандра… Давай не будем повторяться. – Он не любил повторений, на дух их не переносил.
− Кассандра видела, я верю!
− Это миф.
У Антония всё миф, он ни во что не верит, как и мой дедушка.
− У меня всё не так. Я как-то смутно почти вижу. То есть вроде бы моя фантазия, такая расплывчатая всегда, не в фокусе, как будто колёсико бинокля или микроскопа покрутить или очки дедушкины нацепить. А потом вдруг резкость. А дальше – снова расфокус.
− Это психология. Фантазия всегда без лиц, ты говорила мне дома про расплывчатость, не повторяйся.
− Странная мутность. Точнее мутная странность. Вот что-то такое, но представление о человеке в старости даёт. Я понимаю, что повторяюсь, мне хочется до тебя достучаться, чтобы ты не наделал ошибок…
− Вся моя жизнь – сплошная ошибка. Я родился не в то время.
− Вернёмся к началу, − сказала я, копируя классную, испугавшись, что Антон отвлечёт меня. − По субботам у нас привозили фермеры творог, и сейчас привозят. И бабушка ходили за творогом. А я на качелях качалась рядом, там поляна.
− Ты рассказывала и о поляне.
− И привезли сметану. Они сейчас кладут сметану в стаканчики и закрывают. А тогда привозили просто сметану, а банки все свои несли. У бабушки банка была не очень большая, на пол-литра, и с широким горлом. И фермерша как черпанёт из канистры, у неё такой огромный половник – ну по привычке, у всех же большие банки попадались, даже банищи. А бабушка предостерегают эту тётку-фермершу: «Не влезет!» Много та черпаком захватила, да ещё с горкой. Фермерша: «Влезет!» − опрокидывает половник, ставит на весы. Банка, такая, стоит, а сверху – гора сметанная, ну приблизительно как мороженое- рожок. Бабушка растерянно смотрит на крышку от банки в своих руках, на крышку с закруткой, сокрушённо качает головой, и говорит: «Вот видите: я же говорила, что не влезёт». Та кричать: «Ходите с маленькой банкой, предупреждать надо!» Я слезла с качелей и рванула на крик, бабушку защищать. Бабушка просит отложить − ей же невозможно закрутить крышку – фермерша злится и прям так грубо с бабушкой. Я испугалась до жути, я ж совсем ребёнок. Бабушка поскорее расплатилась и мы пошли домой по тропинке, у нас везде на даче лес, бабушка несла банку в руках, листочки, хвоя и жучки падали в сметанную ловушку.
− Я видел, я когда-то давно в ваших краях был, со Староверовым, на Профессорской улице.
− Мы дальше. Профессорская – центр посёлка, там местные заслуженные и московская элита, бывшая элита, дачи продают потихоньку, у бывшей элиты хреново с деньгами.
− Вот и Староверов там дом смотрел.
− Вот. И значит, мы идём. Я переживала очень сильно. Чем дальше мы отходили, тем меньше я боялась этой грубой женщины и тем больше я возмущалась. Она же сама переложила сметану! Бабушка не может закрыть крышку, на землю может упасть сметана. А дедушка всегда говорит, что еда не должна выбрасываться – в жизни бывает, что есть совсем нечего. Я боялась голода и переживала за незакрытую сметану. Бабушка как-то подвернула ногу, а дедушка был в отъезде. Пока родители не приехали, мы с бабушкой ели только кашу, но она была невкусная. Я распробовала салат и пекинскую капусту с грядки, бабушка говорила мне ходить в огород, самой собирать, только мыть получше. Я злилась на банку, на сметану, на фермершу. Дедушка рассмеялся моему рассказу: «Им надо всё продать побыстрее, вот и ситуация». Бабушка тоже улыбалась. Они как-то снисходительно отнеслись к произошедшему, я же злилась всё больше и переживала мучительно бабушкино унижение. Я тогда была гордая. Почему эта женщина так с нами себя повела? Ведь она заискивала перед другими!
− Ты и это рассказывала.
− Знаю, что рассказывала, но не до конца.
Он рассмеялся в ответ.
− Я злилась и злилась. Легче не становилось. Стала представлять птиц-коршунов. Эти птицы кружили над проводами линии высоковольтных передач, они высматривали добычу на бескрайних полях, куда мы ходили с дедом гулять… коршуны страшно каркали в лесу –у них поблизости гнездо и коршунята. Мне было страшно, но дедушка успокоил, уверил, что коршуны на взрослых людей не нападают, и если что, он меня возьмёт на руки. После холодных осенних ночей, людей на дачах поубавилось, повсюду, в близлежащих лесах, на полях, стало пустынно, даже по выходным. Редкие грибники попадались нам с дедушкой на прогулке. Стали показываться у лесных опушек и лоси. Коршуны тоже осмелели и стали скакать по дороге, идущей вдоль полей. Мы выходим, а они скачут себе в отдалении, никак на нас не реагируя. Наверное, они нас узнавали, привыкли к нам, по выходным родителей коршуны стеснялись, а может просто не любили толпу. Клювы у них были страшные, за сентябрь я достаточно часто и близко рассмотрела этих хищных птиц… И вот я стала представлять, как коршуны летят на эту фермершу, и тычут её клювами, пытаются сбить с ног. Она даже не пытается убежать, только охает и закрывает лицо. Ох, ох… и сжимается всем своим грузным дородным крестьянским телом.
− В пять лет ты знала про дородность?
− Да. Она пытается стать незаметной… доярка… коровница, не лезущая за грубым словом в карман. Как же она с коровами-то, думала я. Коровы любят ласку. С ними надо, как с детьми. Пока меня не увезли с дачи в город, я не забывала обиды. День, когда мы уезжали с дачи был ледяной, с голубым небом. Послезавтра праздник осени в детском саду, я так о нём мечтала… Мы проезжали мимо торговой поляны. Я как увидела фермершу, такую всю улыбающуюся и лживую, и впервые в жизни по-настоящему разозлилась. Я ненавидела её всю с ног до головы, даже складки её халата, меняющие направление в такт движениям – раз-два, раз-два… Злилась и злилась, я прямо вся кипела, мы уже проехали фермеров… И вдруг… вдруг я увидела картину. Эта фермерша, постаревшая и краснолицая, сидит за столом, на столе аппарат (таким дедушке меряют давление) и пузырьки, флаконы и тюбики разбросаны. Она в том же цветастом халате, руки повисли, и она валится, валится на бок. Я испугалась, что он сейчас упадёт и… очнулась. Оказывается папа притормозил и побежал к фермерам. Они привезли мёд, у них же ещё пасека. Бочонок поставили мне в ноги – единственное свободное место. Всю дорогу я была как на иголках, я была так напугана увиденным, этой постаревшей фермершей, почти старухой-ягухой, которая падает с табуретки. Всю дорогу я боялась бочонка. Каждый раз, когда нога касалась его, я вздрагивала. Промучилась до дома… Не то чтобы забыла увиденное, новые события, яркие как всё в моём дошкольном счастливом детстве, друзья в детском саду, отодвинули дачные впечатления в бездну воспоминаний. У меня и до сих пор так по осени. Сидишь на даче, а потом снова окунаешься в городскую жизнь, с её суетой, вечно торопящимися родителями, противным запахом варёного лука и супа в столовках сада, школы, института… Спустя год у фермерши стало красное лицо. Дедушка единственный человек, которому я рассказала о своих странных видениях. Но он отозвался в твоём духе, что у детей часто фантазии. Сейчас фермерши нет в живых.
− Состарилась и умерла.
− Может быть. А по-настоящему злиться я начала, когда пошла в школу. Второй после фермерши, кто меня выбесил, была психолог. Знаешь, такие приёмчики: нарисуй то, нарисуй сё, расскажи. А если я не хочу рисовать и не хочу рассказывать о родителях?
− Да. Я тоже психологов не люблю. Староверов человек тридцать отмёл, пока нашёл приличного специалиста для школы.
− Вот. «Ох, какой интересный рисунок!» – это на мои сбивчивые каля-маля. Нет чтобы сказать: ты не в настроении не рисуй. Ты же психолог, а занимаешься лицемерием. Нет чтобы сказать правду! «Давай поговорим. Не хочешь о родителях, о другом хочешь?» «Ни о чём не хочу», − процедила я угрюмо. Утром я не стала завтракать, после первого урока, когда был завтрак, я только попила чай, а сейчас, после четвёртого урока, меня мучил голод и я вспоминала мешочки с крупой и грядки с пекинской капустой. «Хотите, я расскажу о дедушке?» «Конечно», − решила, видать, что нашла ко мне подход. «Мой дедушка коммунист». Психолог вздрогнула. Такими словами я пугала и воспитательниц. А вот нянечки из сада, всё больше старые блёклые женщины – не лица, а мятый блин, как в моих видениях, всегда радовались, когда я так говорила. На других детей нянечки, бывало, и кричали, а меня обожали. Ну так я пела песни, которым меня научил дедушка, я рассказывала стихи, которым он меня научил – но песни мы с дедушкой любили больше. Про Щорса под красным знаменем. Он раненый шёл, и за ним стелился кровавый след. Про барабанщика, который повёл отряд в бой и погиб. Нянечки были в восторге, да и мои друзья в группе тоже.
− Ну психолог … захейтерила тебя?
− Выпала слегка в осадок. «Да: как интересно», а рожа у самой покраснела. Рот натянутый. Улыбка приклеенная, как у самого слащавого в мире аниматора. «Дедушка работает в институте, и бездельникам, которые чертежи покупают, зачёт не ставит. Никогда! Они к нам на дом приходят пересдавать. А ещё он в совете ветеранов, председатель». «Так он у тебя ветеран!» − лицемерие энд радость. «Да что вы. Он в войну грудным был. Он не ветеран. Он их председатель. Смотрели «Приключения Принца Флоризеля?» Психолог неопределённо кивнула, и я поняла, что она не смотрела. «Помните: там был председатель?» «Помню, − закивала она, – тоже к… коммунист?» − она споткнулась на этом ненавистном слове. «Нет. Чо вы. Это же про принца! Принцы не бывают коммунистами». Глаза психолога стали расширяться: «Значит, ты любишь дедушку?» − «И бабушку». − «И маму с папой?» − «Мама с папой на работе. Я с ними только по выходным. Знаете же, какая сейчас нагрузка в музыкальной школе. Много уроков. По ведомости расписывается папа за одну сумму, по факту получает другую. Хорошо, мама у меня на оборонном предприятии. Она делает страшные вещи», − как сейчас помню, я подняла руки с растопыренными пальцами и сказала психологу: «У-уу!» «А при чём тут музыкальная школа?» − «Так папа там на гитаре бренчит, на балалайке-бас, на домре и на прочих струнных, у одной девочки арфа-половинка, представляете? Ей родители купили на свои, представляете? Вы знаете, сколько арфа стоит? А половинка?» «Да. Да», − засуетилась психолог. «Почему-то некоторые особо одарённые думают, что половинка арфы, половинка скрипки – это значит инструмент распилили. А есть ещё четвертушка для юных дарований… Вы смотрели фильм «Репетиция оркестра»?» Она перебила: «Мы Тоня ещё с тобой встретимся. В следующий раз…» «Отметим знакомство?» – взрослой шуткой я её убила наповал. Зимой она меня не вызывала, а весной…
− Во время весеннего обострения?
− Вот верно. Весной разложила передо мной какие-то тупые шарики, цветные кубики и плоские выпиленные фигурки и начала просить сложить из них узор. «Какой узор?» «Что-нибудь красивое, − улыбнулась она.—Представь, что ты на поле, лето, шумит трава…» Я представила поле на даче и сложила. Психолог испугалась: «Что это чёрное такое?» «Столбы высоковольтной линии. Коршун в голубом небе парит. Высматривает добычу». Психолог, как твой отец, когда ему что-то не нравится, надела на себя каменную маску. «Вы, − сказала я ей, − как Фантомас. У вас то улыбка, то камень вместо лица». «Не вежливо, Тоня. А скажи: кто такой Фантомас?» Боже! Она ничего не знала. Мы с дедушкой обожали фильмы про Фантомаса. У нас на даче до сих пор диски лежат. «Это такой человек. Зло во плоти. Как и председатель». «Какой председатель? − психолог начала судорожно листать записную книжку. «Вы что: так и не посмотрели приключения принца Флоризеля?» «Флори – что?» И тут я разозлилась. Явно психолог включила дурочку. Равнодушная красивая молодая, меняющая маски. Мне стало жарко, запылало лицо. Что-то щёлкнуло, то ли в коленке, то ли в голове, и я увидела перед собой старуху: сгорбленную, скособоченную, скочевряженную, как в фильме про карлика-носа, но без носа. Она шамкала ртом и гладила распухшие в костяшках морщинистые пальцы, руки в венозных узлах. Она сидела передо мной на стуле и скалилась беззубой улыбкой. Я узнала стул…
Антоний рассмеялся…
− Тебе смешно?
− Да очень.
− Совсем тю-тю?
− Ну правда. Смешно.
− Когда я увидела тебя монахом, я также разозлилась. И это не смешно. Я начала издалека, чтобы ты всё понял.
− Что понял?
− Я точно знаю, кто из моего класса доживёт до старости, а кто нет. Хочешь, поспорим на что хочешь. Я тебе напишу список, а лет через тридцать проверим. Но меня надо разозлить.
− Тоня. Это несерьёзно.
− Это серьёзнее, чем ты думаешь Антоний. Я вижу людей в старости. Надеюсь, ты никому об этом не расскажешь. В честь моей любви.
Он обнял меня. Он не хотел знать, он оттягивал этот момент. Я отстранилась.
− Антоний! В сотый раз долдоню: я видела тебя монахом, худым, с бородёнкой, с такими вот скулами, − я ущипнула его за щёки – он испуганно вздрогнул.
− Тоня!
− Да. Я видела тебя монахом, с пером и рюмкой с краской. С современной ручкой-пером.
− Стол или конторка?
− Ты не веришь… − Я поняла: бесполезно предупреждать и убеждать, он сделает по-своему и кажется он стал меня опасаться. Я обняла его, взяла за руки: − Руки ледяные, Антон!
От тёплого августа не осталось и следа, от самого счастливого месяца в моей жизни; скоро, очень скоро я уеду от первой любви в осень. Он мёрз в своей рубашке, когда провожал меня.
− Обратно на скейте прокачусь, согреюсь.