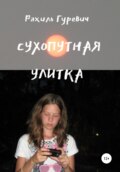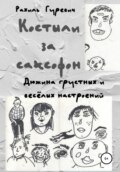Рахиль Гуревич
Тайный покупатель
− Хорошо, − сказал я. – Согласен.
− А почему не спросишь, как меня зовут?
− Извините.
− Так вот зовут меня обыкновенно − Николаем Георгиевичем. И Петровичев соответственно фамилия. А почему не спросишь условия?
− Сколько?
Он назвал сумму, вполне себе норм.
− На иномарке, пусть и простенькой, через год разъезжать будешь, а не на скейте.
− Привык я к скейту. Физика утром и после работы, как говорит один человек, физкультура не отходя от кассы.
− Один человек – это Староверов что ли?
− Д-даа, − я напрягся.
− Понятно. Говорят, бизнес у него прёт. Может, ты к нему обратишься насчёт работы?
− Зачем? – я старался не показать виду, что напуган и озадачен: тема скользкая. Всегда и все праздные разговоры о машинах заканчиваются для меня чем-нибудь неприятным.
− Ну всё-таки любимый ученик. Хотя…
− Что?
− Мне Савва сказал − ты в кафе к Староверову не пришёл, он первого сентября всех собирал у наших конкурентов, на прощальный вечер.
− Я не мог, я учился в Москве. – солгал я.
− Ну ради такого случая мог бы и пропустить день в институте.
− Да. Мог.
− Но не захотел.
− Не захотел, − согласился я.
− Почему?
Я не знал, что ответить и поэтому наврал:
− Я был влюблён.
− Это снимает все вопросы. Это я понимаю.
− Не знаете, чем Староверов занимается? – я подпустил дурачка.
− Какой-то штучной печатью молитвенников что ли. Но это между нами. Всё законно и так далее. Савва-то у меня коммерческий так сказать директор.
Я постеснялся спросить, где всё базируется.
− В принципе, у тебя филологическое образование, а там производство. Мне же, не скрою, нужен менеджер грамотный. Савва-то у меня коммерческий так сказать директор.
Ввернул в разговор о сыне. Как и все родители. Если что, какие финпроверки – претензии к сыну, а не папе, а Савва ещё в школе из любой мутной воды выплывал, если так можно выразиться, и на берег вылезал сухим и чистым, без водорослей и прилипших пиявок с головастиками проступков.
− Должность не простая. У нас, сам понимаешь, сцена, артисты, с клиентами должен контактировать.
− Я могу завтра приступить.
− Подожди. Выслушай.
− Но я могу сразу…
− Я понял, что ты не устал, не надо мне это повторять. У нас повисла соцсеть. А это нельзя прекращать, понимаешь?
− Я понимаю, но я этим не занимался.
− Но у тебя образование.
− Я не очень люблю соцсети.
− Почему?
− На работе от переписки в служебных группах уставал. Я лучше книгу почитаю или фильм посмотрю.
− Ну и отлично, − непонятно чему обрадовался он. – Вот и будешь нам строчить гениальные посты.
− Но как и о чём?
− Вот в том-то и дело. Ты должен посмотреть, как вела она. Я непросто так даю тебе месяц на раскачку.
− Хорошо.
− А я тебе скажу, как вела она. – Он выжидательно посмотрел на меня.
− Как?
− Она писала о себе.
− А о ресторане?
− О ресторане тоже. О себе в ресторане в основном. О наших мероприятиях и гостях, ну спрашивали разрешение, кто не против. Иногда писала какие-то зарисовки о погоде там со сравнениями типа под голубыми небесами, великолепными коврами или там – буря мглою небо кроет.
− Гениально! – я еле сдержал улыбку.
− Сможешь?
− Попробую, − обречённо сказал я.
− Ты можешь писать о том, о чём тебе интересно, фото тебе будет предоставлено с описанием.
− Описание зачем?
− Разные блюда. У нас же ресторан. Но ты не расстраивайся. Ты же ещё не смотрел наши страницы, без этого нельзя. Люди, знаешь, привыкают нас читать, уже завалили сообщениями: куда вы пропали. Ты почитай литературу, статьи по ресторанному бизнесу. Подумай об этом на досуге.
− Хорошо. − Я приуныл, нехотя записал явки и пароли от страниц, договорился о зарплате за рерайтерские дела.
− Но я, Николай Георгиевич, ничего не обещаю. Я попробую.
− Но ты же на олимпиаде по литературе писал и в институте своём?
− У меня область узкая, олимпиада была давно.
− Но мозги-то помнят? Пиши о фильмах, если не знаешь о чём. Это же всё равно о чём, главное позитив, понимаешь? Люди ждут от нас только хорошего настроения. Окей?
− Да, – я поживее стал отвечать, во время его тирады я свыкся с мыслью, рерайтерство перестало мне казаться таким уж напряжным. − Хорошее настроение – это по моей части.
− Ну вот. Ты ещё звездой станешь у нас. Будут люди приходить специально в твою смену.
− Постараюсь. Общение – это моё.
Он поднялся, показывая, что разговор окончен, протянул мне руку:
− Начинай пробовать сегодня же, звони, если что, − он протянул визитку, которую Филипчик принёс на подносе.
Перехватив мой изумлённый взгляд, он сказал:
− Это у нас фишка такая в ресторане, всё приносим на подносе, никогда в руках.
− Спасибо Николай Георгиевич, до свидания. − Я поднял скейт.
− Я тебя провожу чуть-чуть. Всё-таки, считаешь, можно будет ему лонгборд после того что произошло?
− Да конечно можно. Пусть носится, − я проклинал себя за то, что не слушал в начале. А ведь он долго мне рассказывал о своём разладе с младшим сыном.
− Ну хорошо, Антоний, ещё раз до свидания. Жду в любое время, мы спишемся, окей?
− Да. Обязательно. Спасибо вам Николай Георгиевич.
После такого обмена любезностями я катил домой и просто не знал что думать – работа и хорошая работа. Это известный престижный ресторан. И мужик, отец Саввы, приличный, но вот эти его «океи» не нравились, в таком ресторане нужна традиционная, немного старомодная, грамотная речь – аура такая у ресторана, стиль такой, классика с историей. Но это мелочи, мои придирки, думал я. И тут я снова вспомнил Староверова и подумал: вот он бы никогда не позволил себе такую речь, такую вульгарную современную речь. Впервые я подумал о Староверове без брезгливости и презрения. И подумал: а не податься ли и правда мне в его скрипторию, позвонить, посмотреть, что там и как. Дождусь маму, решил я, посоветуюсь с ней, пусть она тогда сообщит Староверову, что я просто хочу посмотреть, как там у них дела… только посмотреть, помириться. Пока же мне предстояло утро в соцсети, но это лучше, чем ничего, чем отдых и мысли о жизни и о себе. Вспоминая потом то утро я понимал, насколько удручённое у меня было состояние: только в неуверенном настроении и от одиночества я мог помыслить помириться со Строверовом. Одиночество – то чего я боялся больше всего, настигало, шло по пятам, наступало на пятки, маленьким крыловским шпицем кусало за щиколотки, за душу, за сердце. Я вспомнил, что не писал маме все эти дни, не хотелось портить ей отдых. Я остановился, быстро отписался и свернул с проспекта к дому.
Глава пятая. Банки с клубничным вареньем
По привычке я открыл холодильник, но тут же захлопнул. Во-первых, всё приготовленное мамой я схамкал, а во-вторых, вспомнил, что я обильно питался час назад на веранде. Но нервы пошаливали, я готов бал сожрать целого слона. Слон запечённый в крови агнцев очень вкусное блюдо, знатный хавчик и хватит надолго. Я постоял на кухне. Может кофе хряпнуть? Но кофе ассоциировался с Баскервилем, с предателем. Я считал, что он должен был меня поддержать, это было в его силах, но он слил меня ради имиджа, лица компании. Перелистнуть страницу и забыть, сколько можно ныть и мимикрировать, второй день ною и ною, ною и ною… Поэтому я сел в комп, активировался в соцсетях ресторана, стал просматривать: что там писала моя предшественница. Я думал: есть второй менеджер, почему Жорыч (я услышал, как повара так называли за глаза Николая Георгиевича) не доверил ему ведение соцсетей? Я не в теме, а тот менеджер в теме. Но после трёх часов чтения постов, я понял, в чём дело. Девушка реально была писучей, Жорыч не преувеличил: она писала не только о ресторане, но и проблемах, о реальных, а не гундёж. Люди, судя по комментам, были в восторге, потому что в лёгкой оригинальной где-то смелой истории они узнавали себя, свои проблемы. Пост всегда заканчивался описанием блюда – заготовку явно давал Жорыч, сам пост был выдержан в новеллистическом ключе, и там не было воды, всё было иронично и позитивно – ни капли пессимизма. Был и совершенно другой блок постов. Обычно это было профессиональное фуд-фото на фоне пейзажа или ещё чего-нибудь, даже панорамы города. Под фото значились несколько строчек в духе Тургенева с очень спорными метафорами приблизительно в таком стиле: пончиковое настроение и осенняя тоска (на фото тарелка с пончиком, падают листья), луч переливается в капле надежды (на фото крынка и пирожок с косичкой), тучи всегда правы (на фото бутыль вина литров на пять в плетёном кашпо). Записи были очень женскими, очень романтичными. Я понимал, что за каждыми этими двумя-тремя фразами стоит как минимум час творческих мук. Впрочем, в универе нам говори, что писателей озаряет, что происходят какие то вспышки. Не знаю, любой текст не связанный темой, не по заданию и не опирающийся на научную терминологию и анализ, давался мне тяжело. Я, увы, не поэт, а девушка была одарена. Она неординарная личность – это ясно. Все последние посты − с рекламой и с купонами на скидку, были и репортажные – их явно писала не она, если я хоть чуть-чуть разбираюсь в стилистике, эти посты не набирали и половины лайков. Скорее всего их писал второй менеджер и мне стало ясно, почему Жорыч поручил мне «ответственное задание». Она была привлекательна, эта менеджер. Не первой молодости, лет тридцати-тридцати пяти, она периодически выкладывала совместное с кем-то селфи, в основном с воротилами нашего города. После шестичасового изучения статистики, страниц комментирующих и прочей ерунды, которая мне была очень важна для структурирования и анализа, я сделал выводы и понял, что не смогу ничего написать даже близко в этом ключе: ни про злые тучки, ни про настырное солнце в зените, ни про смывающий сомнения дождь, ни про одноглазые лица машин, ни про знакомый запах хвои…
Я почувствовал, что чувствую себя неважно и просто рухнул в постель. Ноги гудели, накатался называется. Утром я проснулся от вибрации – звонила мама.
− Ты почему не отвечаешь? Я тебе писала, писала.
− Ой, мам, извини, заработался, вечером пиво, извини.
− Ты там не загуляй! – серьёзно сказала мама.
− Мам! Ну что ты!
− Впрочем можешь загулять, но не с пивом, а с девушкой, − рассмеялась мама. – А то как бирюк.
− Ну мама!
− Ну всё, всё, шучу, Антошка. Всё значит норм?
− Норм.
− Пиши, чтобы я деньги на роуминг не тратила.
− Да я тебе переведу сейчас.
− Нет, нет. Я купила местную карту. Не видишь что ли?
Я реально даже не посмотрел, кто звонит. Мама такая довольная… Стоп! Я же писал ей вчера. Я полез в отправленные сообщения и понял, что мама не прочитала его. К чему бы это? Что с ней? Ноги подкашивались до сих пор (и болели). Я заварил себе чай – на кофе по-прежнему смотреть не мог, теперь кофе напоминал мне о торговом центре. Всё. С кофе я по ходу завязал, посмотрим − наркотик ли, говорят, что вырабатывается зависимость. После чая я доскрёб банку варенья. У нас дома вечно голод. Мама на работе, я на работе, мы рады любому вкусному хавчику. С надеждой я уставился в пустую холодильную камеру. В морозилке лежали замороженные шкурки от грудинки и пельмени. В холодильнике − барсучий жир от зимних кашлей и бронхитов, полбутылки прокисшего молока и что-то помидорное для борща тоже в банках. Эти банки были просто праздником. Второй год, или даже третий, мама приносила эти банки, называя их «осенние запасы», а рекомендации коллеги по обж, аккуратистки, болезненно осторожной, помешанной на здоровой пище и зоже – лучше любой рекламы. Её коллега, преподававшая обж, жила в пригороде, в коттедже, и покупала там эти банки, кто-то ей там продавал или дарил. Работая в продажах, я сделал вывод: клиента не обмануть больше чем на два сезона. Пелена от рекламы спадает именно за такое время, но это в технике. Я любовался бумажными крафт-этикетками, приклеенными к банкам. Каждая этикетка написана вручную! Мама обожала не только варенье, но и эти наклейки-ретро. Шрифты строгие чертёжные, а под надписью небольшие виньетки – гроздья смородины, клубничка, листик – нарисовано размашисто и уверенно.
− Шрифты и картинки рисует один и тот же человек, – замечала мама. − И смотри, какой прогресс, какая трансформация самих шрифтов. Сначала этикетки прямоугольные, теперь овальные, сначала пишутся маркером обыкновенным, потом толстым, широкой его стороной, а теперь линером ноль-восемь. Ох, эти современные ручки моя слабость, особенно одноразовые перьевые, не надо заправлять, выкинул и всё!
Когда мыли банки, этикетка разваливалась под водой, растекалась, превращалась в комочек, от букв не оставалось ничего, но оставалось воспоминание.
− Там какая то пенсионерка варит варенье. – говорила мама. – Замечай, Антон, что значит старая закалка, старое классическое образование.
− Мама. У меня не хуже.
Хоть я и не любил чертёжные шрифты, но архитектурный, а он присутствовал в банках прошлого лета, вполне сносный.
− Не перестаю удивляться совершенству этой женщины, язык не поворачивается назвать её бабулей. Это чертёжник, Антоний, а может и художник.
− Раньше, − сказал я, − рисунки были так себе.
− Но талантливый человек развился…
− Это на пенсии-то? Не смеши.
− Почему?
− Старый человек не может развиться.
− Да почему же?
− Он угосает, мама. Разве нет?
Холодильник напомнил противным писком, чтобы я закрыл дверь. Дурная техника: стиралка пикает, микроволновка, гриль, пароварка, теперь ещё холодильник. Я вынул банку с заправкой для щей – так гласила надпись. Я изучал тонкий шрифт классический чертёжный. Да. Несомненный талант, приходится это признать. Учащиеся маминого колледжа – руки-крюки, курицы без лап, мама их называла ампутанты, будто карандаш щупальцем держат… Да что тут говорить. Ручное черчение умирает в век технологий.
− Обрати внимание − шрифт точен невероятно, я проверяла, да и без проверки видно. А ведь всё на глаз, наклон, ширина, межбуквенный интервал… Всё идеально, ну или близко к этому… Принтер появится, бросят писать. – с сожалением
− Им принтер не нужен, у них нет таких объёмов как у Староверова, – вырвалось у меня.
Мама посмотрела испуганно и мы больше не продолжали разговор о шрифтах, мы его стали избегать.
Я сел за ненавистный компьютер – пока чаёвничал, завтракал меня осенила идея: найти по тэгу с этикетки этих фермеров-чертёжников. Я настучал тэг, когда-то умел печатать вслепую, правда с опечатками… теперь пальцы находили нужные буквы, но цифры и значки − мимо. Ничего, успокоил я себя, это не деградация, это дело тренировки, не мог же я признаться себе, что в свои двадцать четыре деградирую, я считал, что ещё и жить-то не особо начинал, всё учёба, а потом работа… Я стал рассматривать посты, выпавшие по тэгу: цветочки, луга и банки мёда – август праздновал плодородие и находился в зените цветущих флоксов и толстозадых кабачков, а вот и банка варенья со знакомой мне крафт-этикеткой. Шок! Рука держит банку. Знакомый мне до боли коричневый костюм с тремя полосками, ещё не выцветший или зафотошопленный. Угу, фото старое, но выложено три дня назад. Вот она это девчонка. Как всё элементарно. Она живёт в посёлке, она поселковая, она торгует этими банками. И тогда, когда я сидел на лавке, она передавала бритому покупателю банки. Он осторожно нёс пакеты, там было что-то стеклянное. Я разрегился со страницы ресторана, зашёл на страницу девчонки со своего аккаунта, подписался на неё. Почти все фото были с фотографиями банок на фоне сада или в антураже деревянного минимализма, древесины, срубов, пней – на фоне вагонки в тёмных сучках. Вообще фото были сделаны в ретро-стиле, как и этикетки. На одном фото − целая стопка этикеток, а банки на заднем фоне. На другом − банка на фоне какой-то чёрной полуразвалившейся избы или сараюшки – диафрагма была открыта, что поразило меня. Неужели она снимает на зеркалку, эта поношенная в смысле одежды несчастная девочка, вынужденная работать тайником. Когда она смотрела на меня, я успел поймать в её взгляде удивление, ошарашенность и − испуг, ненависти не было. А вот я её ненавидел, когда требовал деньги за возврат треклятого телефона – потому что у меня было плохое настроение, и я был зол на весь мир, а она попалась под руку. Я был зол на весь мир, а она попалась под руку, навсегда запомнил, как она шла с тем покупателем, в сумках-то были банки! Я изучил каждую фотографию, я лайкнул каждую запись, я читал короткие подписи, я изучил каждый тэг. На двух фото я даже рассмотрел тени людей на заднем плане – снималось на ярком солнце в полдень, тени были короткие… Я листал фото в карусели, в надежде увидеть её. Но нет. Ни на одном фото не было её лица, её фигуры, только рука, и то редко, когда фото снималось наспех. Ещё её имя. Тоня, студентка. Так и было написано в шапке, и её номер.
Время было за полночь, когда я вышел прокатиться на скейте до круглосуточного магаза по ночному непривычно душному Мирошеву. Непривычно душному − как бы не так. Это у меня схватывало дыхание, лёгкие отекли как при пневмонии, я умирал без кислорода от радости, от счастья. Я буду не я, если не познакомлюсь с этой Антониной и не возвращу ей телефон. Интересно, − внезапно врезалась мысль, − может та девчонка не Антонина. Может, просто костюм такой же. Два страшных спортивных костюма в одной местности – вполне вероятно. Надо созвониться, решил я, а не списываться. Вдруг реально старушка пожалует, вдруг она прячется под подписью «Тоня, студентка». Сейчас время когда всё решает молодость и красота продавца. Но ни одного фото продавца нет! Бабушки, увы, не бывают красивыми. Я смотрю на свою бабушку, сравниваю с портретом полувековой давности и поражаюсь точностью классика: если бы нам показали портрет спустя лет этак тридцать, то челик ни за что не признал себя, а если бы признал, ему сразу стало нехорошо, вплоть до обморочного состояния…
Своих можно встретить, когда нет многолюдья, когда все не свои улетучиваются − ночью. Как правило это происходит зимой или ночью. Но иногда встречаешь знакомцев и в толкучке. Мда… теория вероятности в действии. Ну и естественно в магазе я столкнулся с Дэном. Своих можно встретить, когда нет многолюдья, когда все не свои улетучиваются. В кассе что-то заклинило, карточки не принимали. Я знал, зачем это делается. Магазину срочно понадобилась наличка. Например, оплатить услуги тех же тайников. У тайника такса пятьсот – я об этом прочитал сегодня в интернете, я вообще много инфы нарыл после того, как мне пришлось уйти с работы – продавец обязан оплатить штраф в семь тысяч, если он что-то нарушил, продавца приглашают в мировой суд и там выписывают штраф. Тайник получает гонорар от проверяющей организации, но его может подкупить и пострадавшая сторона, заткнуть ему рот.
− Что там у тебя? − спросил Дан.
− Рыбка, − ответил я.
− Рыбка это хорошо. Это фософор, – подмигнул он и оплатил мою покупку. У Дэна конечно же наличка. После облавы за домом быта, наверное, следят налоговики.
− Для мозга, Дэнище.
На улице блестела после машина Дана.
− Ну садись. Помчались.
Я был счастлив, ноги снова гудели, я был без сил, а теперь ещё и жутко голодный.
− Ну как ты?
− Да никак, Данёк.
− Не понял, − Дан притормозил, ткнул хищно палец в пластиковую упаковку, сорвал с банки кольцо, глотнул пивасика.
− Ушли с работы, Данёк.
− А я-то удивлён: с какого по ночам гулять. Из-за тайников? − Дан резко затормозил, двое пьянчуг переходили дорогу.
− Как у себя дома, − взбесился Дан.
– Дан! Вот они!
− Да кто?
− Челики в контрольной закупке были! – я узнал мужичков, одного покрепче, другого худого, с сальными волосами.
Нам сигналили.
− Ой ты, в две дуды, − выругался Дан и газанул. − Два тухлых муравья.
Дан часто называл всех и всё муравьями и муравейником. Мы ездили в летний лагерь: Дан питал страсть к муравейникам, он их ел, муравьёв этих, то есть таких наших чёрных крупных мирошевских муравьёв, а не тех, которые мелкие и рыжие в кочках на полях живут и кусаются больно.
− Приколись: два тухлых муравья, в драных куртках и совершенно новых джинсах. Певческого бери, − так Дан называл пиво. Я поблагодарил и угостился.
− Знаешь, странно.
− Что странно?
− Ну вот ты Червяков, а не кумаришь по червям. Я − Муравьёв, и мне это жить спокойно не даёт. Почему так?
− Среди людей больше муравьёв?
− Нет, Тох. Одни черви. Люди-черви. Вот ты и не любишь фамилию свою. По жизни все Червяковы. Ты бы видел, как они ко мне в подвал вползают по лестнице.
− Тебе Данёк голову лечить надо.
− Бесишься, что я муравей, а ты червь, цепень. А муравьи – трудяги.
− Я книжный червь!
− Книжный червь – разновидность червя обыкновенного. В аспирантуру не взяли, теперь с работы погнали – вниз по наклонной, а? Чем выше, тем больнее, ну ты понял.
Мы заехали во двор. Дан выругался, проклиная всех жильцов вместе и некоторых персонально-поимённо − кто занял его место.
− Не надо вспоминать Дан. Забыли. – ответил я. Такое впечатление, что он хочет попасть в самое больное, но он только себя этим выдаёт, свою зависть. Мне даже в голову не пришло, что Дан ведёт выпытывательную деятельность, он вынуждал меня расколоться, надеялся, что я обижусь и скажу, что уже нашёл хорошую работу, и не в подвале как у него.
− Все к тебе шли, если что-то купить и так далее. Ты классно плёнку клеишь, а торгуешь – тут Дан снова выругался, указав на то, что мы торгуем не самым лучшим товаром. – Я, вот, сам себе начальник…
Дан утомлял, но и домой идти не очень-то хотелось. Я до сих пор опасался ночью быть в квартире один… мне всё время мерещился почему то Староверов и его лицемерные ужимки, и лицо-противогаз.
− Что молчишь? Думаешь у нас всё отл? Нас вообще полицаи накрыли, конфисковали все запчасти, но батя откупился, снова поднялись. Мама, увы, не пережила. Из дома в дом быта до сих отказывается выходить. Стресс у неё. Женщины более восприимчивы…
− Дом быта – в подвале, это уже не дом, это подвал быта получается.
− У всех бывают кризисы, на всех стучат. Интриги, брат. В армии не служил, не с чем сравнить.
− Дан, не надо о грустном. Я в запасе, но могут ещё и призвать.
− Если начальство в военкомате поменяется, призовут, − и Дан загадочно посмотрел на меня. − Что-то рыбой несёт.
− Таят рыбёшки.
− Нет желания певческого ещё со мной?
− Дан извини, так спать хочется, прости Дан. Давай в другой раз.
− Ок. Когда?
− Звони, Дан. Когда не занят, сразу звони. Спасибо, что подвёз.
− Скейтборд забыл, Тоха!
Я вернулся за скейтом, ещё раз поблагодарил за то, что подвёз − у нас в Мирошеве – ночная жизнь, и могут прирезать наркоши…
Странно, что Дан так в друзья набивается, и как он собирается завтра работать, если всю ночь готов было пиво со мной пить. Об этом я рассуждал, жаря на сковородке филе камбалы, совсем почему-то на камбалу непохожее. Впрочем, я в рыбьем филе неважно разбираюсь, я только посуду грамотно умею мыть, с детства так повелось.