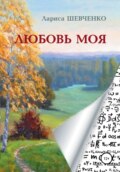Лариса Яковлевна Шевченко
Надежда
Мы сидели на качалке, окруженной зарослями желтой акации, и молчали. За кустами шуршали шины машин вперемешку с дробным цокотом кованых копыт лошадей. Переругивались из-за бельевых веревок соседки. Но все это было вне нас, в другом, взрослом мире…
Вечером записала в дневнике:1. Витек, у меня появились настоящие друзья – Валя и Володя. Я представляю себе, что они и твои друзья. 2. Сегодня дядя Гоша рассказал про Александра Матросова. Он, оказывается наш, детдомовский. У него была одна мама – Родина. И он отдал за нее жизнь.
НЕЗНАКОМКА
День остывал малиновым закатом.
Я задумчиво брожу по задворкам нашей улицы. Гляжу на горы строительного мусора, спотыкаюсь о куски старой мебели – ищу удобное место для уединения. Здесь нет суеты, которая в сотне метров отсюда превращает жизнь многих людей в набор из кубиков. Кому, какие достанутся, такая и жизнь будет… На кубиках написано: «Беги туда, делай то, купи это…» И вдруг они рассыпаются. Чем их скрепляют? Дед Панько говорил, что человеческий мир существует, пока есть любовь. Без нее он погибнет…
Внезапно яркая вспышка заставила меня вздрогнуть. Луч света попал на обломок никелированной спинки кровати, потом, медленно угасая, заскользил по ржавой панцирной сетке и исчез вовсе. Подняла голову. Небо у горизонта испещрено темными, почти черными, красно-оранжевыми и малиновыми мазками. Солнце протискивается между цветными слоями облаков, расцвечивая выше лежащее темно-голубое небо веером тонких лучей. Оно на мгновение набрасывает редкую золотистую вуаль на тускнеющий вечерний небосклон и пропадает. Я остановилась, ожидая очередную россыпь солнечных брызг. И тут увидела девочку. Она сидела в нескольких шагах от меня на поломанном кухонном столе, застеленном газетой. Худенькая, изящная, даже грациозная. Светлые волосы туго заплетены в косы. Полные яркие губы. «Наверное, ее тоже дразнят «губатая», – мелькнуло в голове.
Большие глаза девочки грустные, точнее сказать, печальные, мечтательные. В эту минуту выражение ее лица было таким, будто она думала о мировых проблемах. Я не решалась приблизиться. Вдруг подо мной затрещала полусгнившая доска. Девочка вздрогнула, но взгляд ее оставался туманным, рассеянным. Я подошла и спросила:
– Ты тоже любишь гулять одна?
Она молчала, как бы раздумывая, отвечать мне или нет.
– Я не хотела тебе мешать, – сказала я осторожно.
– А зачем подошла?
– Потянуло. Ты не любишь разговаривать?
– Не то настроение.
– Понимаю.
– Сомневаюсь. Ты знаешь, что такое одиночество?
– Знаю. Я детдомовская.
– Прости.
– Ничего. Ты, тоже?
– Нет. Просто сегодня мне очень грустно. Я впервые поняла, что человек по своей сути очень одинок.
Ее голос в вечерней тишине звучал особенно трагично.
– Человек одинок, когда ему плохо. Если ему хорошо, он не думает про это, – попыталась я разуверить незнакомку. – Я первый раз почувствовала, что такое одиночество, когда один раз зимним вечером всех детей завели в корпус, а я почему-то осталась во дворе одна. Было холодно, ветрено, темно. Мне стало вдруг бесконечно одиноко в этом огромном, неведомом мире. Я поняла, что никому, никому на земле не нужна! А страх появился позже, когда, кое-как взобравшись на высокое крыльцо, стала стучать в дверь, а ее долго не открывали. Мне тогда три года было. А что случилось с тобой сегодня?
– С четырех лет я дружу с девочками, которые живут в деревне на одной улице с моей бабушкой. Мы играем в нашем саду в дочки-матери. Я приношу из дома посуду, куколи разные тряпочки. А сегодня утром слепой дождь прогнал нас из сада. Все разбежались, бросив игрушки на траве. Когда немного подсохло, мы пошли играть на баллоне от колеса грузовика: на одну его сторону садилась одна девочка, а на другую одновременно прыгали трое. При этом та, одна девочка, взлетала вверх. Подошла моя очередь «летать». Но мое падение закончилось неудачно. Что-то случилось с моей рукой.
– И они тебя бросили? – вырвалось у меня.
– Да нет. Сначала подружки подошли ко мне, но тут же быстро убежали. А я ушла в сад собирать игрушки. Мне пришлось несколько раз ходить из сада в дом. Я не только в руке носила игрушки. Кое-что брала даже в зубы. Наверное, я смешно выглядела с куклой в зубах?
– Нет, – уверенно и грустно ответила я.
– Я знаю, что дети редко думают о других. Но именно сегодня мне пришло в голову, что человек со своими бедами никому не нужен. Каждый думает только о себе, – закончила девочка печально.
– Не надо так говорить! Хороших людей много. Ты очень похожа на меня. Бабушка Мавра один раз сказала мне: «Тяжело тебе будет с таким добрым сердцем. Всю жизнь раненая будешь ходить».
– У тебя есть бабушка?
– Не родная. Но дороже ее тогда никого не было. А теперь у меня есть дед Яша.
Потом мы долго сидели молча. Наши взгляды были устремлены на ярко-красный шар, медленно сползающий в малиновую топь.
ПРАЗДНИК
Сегодня на нашей улице впервые открывается двухэтажный ЦУМ. Со всего города съехались люди и нетерпеливо толпились у входа. Громко играла музыка. Было солнечно, шумно, празднично.
Прозвенел звонок. Толпа хлынула в широко распахнутые двери. Мы с Валей подождали немного, а когда поток людей уменьшился, тоже вошли. Денег, конечно, у нас не было. Поглазеть захотелось. Девушки-продавцы очень вежливые. Один дядя заторопился порадовать дочку удачной обновой и не стал ждать, пока завернут и обвяжут шпагатом покупку. Но кассир окликнула его и объяснила, что на выходе может остановить милиционер. Неупакованный товар вызывает подозрение. Мужчина сразу вернулся к прилавку.
Вдруг за стеклом оконной витрины со стороны улицы я увидела Витю с нашего двора. Прижавшись лбом к стеклу, он плакал и не сводил глаз с огромного резинового надувного зайца. Смотрел так, будто в этот момент не надо ему было в жизни ничего, кроме этой игрушки. Голоса я не слышала, только видела, как сотрясались тощенькие плечи. Слезы текли по грязному лицу, капали с кончика курносого носа, с подбородка. Он вытирал их подолом мятой рубашки и, захлебываясь рыданиями, раскрытым ртом хватал воздух.
У меня полились слезы. Валя, ничего не заметив, потащила меня в другой отдел магазина. Я не сопротивлялась.
ГЕНЕРАЛ
Серое утро. Серые толпы народа у школы номер шесть. Тихо переговариваются женщины у гроба, раздавая указания. Зазвучал духовой оркестр. Печальная музыка вызвала у меня слезы. Почему я плачу? Я же не любила Виктора Николаевича. Он был плохим отцом, плохим учителем. И все же, был человек, – и нет его. Жалко.
Незаметно для себя опять оказалась у гроба. Лариса, старшая дочь (моя подруга), отрешенно брела, понурив голову, цепляясь ободранными ботинками за каждый выступ дороги. Ее брат Юра вел маму под руку. Он старался выглядеть взрослым мужчиной, маминой опорой. Как-никак – десять лет. Пятилетний Коленька висел на другой руке матери и прятал голову в ее широкой юбке. Их мама не плакала. Ее худенькое личико сделалось еще меньше. Глаза белесые, неподвижные. Она всегда ходила боком. Ноги ставила неуверенно, будто примерялась, чтобы не оступиться на острых камнях. Сегодня она шла, подняв голову поверх идущих впереди людей, смотрела вдаль с неопределенным, ничего не значащим выражением лица и, казалось, ни о чем не думала, никого не замечала, ни о чем не жалела. За семьей семенили старенькие женщины, одетые во все черное. Они тихо бормотали и крестились. На небольшом расстоянии от них двигалась основная масса людей.
Мое внимание привлек огромного роста мужчина в красивой серой шинели с золотыми погонами и высокой серой каракулевой шапке. Его лицо, с крупными резкими чертами, было деловым, спокойно-величавым, будто он находился не на похоронах, а на собрании.
– Кто это? – шепотом спросила я.
– Отец Катерины, генерал, – так же тихо ответила идущая рядом со мной женщина.
Я подошла ближе. Генерал говорил рокочущим, с перекатами басом, а женщины слушали: кто с любопытством, кто с подобострастием, заглядывая ему в рот. Сначала он ругал Виктора Николаевича, перемежая критику словами: «Конечно, нехорошо об усопшем говорить плохо». Потом взялся за дочь. Он с пафосом рассказывал о том, как она в восемнадцать лет пришла к нему со слезами и покаялась, что полюбила, а потом поняла, что он плохой человек и теперь не хочет выходить замуж, хотя беременна.
– Она на коленях умоляла меня помочь ей воспитать будущего ребенка, – возвысив голос, продолжал генерал. – Но я ей сказал: «Под забором заимела ребенка, под забором и расти его! Ты опозорила меня и мою семью! Как я своим коллегам в глаза буду смотреть? Что обо мне скажут, если каждый день будут видеть внебрачного ребенка? Иди к отцу ребенка. И выгнал. За поступки надо отвечать! Я проклял ее».
От этих слов в моей голове, будто что-то отключилось или включилось. Кровь прилила к лицу. В висках застучало. Расталкивая женщин, я подскочила к генералу и закричала:
– Вы бросили родную дочку в самую трудную минуту! Она обратилась за помощью, к единственному, любимому, а вы прогнали ее! Вы – богатый, а ваши внуки, как я слышала, голодные убегали босиком по снегу к соседям, когда отец пьяным приходил домой. Вы в сто раз хуже Виктора Николаевича! Вы хуже зверя!
Меня трясло. Я не говорила, а выкрикивала отдельные слова. Генерал опомнился и заорал зычным голосом:
– Убрать эту дрянь! Чье это?
– Не кричите на меня. Вы плохой… ненавижу вас…
Я уже не могла говорить. Две женщины вытащили меня из толпы и положили возле какого-то дома на лавочку. Одна из них гладила меня по спине и бормотала:
– Доброе сердечко, всех-то тебе жалко.
Под ее шуршащий голос я тяжело задремала и уже не чувствовала, как во сне рыдания встряхивали мое тело.
НА ОБЪЕКТАХ
Сегодня дед взял меня с собой на проверку пищевых объектов. Идем к трамвайной остановке. Впереди нас – парень в потертой фуфайке и лаптях.
– Смотри! – восхитился дед. – В лаптях, а в руках ведет новый, видно только из магазина, велосипед! Запомни мои слова: «Пройдет немного времени, и наш мужик в кирзовых сапогах сядет за руль собственного автомобиля!»
Сначала мы приехали на рынок. Наметанный глаз деда сразу замечал все недостатки.
– Почему сток воды засорен? – распекал он шустрого толстяка с железной бляшкой на левом кармане серого халата. – Ты хочешь, чтобы горожане и наши кормильцы из сел по отходам ходили? Посмотри, любезный, куда хозяйке сумку ставить? В лужу? Завтра проверю исполнение. Смотри у меня!
– Где мясо должно лежать? За лотком некого послать? – упрекал дед продавщицу.
– Да я же газетку постелила, – оправдывалась краснощекая, бойкая женщина.
– Ты мне улыбки не дари, красавица. Еще раз увижу несоблюдение правил, штрафовать не стану, с рынка выгоню, раз добрых слов не понимаешь.
Хозяйка засуетилась, кликнула мальчишку моего возраста. Тот, в кирзовых сапогах, в старом, длинном, по щиколотку пиджаке, в дырявом картузе, вмиг подскочил к матери и тут же прожогом (быстро, напрямик) помчался к раздаточной инвентаря.
– Где ветошь для рук, где марля на тушке? Руки о фартук не вытирай! Деньги не клади на весы, там же мясо сырое лежало! Не слюни пальцы, хозяюшка, когда деньги считаешь, – начиная сердиться, выговаривал мой дед торговке.
– Теперь понимаешь, почему тебя не пускаю на улицу в не глаженом платье и с грязными руками? С детства привычка к аккуратности прививается. Каждый день делаю замечания, но только угрозы заставляют продавцов подчиняться, – со вздохом сказал мне дед.
Медленно идем по рядам. Отовсюду слышу:
– Здравствуйте, Яков Иванович, доброго вам здоровья!
– Папа, вы их ругаете, а они с вами приветливы. Почему?
– Я же за дело ругаю, власти не превышаю и взяток не беру.
– Продуктами, что ли?
– Ни деньгами, ни продуктами. Поэтому сплю спокойно и уважение от людей имею, – объяснил мне дед.
Потом мы отправились по винным магазинам-подвальчикам. Везде нас встречали толстые, очень уж приветливые дяди. Я чувствовала неприятную нарочитость их слов и краснела. Они улыбались, говорили нам комплименты и наливали вино. Я понимала, что для проверки качества продукта достаточно одного глотка. Но каждый продавец наливал из бочки через шланг целую кружку. У первого продавца дед попросил рюмку и отлил немного вина. Понюхал, отпил, подержал чуть-чуть во рту, а потом сказав: «Вот это букет!», расписался в тетради. Но чем больше подвальчиков мы обходили, тем он становился менее строгим и уже не ругал за грязный передник и плохо вымытые стаканы, а просто пил вино и расписывался. Мне было стыдно. Я слушала бессовестную лесть и ложь, видела хитрые наглые ухмылки продавцов, спокойное каменное равнодушие зрителей и из приличия деланно натянуто улыбалась, а потом пряталась за спину деда, дергала за край его пиджака и шептала на ухо:
– Не пейте, пожалуйста, они вас обманывают, нарочно спаивают.
На мои мольбы и уговоры дед не обращал внимания и только весело бестолково отмахивался.
Продавцы начали и мне предлагать вина. Я понимала, что это неприлично, и сдержанно отказывалась. А сама думала: «Ему наливают из-за подписи, а мне зачем?»
В одном погребке еле стоящий на ногах дед тоже принялся упрашивать меня выпить, чтобы не обидеть хозяина. Я опешила, изумленно и растеряно оглядела его и почему-то согласилась к всеобщему восторгу мужчин, собравшихся вокруг бочек. Тут за спиной я услышала обидные, насмешки в наш адрес и слетела с тормозов. Вино на меня возымело действие, противоположное дедову благодушию. Я разозлилась и в яростном негодовании закричала, что они не любят моего папу и непорядочно ведут себя по отношению ко мне. Слезы брызнули из глаз, голос сорвался на визг. Я размахивала руками, топала ногами. Потом заявила, что не позволю больше издеваться над нами, и потащила деда домой. Он бормотал что-то несуразное, успокоительное, оправдательное, но, к моему удивлению, качаясь и спотыкаясь, все-таки пошел за мною на трамвай.
Дома дед свалился на мой диван и мгновенно заснул. А я еще долго сердито ворочалась и вздыхала.
ВОСПОМИНАНИЯ ДЕДА
Я заметила, что дед Яша с какой-то детской, восторженной радостью встречал любые мои познания в области медицины. «Может, пойдешь по моим стопам?» – спрашивал он, улыбаясь. Желая порадовать деда, я читала его книжки, пытаясь разобраться в сложной врачебной терминологии. А он в награду рассказывал мне истории из своей докторской практики.
– Вот, послушай, – говорил он мне как-то раз, – до войны это было. Бывало, дают мне лошадку, я беру свою сумку, по которой доктора узнавала вся округа, ну, ту, в которой ты теперь хранишь своих тряпичных кукол, и отправляюсь делать обход от дома к дому, от улицы к улице. Насмотрюсь, бывало, на серость людскую: и погрущу, и посмеюсь вволю. Жалко малограмотных людей! Учись дочка, чтобы себя уважала, и для других не посмешищем, а помощницей была.
Так вот, еду по селу. Слышу крики. Женщина к Богу взывает, а мужчина мат ей шлет, и потерпеть просит. Вбегаю в хату. Руки и ноги хозяйки привязаны к спинкам кровати. Муж на коленях умоляет жену провести лечение до конца. Сдергиваю с нее одеяло и в ужасе обнаруживаю под ним красную, в волдырях спину. Возмущаюсь: «Как я учил горчичники ставить?! Ты что, на супругу ведро свежей горчицы вылил? Хорошо, что сердце у нее здоровое. Сколько минут велел горчичник держать? Десять. А ты сколько?» «С полчаса, наверное. Как лучше хотел, чтобы скорее хворь вышла. Уж месяц кашляет. Какая польза от больной хозяйки в доме?» – оправдывается муж. «А если бы загнал до смерти? Детей сиротами оставил бы. Кто был бы виноват?» – корю я его. «Простите, ради Христа, доктор, – отвечает, – оплошал».
А одному старику выписал лекарство для глаз по тридцать копеек за флакон, так он обиделся: «Не хотите, – говорит, – доктор, меня лечить. Не уважаете. Давайте дорогого лекарства, а то пожалуюсь». Выписал я ему витаминов разных, чтобы успокоился. Он же здоров был, как медведь.
В другую хату захожу, а там вся родня собралась и смотрит, как топчет ногами спину сына родной отец. Бедный парень благим матом орет от боли. Спину он сорвал, когда лес на хату заготавливал. Я массаж прописал. Ну, так им же надо, чтобы больной на другой день скакал, а в лечении терпенье нужно, схема определенная. Еле отвоевал беднягу и в больницу отправил.
А с женщинами труднее всего. Некогда им лечиться. Детишки у них, домашние дела. Так они друг у друга «обучаются». Лежит одна в хате, скорчилась, но помалкивает. Приказал раздеться. Не хочет. Стесняется. Понимаю. Успокаиваю: «Для докторов все люди на одно лицо, мы только болячки видим». Задираю подол. А она утюг нагрела и приложила на больное место. Я ее живо на телегу, и в больницу. Операцию сделал. Жива осталась…
Тяжко умирают от заражения крови. На моем веку таких три случая было. Привозили поздно, когда уже судороги начинались. Особенно жалко мальчонку. С дерева спрыгнул на сучок… и Господь прибрал. До сих пор, как вспомню, душа болит о нем.
Бандитов в войну перевозил. Так этим хоть бы что! Передерутся с поножовщиной, потом берут иголку с обычной ниткой и зашивают друг друга без наркоза, без водки то есть. А кто и сам себя штопает. И ни одна зараза их не брала! Один на спор с моей шинели пуговицы срезал и при мне тут же себе на голую грудь пришил. Мне жутко, мороз дерет по коже, а они хохочут. Страху натерпелся с ними, хотя они с большим уважением относились ко мне и к моей профессии. Ни разу не тронули. Двадцать пять лет меж них работать пришлось. Они, конечно, тоже люди, хоть и пропащие. И у каждого своя судьба. С одним подружился очень. Душевный был человек. Жену из ревности убил, а потом всю жизнь страдал, винился. Молодой был, глупый. Потом философом стал, понял, что права не имел на чужую жизнь покушаться. Руки золотые, голова удивительно умная! А вот один раз черт попутал, и вся жизнь кувырком пошла. Вот этот дубовый шкаф он мне на память о нашей дружбе сделал. Три года доски по специальному рецепту готовил, и резьба – его рук дело. Да… всякое в жизни повидал за пятьдесят лет работы, – бормотал дед, засыпая.
А я еще долго сидела у его кровати и почему-то вспоминала бабушку Дуню и дедушку Панько.
ДРУГ ДЕДА
Около рынка много киосков. Один из них пестрит открытками.
– Папа, купите одну, пожалуйста, – попросила я.
Дед быстрым взглядом окинул витрину и подал ту, на которой, взявшись за руки, на фоне числа «300», написанного крупными красными цифрами, кружком стояли красивые девушки.
– Зачем здесь написано «300»? – спрашиваю.
– Триста лет нашей дружбе с украинским народом, – отвечает дед.
– А почему девушки в разных платьях?
– Их шестнадцать – по числу республик. Этот памятник – символ единения разных народов нашей страны.
– И мы со всеми дружим?
– Конечно, – улыбнулся дед.
Я сразу представила себе лесной детдом, где все дети жили дружно. «Хорошая у нас страна», – порадовалась я, прижимая открытку к груди.
Около другого киоска к деду подошла очень красивая, но беспокойная женщина. У нее тонкие высокие брови, крупные карие глаза. Но сетка мелких морщин на лице и дряблая кожа шеи выдавали ее возраст. Размахивая руками, женщина начала громко и бессвязно о чем-то рассказывать деду. Потом стала плакать и смеяться одновременно. Мне сделалось не по себе. Даже холодок пробежал между лопаток. Я испуганно спряталась за деда. А он тихим голосом успокаивал женщину и осторожно гладил по длинным взлохмаченным светлым волосам. Тут подошла согнутая старушка и увела с собой странную женщину.
Дед был расстроен встречей. Он молчал и только изредка рассеянно кивал приветствовавшим его людям.
– Папа, отчего тетя такая? – осторожно спросила я.
– Весной муж вернулся из заключения, а через два месяца умер. Она умом и тронулась. Пятнадцать лет ждала.
– Зачем ждала? Раз он был в тюрьме, – значит плохой.
Дед тихо заговорил:
– Дружили мы семьями. Георгий был главврачом в нашей больнице. В тот год пригласил нас его заместитель вместе отметить Новый год. Первый тост был, естественно, за Сталина. А мой друг извинился: «Дорогие друзья, язва у меня открылась, не смогу сегодня с вами бокалом звенеть. Курс лечения закончу, тогда и «вздрогнем». А вскоре заместитель сел в кресло начальника, а мой друг – на пятнадцать лет с конфискацией.
– Что же она теперь, а не тогда мозгами…
– Обещала ждать. Все вынесла. Дождалась… Сначала в счастье не поверила… А когда умер, – сломалась…
– И где теперь …тот?
– На войне пулю спиной поймал.
– А вы не боялись?
– Кого?
– Сталина.
Дед ушел от ответа и только хмуро сказал:
– Он за всех прихлебателей не в ответе.
Продолжали путь молча.
Когда подходили к дому, опять появилась та самая старушка.
– Яша, приходи к нам завтра. Сорок дней. Не забыл?
– Приду, – ответил дед мягко.
И вдруг наклонился к моему лицу и тихо, смущаясь, сказал: «Я, дурак, тоже плакал, когда Сталин умер».
Оля уехала в деревню к родне, поэтому на поминки дед взял меня с собой. Комната была полна народу. Разговор вели неторопливый. Выпили по одной рюмке водки и стали по очереди вспоминать усопшего. Я напряженно вслушивалась в слова. Говорили по-разному: зло, раздраженно, печально, но все – тихо. Для меня эта встреча была как гром с ясного неба. Я никак не могла понять кто плохой, кто хороший. А главное, кто виноват? Я не хотела верить в то, что взрослый мир много хуже детского, что он слишком жестокий, а взрослая боль тяжелее, потому что там часто умирают....
Из-за стола встал дядя Вадим, высокий красивый молодой человек, налил себе рюмку водки и заговорил:
– Как-то случилось мне играть в соседнем дворе в футбол. Наверное, сильнее, чем надо, ударил по мячу, и он влетел в окно. Я не убежал, а только подумал: «Сам виноват. Бабушке не скажу. Заплачу за стекло из своих денег, которые целый год копил». Из дома выскочил мужчина, оглядел притихших ребят и меня, виновато опустившего голову, швырнул мяч мне под ноги и бросил в лицо жестко: «Безотцовщина!» Я похолодел. Как ножом полоснуло горькое слово. «Зачем он так? – подумал тогда. – Заслужил, – отстегай меня крапивой!» А он ударил в сердце. И произнес это слово с презрением, будто я нечисть какая-то. Всколыхнулась во мне откуда-то из глубины боль, не осознаваемая дотоле, обида за себя, за бабушку, – ни в чем не повинных, за папу, погибшего за нас и за того, кто так зло и гадко тронул мою душу. Это слово все перевернуло во мне. Я почувствовал себя несчастным, обделенным. Начал думать о жизни иначе: горше, с оглядкой. Мне стало казаться, что это слово выжжено у меня на лбу. Но бабушка Мила сумела успокоить меня своим теплом. Хотя и сейчас, когда слышу – «безотцовщина» – щемит сердце, туманит голову та, детская, обида. О том, что отец был репрессирован, узнал только на похоронах дяди Георгия. Я благодарен людям нашего двора за то, что они ни разу не попрекнули меня отцом ни в сердцах, ни в обиде. Сберегли они мое детство от метаний в неизвестности, от жутких страданий из-за несправедливости. Не было у меня глухой обиды на страну, на людей. Я знал – отец погиб на войне, он герой. Я верховодил ребятами нашего большого двора. Был нормальным мальчишкой, верным другом. Мое голоштанное детство было овеяно романтикой подвигов отца, верой в прекрасное будущее. Оно было наполнено любовью к друзьям, окружавшим меня людям и моей бабушке Миле. Он прижал к себе одной рукой худенькую седую старушку и выпил залпом: «За твое здоровье, родная».
Потом все пошли на кладбище и, опустив головы, долго молчали у могилы.
Во мне нарастало волнение, боль за хороших людей. Не заметила, как зашептала:
Темно-синяя ночь надо мною склонилась
И усталые плечи прижала к земле,
Словно скорбная мать над могилой молилась
Обо всех на планете – погибших во зле…
И, ударившись сердцем, онемевшим от боли,
О бездушье людское, о зависть и злость,
Он лежал рядом с ними, пожелавшими воли,
И склонилась над ним виноградная гроздь.
Бабушка прижала мою голову к своей груди и впервые за вечер заплакала тихо, по-детски всхлипывая. Я тоже. Мужчины еще ниже склонили головы.
На следующее утро дед спросил меня:
– Откуда ты знаешь такие стихи?
– Я их не знаю. Они сами из головы пришли.
– Ты их сочинила у могилы?
– Не сочинила. Пересказала, как поняла, все, что слышала вечером. Я ничего не выдумывала. Это не я, оно само, понимаете?
– Нет, – сознался дед, – и часто у тебя такое?
– Часто. Но не вслух. Когда грустно, молча говорю о душе, о сердце, а когда весело – про природу и ребят. Мне стало жалко вашего друга-доктора и поплыло в голове. Начинаю первую строчку и не знаю, о чем будет вторая. Они сами складываются. Если об этом же в другой день вспомню, то другие слова образуются. Лучше получается, когда волнуюсь, дрожу внутри. И еще когда никто не мешает.
– На кухне стихи, наверное, не пишутся? – усмехнулся дед. – Давно это у тебя?
– Давно.
– Сейчас сможешь что-либо сочинить?
– Конечно. Но это будут не стихи, а просто рифмовки.
– А в чем отличие?
– Всякий дурак сможет срифмовать «драться, плескаться, кусаться, собраться». Хорошие строчки появляются, когда душа болит.
– И часто она у тебя болит? – сдержанно спросил дед.
– Часто. Когда жена вашего друга в черной одежде наклонилась над могилой, она показалась мне темным облаком печали. И дикий виноград я не придумала. Он оплетал дерево, стоявшее у памятника. Вы видели?
– Да.
– Я хотела, что-нибудь сказать про людей у могилы, но ничего не пришло в голову, а придумывать не стала. Подожду, когда само сложится. Вот услышала прошлой зимой, что летчик погиб (я в это время на улице у столба стояла, где висел репродуктор), посмотрела вокруг и тут же представила, как его самолет сгорает в воздухе.
Был зимний, розовый закат.
В нем мир теней исчез бесследно.
И только дыма, гари смрад
Остался след на небе бледный…
Я на самом деле видела в небе черно-красную тучу, розовый закат, и на земле в тот вечер не было теней от деревьев. И вдруг запах гари почувствовала… Раньше, бывало, приложу ладони к лицу, почувствую запах рук, – а он ведь всегда разный – и вспоминается то хвойный лес, то горячая печка… А тогда у столба все произошло, наоборот: при словах «взрыв и пожар» я ощутила запах горячего дыма и бензина. В первый момент удивилась, посмотрела вокруг: вдруг и правда что-то поблизости горит? У вас такое бывает?
– Нет. Ты очень чувствительная.
– Стихи обычно я сочиняю и сразу забываю, а этот запомнился. Наверное, потому, что о летчике до сих пор вспоминаю. Даже лицо ему придумала и нарисовала. Красивое такое, мужественное, умное и очень доброе. Только добрый человек может стать героем!
Дед прилег на кровать. Я села рядом на полу. Его рука лежала на моей голове, и мы продолжали разговаривать. Но уже молча.
Потом я спросила:
– Папа, дядя Вадим сын больной женщины?
– Племянник. А ты знаешь, бабушка Мила ему не родная. Она подруга его бабушки, которой к тому времени уже не было на этом свете. Отец Вадима без вести пропал на фронте, мать немцы расстреляли. Тогда пришла Людмила Васильевна и забрала мальчика у соседей.
Я вспоминала доброе лицо седой старушки, и в голове проносились благодарные стихи об этой прекрасной женщине.
ПОЭТ
Дед покопался в нижнем ящике комода, достал из-под старых подшивок газет маленькую книжку в твердом, белом переплете и показал мне дарственную надпись.
– У вас был друг-поэт?! – с неподдельным восторгом закричала я.
– Что значит «был»? Он живет и здравствует в нашем городе. Почему ты подумала, что его уже нет среди нас?
– Все поэты и художники, которых я знаю, давно умерли.
– Хочешь, позову его к нам в гости?
– На самом деле? – спросила я, совершенно не веря в такую возможность.
– Не Пушкина приглашу, а нашего местного поэта, – засмеялся дед.
Прошло два дня. Я пришла из школы в кислом настроении. За столом сидел среднего роста усталый человек, одетый в темно-коричневый костюм и рубашку в светлую клетку. Длинные, как у попа, волосы – седые у лба и висков. Серые, глубоко запавшие глаза смотрели приветливо и с любопытством.
Дед суетился, раскладывая на столе тарелки.
– Я выполнил свое обещание, – сказал он, весело обращаясь ко мне.
– Вы – поэт? – недоверчиво спросила я незнакомца.
– Да, – ответил тот с улыбкой.
– И с вами можно поговорить?
– Конечно. Ты любишь мечтать?
– Очень!
– О чем?
– Иногда я мечтаю совсем глупо. Вот когда хорошее настроение, люблю громко петь песни, которые сама придумываю. Только очень плохо получается. Слуха нет музыкального. А в мечтах я здорово пою! Еще думаю о счастливой жизни всех людей на свете. Хочу, чтобы меня любили.
– Чтобы любили, необходимо все время делать людям хорошее. Любовь как костер – в него надо постоянно дрова подбрасывать.
– У меня есть долгие мечты и короткие, которые появляются как бы из воздуха. Вот мелькнула когда-то мысль: «Познакомиться бы с писателем». А потом подумала, что это невозможно, и мечта пропала. А теперь вы со мною разговариваете и не воображаете.
– Почему я должен воображать? – рассмеялся друг деда.
– Потому что вы необыкновенный, раз настоящий поэт.
– Любой человек, нашедший себя в жизни, – необыкновенный. В пятьдесят лет я начал летать во сне, когда занялся тем, о чем мечтал всю жизнь. Мне кажется, дети летают во сне потому, что развиваются эмоционально, и физический рост здесь ни при чем. Сейчас я чувствую себя ребенком. Будто крылья связанные расправил. Вкус жизни почувствовал.
– Почему в детстве не писали? – удивилась я.
– Учитель высмеял мои первые стихи. А родители растили из меня трудолюбивого доброго, порядочного человека. Их не волновали мои чувства, фантазии. Взрослые считали, что они мешают мне достигать главной цели. Всю жизнь переступал через себя, зарабатывая тем, что было поперек души. А теперь готов питаться только хлебом и водой, но писать и писать, сберегая каждую минуту вдохновения. Очень боюсь его лишиться. Я уже потерял детскую непосредственность, юношескую яркость и образность мышления. Не упустить бы здоровую зрелость ума. Тороплюсь. Мне теперь стало неинтересно даже то, что раньше считал своей единственной отдушиной – преподавание. Понял, что напрасно долго держал взаперти свои чувства. Но не стоит жалеть о прошлом. Рад, что состоялся как человек. И тем счастлив. Пишу потому, что уже не могу не писать. Если твоя душа желает излить наболевшее или она искрится радостью – пиши, не стесняйся открывать душу бумаге. А время покажет – хорошо или не очень то, что ты сочиняешь. Вреда в этом нет. Даже если не станешь поэтом, будешь грамотнее и нервную систему стабилизируешь, то бишь укрепишь. Пиши, девочка!
– А теперь иди к матери, нам надо молодость вспомнить, – сказал дед и мягко подтолкнул меня к двери.
ТРАГЕДИЯ
Вчера дед принес с рынка живую курочку. Она ходила по кухне, сердито квохтала и встряхивала крыльями. Оля поймала ее, отнесла во двор к тете Марусе и попросила: «Заруби, пожалуйста, у меня рука не поднимается. Жаль птицу, да и крови я боюсь». Я стояла рядом и мысленно рассуждала: «Все-таки я ошибалась, считая Олю злой. Вот и курочку ей жалко. Нельзя без причины о человеке плохо думать. Почему мне кажется, что она нехорошая? Видно дети ошибаются чаще взрослых. Бог простит меня за глупые мысли. Я же не со зла».