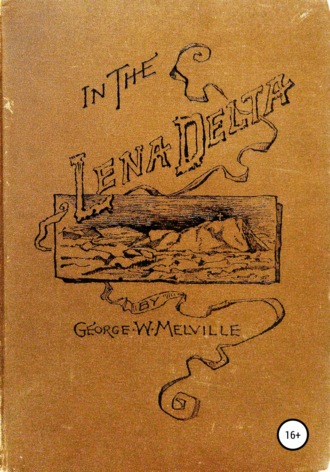
Джордж Мельвилль
В дельте Лены
Глава VII. Вверх по Лене
Наша неудачная самостоятельная попытка – Василий Кулгах – Моя утиная дипломатия – Страх перед цингой – Ары, заброшенная деревня – Спиридон, безобразный староста – Сибирские ледяные погреба – Зимовьелах.
Перед тем как лечь спать, я заметил, что туземцы помолились маленькой медной иконе в углу хижины, дальнем от двери. Рундук в этом углу – это всегда место для гостей, а над ней на небольшой полке – иконы (их часто бывает дюжина или более) и несколько маленьких восковых свечей толщиной с карандаш и длиной около трёх дюймов, которые зажигаются в особых случаях или, как в жилищах богатых туземцев, горят во время молитв. Мы хорошо поспали и проснулись к завтраку из рыбы, пойманной за ночь сетями туземцев. Харанай ещё не вернулся, и я засомневался в добросовестности наших туземцев, замечая в их поведении, каким бы дружелюбными оно ни казалось внешне, некоторый страх перед нами и подозревая, что они готовятся сбежать и бросить нас на произвол судьбы. Я пытался уговорить Афоню отправиться с нами или вести нас за своей лодкой, но всё безрезультатно, и когда я потерял терпение и приказал силой затащить его в лодку, он так трясся от страха, что мы решили продолжать путь без него. Состояние моих людей, недостаток провианта и желание как можно быстрей добраться до Булуна, где я мог бы связаться с российскими властями и организовать поиски Делонга и Чиппа, не терпели отлагательств. Поэтому я забрал всю рыбу, что была у туземцев, а мистер Ньюкомб обменял нож и шейный платок на рыболовную сеть, которой мы надеялись воспользоваться в пути. Затем мы отчалили и оставили нашего доброго Афоню в слезах стоять на берегу.
Он уверял нас, что мы не сможем добраться до Булуна, но всё же указал направление к населённым местам на юго-восток. Здесь я оказался в затруднении. Течение с западо-северо-запада было сильным, и Даненхауэр предостерегал меня: «Мельвилль, нам следует идти на юг, а не туда!».
Несмотря на то, что я хотел держать курс против течения, доводы моего спутника и указанное Афоней направление всё же возобладали, и я попытался идти вдоль того, что я считал юго-западным побережьем главного течения реки. Но опять помешали мели, заставив нас повернуть на восток, в результате мы совсем немного продвинулись на юг. Наконец, оказавшись в бухте, где мы уже были накануне, я увидел два высоких мыса на юге и, полагая, что река проходит между ними, весь день пытался добраться до них. Погода была сырая и ветреная, волнение интенсивное, и куда бы мы не направлялись, через милю-другую натыкались на мель. В два часа дня я решил вернуться в Малый Буор-Хая. Ветер тем временем несколько уменьшился и стал попутным, но глубина была недостаточной, и волны, перехлёстывая через косы и отмели, окатывали нас и замерзали на дне лодки. Люди были измотаны бесконечной греблей, вычерпыванием воды и работой с парусами. Бартлетт на носу лодки, всё время промеряющий дно и кричавший мне показания глубины, промок до нитки, одежда на нём замёрзла и стояла колом, шест от палатки, который он использовал в качестве футштока, представлял собой сплошной кусок льда, а руки его распухли и потрескались так, что на них было страшно смотреть. Тепло и сравнительный комфорт предыдущей ночи избаловали нас и сделали нас более восприимчивыми к холоду и физической боли, поэтому жалоб теперь было больше, чем когда-либо прежде. Мои ноги ниже колен были покрыты болячками и волдырями, причинявшими мне мучительную боль. Лич, Мэнсон и Уилсон, будучи моложе Коула, выполняли команды несколько быстрее, но они были на вахте весь день и теперь были совершенно вымотаны. Я всё время был на шкотах, управляя парусом, и делал это совершенно механически, так как руки мои были лишены всякой чувствительности. Ближе к ночи вызвался порулить Даненхауэр, но ветер и снег слепили его, и он не смог держать курс в соответствии с направлением ветра, который дул ему в щеку (чтобы он лучше чувствовал ветер, я даже поднял вверх уши его шапки). После нескольких опасных перекидываний паруса на фордевинде, я приказал Личу сменить его у румпеля, и решил бросить якорь под прикрытием первой мели, которая нам попадётся, и там ждать рассвета. После пары попыток мы нашли, наконец, подходящее место и остановились в тихой глубокой воде за песчаной косой.
Но как встать на якорь без якоря или даже без какого-либо его подобия?! Единственной возможностью было бы привязать лодку к какому-нибудь столбику или дереву, и даже этого вблизи не наблюдалось. Тогда я приказал Бартлетту забить в илистый грунт три палаточных шеста с медными наконечниками, а швартовый конец привязать к их нижней части, а чтобы они не потерялись, если вдруг будут вырваны из земли, привязать к их вершинам ещё страховочный конец. Таким образом лодка всю ночь противостояла ветру, который временами дул очень сильно. Затем, опустив весла с обоих бортов, чтобы лодка держалась носом против ветра, и оставив одного человека следить за швартовыми, мы, как могли, укрылись на ночь. Сон, конечно, не шёл в голову; тем не менее, накрывшись штормовками, кусками парусины и прорезиненной тканью, которую мы обычно расстилали в палатках, мы попытались уснуть. Но из-за дождя, ветра и мокрого снега было ужасно холодно. Те из нас, кто ещё не имел обморожений, вскоре их получили, а у тех, кто имел, конечности стали ещё хуже – распухли и еле помещались в обуви и перчатках.
На рассвете ветер стих, волнение улеглось, но сами мы представляли собой унылое зрелище. На лицах каждого были написаны все страдания, которые он перенёс этой ночью; верёвки замёрзли и покрылись инеем, а всё в лодке было покрыто снегом толщиной в несколько дюймов. Холмы и отмели, которые несколько часов назад были зелёными и чёрными, теперь сверкали в своём зимнем одеянии; всё вокруг так изменилось, что мы едва могли различить вчерашние ориентиры. Тем не менее, мне казалось простым делом вернуться туда, откуда мы пришли. Мы шли по компасу на юго-восток, соответственно, надо просто идти обратно на северо-запад. Но разнообразие мнений по этому поводу было таким поразительным, что я позволил каждому высказаться по этому поводу. Оживлённое обсуждение продолжалось почти до полудня, когда берег вдруг показался мне очень знакомым, и я решил причалить и приготовить ужин из чая и рыбы. Вскоре у нас ярко пылал костёр, и пока одни готовили ужин, другие, которые особенно яростно спорили о нашем местоположении, пошли на разведку и за первым же мысом обнаружили хижины Малого Буор-Хая. Всё, что заслуживало называться дичью, давно покинуло окружающую нас местность, а с выпадением снега и замерзанием озёр те немногие утки и гуси, которые дождались, наконец, когда поднимется на крыло их запоздалое потомство, теперь летели на юг отдельными парами или небольшими стайками. Только чайки и другие падальщики парили в вышине и с вожделением и надеждой смотрели на наши страдания. Поев, мы двинулись дальше и ближе к вечеру, приблизившись к мысу, с радостью увидели наших туземцев, бегущих нам навстречу. Они помогли нам вытащить лодку на берег через за́берег, образовавшийся за последние дни. Теперь их было четверо, к ним присоединился старик, которого они представили нам, как своего вождя, называя его «староста», «командир», «тятя» и тому подобное. Он стоял пред нами с шапкой в руках, повторяя: «Здрасте, здрасте».
У меня, Лича, Мэнсона и Лаутербаха были так сильно обморожены конечности, что мы передвигались на четвереньках; Бартлетт, Коул, Ньюкомб и другие, хотя и получили серьёзные повреждения, не были такими калеками; в то время как Даненхауэр и Инигин пострадали меньше всего. Туземцы помогли нам добраться до хижины, где у них ярко горел костёр и был хороший запас рыбы и оленины. Увидев в наших руках чаек, которых подстрелил Ньюкомб, они заявили, что они не годятся в пищу, и вместо этого дали нам рыбу. Я никогда не мог понять, почему они не едят чаек, когда им так часто приходится прибегать к еде гораздо более отвратительной. Я помню, что кто-то в кают-компании «Жаннетты» утверждал, что молодые чайки продавались на рынках больших портовых городов Соединённых Штатов и считались большим деликатесом среди местного «высшего общества». И хотя я готов лично заверить, что есть вещи и более неприятные, в чём мы могли удостовериться, путешествуя в этих местах, я всё же предлагаю не есть чаек или других падальщиков, когда доступна лучшая еда.
Я добавил к ужину ещё один чайник чая, который туземцы обожали, а затем принялся рассказывать старику о нашей крайней нужде и страстном желании найти дорогу в Булун или какое-нибудь другое поселение. Он всё понял и объяснил, что после сна мы все отправимся в некую деревню. Я попытался убедить его проводить нас прямо до Булуна, но тут он был согласен со своими молодыми товарищами, что это невозможно из-за нехватки еды и одежды, и быстрого образования льда на реке. Я уже был полон решимости во второй раз применить насилие и во что бы то ни стало добиться своего. После нашей безуспешной попытки найти проход вверх по реке я уже обещал свои людям, что я вернусь, возьму в плен туземцев, захвачу их лодки и заставлю провести нас в Булун. К счастью, необходимость принуждать к послушанию отпала, потому что на следующее утро после завтрака мы отправились в путь. Прежде чем отчалить, надо было проинструктировать старика Василия, чтобы он избегал отмелей, так как наш вельбот имел гораздо большую осадку, чем их небольшие лодки. Бартлетт объяснил суть дела, показав ему насколько ватерлиния нашей лодки выше, чем их. Василий всё понял, и в доказательство этого сделал ножом отметку на своём двухлопастном весле, предварительно измерив им расстояние от земли до указанной ватерлинии на вельботе. Мы оценили такую сообразительность и с тех пор полностью доверяли нашему новому лоцману. Я снова начал разговор за то, чтобы мы поплыли сразу в Булун, но встретил такой же решительный отказ. Туземцы сказали, что тогда холод, лёд и голод неминуемо настигнут нас и нарисовали на снегу схему течения реки с указанием деревень, в которых мы должны будем останавливаться, и закончили нашу дискуссию, показав трагическую сцену смерти. Итак, взяв с Василия обещание, что когда-нибудь мы всё же доберёмся до Булуна, мы наконец отправились в путь.
Некоторое время Василий вёл нас вдоль берега в том направлении, которым мы шли накануне, продолжая двигаться на юго-восток, пока вельботу хватало глубины. Двое молодых туземцев плыли по обе стороны и несколько впереди от лодки старика, отыскивая глубокие места. Но со временем мели стали попадаться всё чаще, и Василий отказался от этого курса, повернув на восток и иногда на северо-восток. Ближе к вечеру он послал другие лодки вперёд, а сам остался с нами, подбадривая нас продвигаться вперёд, то ворча и что-то бормоча себе под нос, то увещевая, но всегда добродушно, в то же время смеясь вместе с нами над той тарабарщиной, которой мы пытались с ним объясняться. Несколько часов мы из последних сил боролись с сильным течением, и уже казалось, что мы никогда не обогнём одну длинную песчаную косу на нашем пути, как вдруг примерно в миле впереди на берегу показался яркий огонь. Это двое других туземцев, ушедшие вперёд, разожгли для нас путеводный огонь – первый с тех пор, как мы покинули Уналашку. Это придало нам столько сил, что вскоре мы уже вытаскивали нашу лодку на пустынный заснеженный берег, за которым виднелась возвышенность, изрезанная оврагами и промоинами.
Для ночлега мы поставили две палатки для себя, а туземцам соорудили укрытие из паруса от вельбота, и с наступлением темноты легли отдыхать. Снег, выпавший за последние дни, послужил нам мягким матрасом, кроме тех мест, где под ним оказались коряги, валявшиеся на берегу. Да ещё наши спальные мешки от частого намокания и замерзания почти лишились меха и так прохудились и заскорузли, что стали почти бесполезны. И всё же мы были безмерно благодарны туземцам и за эти удобства, и за их дружескую заботу и помощь. Чтобы поторопить их, я спрятал небольшой остаток (около двадцати фунтов) пеммикана и стал убеждать их, что у нас совсем не осталось провизии; в то же время попросил их поставить сети и наловить рыбы, а сам в палатках тайком раздал понемногу пеммикана. Старый Василий заглянул во все наши вёдра и котелки, и, не найдя еды, выдал нам из своих запасов несколько маленьких рыбёшек, из которых мы приготовили жидкую уху.
Ночью было очень холодно, яростно дул ветер, поднявшийся с заходом солнца. Большую часть ночи мы поддерживали большой костёр на безопасном расстоянии от палаток, но, тем не менее, дрожали от холода и к утру чувствовали себя совершенно разбитыми – более, чем когда-либо – чтобы справиться с нашими не уменьшающимися трудностями. Пинта горячей ухи и четверть фунта пеммикана каждому (включая туземцев) составили, вместе с чаем, наш завтрак. Палатки, покрытые льдом и снегом и замёрзшие до состояния дерева, были кое-как свёрнуты и уложены в лодку, и мы снова пустились в путь. Выбравшись из мелководья большого залива, мы вышли по извилинам реки в море, обогнули остров к северу от мыса Быковский и снова вошли в реку, проделав хороший дневной путь, и уже в сумерках прибыли к двум заброшенным хижинам на северной стороне главного ответвления Лены на восток, где я впоследствии дважды побывал во время моих вторых поисков Делонга. Одна из хижин была в гораздо лучшей сохранности, чем другая, но и обе вместе не могли укрыть нас всех; поэтому некоторые предпочли поставить для себя палатку. Туземцы поймали пару рыбёшек, к которым Василий нехотя добавил ещё несколько из рундука в своей лодке. Днём Ньюкомб подстрелил пару уток, и я широким жестом подарил их Василию, сказав, что, хотя нам больше нечего есть, мы всё же чувствуем себя обязанными отдать ему всё, что осталось, чтобы он быстрее доставил нас в безопасное место. Моё лукавое великодушие не прошло даром. Он снова заглянул в наши котелки и ящики и, обнаружив, что они так же пусты, пожелал вернуть уток и предложил нам две последние рыбы из своей лодки, заверив меня, что его запасы теперь так же пусты, как и наши.
Некоторые из команды получили обморожения ещё раз и так ослабли, что не вытащили лодку полностью и просто свалили снаряжение на берегу, вне досягаемости воды. Хижины, как обычно, были построены на высоком берегу, и в нашем состоянии было непросто подняться к ним. Я совершенно не чувствовал ног и потому шёл вверх, опирался на старого Василия и Хараная, которые таким же образом помогли Личу и Лаутербаху. Наш ужин, как обычно, состоял из ухи, Бартлетт разлил её поровну по мискам и расставил на земле, каждый мужчина схватил свою, нам с Бартлеттом достались две последние.
Тем временем Василий ощипал уток и сварил суп, которым щедро поделился с нами. Много, много раз после этого я видел, как Василий показывал своим соплеменникам пантомиму, в которой я презентовал ему уток, когда мы сами были полумёртвые от голода, холода и усталости. Так что история с этими двумя утками имела хорошие последствия для моего первого тяжелейшего путешествия в поисках Делонга, а когда я окончательно покидал дельту Лены, я отдал свою немногочисленную оставшуюся рыбу и скромные запасы провизии Василию и его односельчанам.
Заползая на ночь в хижины, мы обязательно снимали обувь, чтобы облегчить наши опухшие, покрытые волдырями и кровоточащие ноги. В эту ночь, после того как я снял мокасины, туземцы наши, один за другим, осмотрели мои ноги и, вдавливая пальцы в бугристую и губчатую плоть, наблюдали, исчезнут ли вмятины. Они долго не проходили. Туземцы, качая головами, устроили консилиум и, по-видимому, пришли к выводу, что, хотя я был в очень плохом состоянии, при данных обстоятельствах сделать для меня они ничего не могут. Меня, однако, больше всего беспокоил страх, что среди нас вот-вот разразится цинга. Из того, что я знал об этой ужасной болезни, мне казалось странным, что мы, пережившие наибольшие трудности из всех известных арктических экспедиций, не были ей подвержены. Мы прошли невредимыми (поскольку случай с Алексеем был всего лишь подозрением) через испытания долгим походом в мокрой одежде, в самом тяжёлом труде при самом скудном питании – таком, при котором гибнут даже китобои, оказавшись вдали от своих кораблей. Всё это и многое другое пережили мои доблестные товарищи; но теперь, хотя язвы, волдыри и деформацию ногтей можно было объяснить обморожением, всё же омертвление и опухоль конечностей я приписывал исключительно цинге. Она же, по-видимому, была и причиной болезненности дёсен, на которую жаловались Даненхауэр и Ньюкомб. И всё же время показало, что я зря беспокоился, несмотря на то, что мы долгое время жили без каких-либо противоцинготных средств.
На следующий день мы рано вышли в путь и то гребли, то поднимали парус, а иногда, когда это было возможно – шли и под вёслами, и под парусом. Наши проводники иногда ставили нас в трудное положение, забывая, что их лодки имеют осадку всего три дюйма, а наш вельбот – двадцать шесть. Но они всегда помнили о нашей слабости и болезнях и делали как можно больше остановок на отдых. К полудню мы оказались в широкой глубокой протоке и резво пошли под вёслами и парусом. Василий отправил обоих своих молодых людей вперёд, а сам остался в нашей лодке, показывая мне, что его руки так устали, что он не может больше грести. Но мне всё же казалось, что он просто хотел задержать нас, пока его товарищи не проведут разведку и не вернутcя, и потому попросил нас, чтобы мы перестали грести и приспустили парус, хотя ветер был попутный. Вскоре показалась довольно большая деревня, но из труб не поднимался дым, а когда мы приблизились, ни один человек, ни собаки не вышли встречать нас на берег. Поначалу это показалось нам странным – это наше скрытное приближение, отсутствие людей и гнетущая тишина. Я даже заподозрил, что туземцы специально ушли вперёд и предупредили людей, чтобы они ушли, но при ближайшем рассмотрении понял, что поселение было покинуто несколько месяцев назад. Затем до меня дошло, что это зимняя деревня, жители которой ещё не вернулись, и что Василий направил молодых людей, чтобы проверить это и остановиться там, если жители там есть, а если нет, то сразу отправиться на юг в другую деревню, которая, как он знал, была населена. Но так как мы проплыли поворот реки, Василий решил остановиться в этом деревне под названием Ары[41]. Мы высадились и заняли одну из хижин. Она была в хорошем состоянии, а оконные проёмы были закрыты от непогоды деревянными щитами. Порывшись в хижинах и складах, мы не нашли там абсолютно ничего съестного. Более преуспел в этом Ньюкомб со своим ружьём, застрелив несколько куропаток, которые тут же пошли в суп. Василий послал одного из товарищей в соседнюю деревню за туземцем, который поведёт нас дальше. Он объяснил, что дальше идти не может и, обнажив свою руку, показал место возле бицепса, где она была пронзена пулей или копьём. Рука от этого была усохшей и почти не работала.
Мы развели костёр и приготовили чай, а во второй половине дня заметили приближающееся лодку и туземную гребную шлюпку. Последняя по форме напоминала вельбот, острая с обоих концов и с гораздо более плоским дном, была обшиты внакрой досками примерно один с четвертью дюйма толщиной, десять дюймов шириной и длиной во весь корпус, скреплёнными нагелями диаметром три восьмых дюйма. Шпангоуты из берёзы или ели были примерно в трёх футах друг от друга, а нос и корма, соединённые с внутренним килем, представляли собой массивные деревянные бруски, вырезанные заподлицо с обшивкой. Работа была выполнена грубо, но прочно; и лодка такого рода, от шести до восьми футов в ширину и от двадцати пяти до тридцати футов в длину весила, вероятно, в три раза больше, чем вельбот тех же размеров, даже если он без железного или медного крепежа. Швы снаружи были законопачены оленьим мхом и тонкими корешками торфяного мха-сфагнума.
Наш друг Харанай был в лодке, а в шлюпке сидели двое мужчин и две женщины, трое из них гребли, а старший мужчина был за рулём. Это, как объяснил мне Василий, был староста деревни. Выглядел он страшно, как старый пират из книжек. Невысокий и коренастый, со сверкавшими в глубине головы, как два маленьких огненных шарика глазами под выгнутыми дугой нависшими бровями. Волосы его были коротко подстрижены, маленькие уши прижаты, рот с твёрдо сжатыми губами простирался от уха до уха над большой квадратной челюстью. Тело этого великана по имени Спиридон опиралось на ноги карлика. Две женщины, сопровождавшие его, одна из которых была миссис Спиридон, а другая – его сестра, потеряли каждая по правому глазу; и, хотя они вели себя более скромно, чем их муж и брат, выглядели так же злодейски. Молодой человек был шумным и бесшабашным юношей, одетым в какое-то тряпьё и лохмотья, и напоминавшим наших многочисленных бездельников из больших городов, которые довольствуются тем, что веселятся и живут за счёт других.
Спиридон с женщинами сразу же удалился в свой дом, а Капитон, юноша, тут же начал брататься с моряками. Василий зашёл к нам, чтобы сказать, что прибыл староста, и в компании с ним и мистером Даненхауэром мы отправились к «большому начальнику». Он был флегматичным и медлительным, и не пытался завязать разговор или вообще стараться быть хоть сколько-нибудь любезным. Принесли большой чайник чая, который я приказал приготовить в нашей хижине, и мы выпили его из глиняных чашек, которые принесли женщины. Затем Спиридон сообщил мне, что Капитон, который был его протеже и хорошим лоцманом, проведёт нас в следующую населённую деревню. Тут Василий объяснил старосте, что нам нечего есть, и перед нашим уходом тот дал нам пять потрошённых гусей. Вскоре мы собрали наши немногочисленные пожитки и, воодушевлённые, отправились в путь; наш добрый друг Василий с шапкой в руках стоял на берегу и кланялся нам на прощанье. Капитон и Харанай сели к нам, а Фёдор поплыл на своей лодке, а время от времени на буксире за нашим вельботом.
Сначала между туземцами не было разногласий относительно курса, которым мы должны следовать; но вскоре мы оказались в месте, где каждый указывал своё направление, и, поскольку Капитон был главным лоцманом, я пошёл в указанную им сторону и вскоре мы оказались в слишком мелком для вельбота месте. Мы этому вовсе не удивились, так как уже не верили, что туземцы когда-нибудь поймут, что вельбот имеет осадку на два фута больше, чем их лодки. Мы попали на мель при попутном ветре и потому были вынуждены сниматься с неё против ветра и течения. Туземцы заверили меня, что мы доберёмся до деревни этой же ночью, но мы настолько задержались в этой извилистой и мелководной протоке, что пришлось снова остановиться и переночевать, что мы и сделали в двух старых хижинах, попавшихся по пути.
Я сварил наших гусей; они оказалось весьма «с душком» и возбудили бы аппетит какого-нибудь самого изощрённого гурмана за пределами арктических регионов, где такое мясо хоть и востребовано, но, скорее, по личным пристрастиям, а не по необходимости; ибо, хотя лёд в Арктике в постоянном изобилии, всё же в летние месяцы настолько тепло, что, если туземцы не построят ледники, дичь, которую они добывают в летнее время, так же легко испортится в устье Лены, как и в Нью-Йорке. Склады и хижины строят на высоких берегах реки, чтобы по возможности избежать наводнений, которые временами заливают всю дельту, так что обычный сибирский ледник здесь невозможен. Затем, опять же, для этих людей это большое и хлопотное дело – выкопать подвал с помощью имеющихся в их распоряжении инструментов, а это только деревянная лопата с окованным железом лезвием. Железо для такой оковки покупается у торговцев, а сама лопата изготавливается чаще всего из ели. Такой инструмент используется всеми туземцами и составляет часть их зимнего снаряжения для очистки от снега их лисьих ловушек. В районе Якутска земля постоянно промерзает на среднюю глубину сорок семь футов[42], и когда нужно вырыть погреб, то сначала на его месте разводят костёр, который оттаивает несколько дюймов земли, её удаляют, снова разводят костёр, оттаивают следующие несколько дюймов и таким образом продолжают до тех пор, пока не будет достигнута нужная глубина. Стенки ямы укрепляют круглыми брёвнами, делают потолок, зимой всё замерзает, как камень, и таким образом получается круглогодичный ледяной погреб.
Этим длинным отступлением я просто хотел сказать, что наши древние и пахучие гуси не хранились в леднике; но так как прошло уже много времени с тех пор, как мы ели приличную еду, и могло пройти ещё больше, прежде чем представится следующая такая возможность, то мы поглотили их и легли спать. На следующее утро было удивительно, как хорошо все чувствовали себя после ночного отдыха. Конечно, тем из нас, у которых ещё не зажили обморожения, лучше не стало и двигаться было всё так же мучительно; но когда мы сидели в лодке, то были бодры и сильны духом, а выше пояса – и телом. Боль в ногах переносились безропотно до конца каждого второго часа, когда надо было сменяться на вёслах. А уж тогда пострадавшие сыпали проклятиями с удвоенной силой, и их реплики не всегда были выдержаны в примирительных и ласковых выражениях. Тем не менее, в целом, каждый был внимателен к удобству других, и было очень мало проявлений неприязни, кроме этих кратковременных и простительных вспышек гнева; а если вспомнить, как переполнена была лодка – по двое мужчин на каждой скамейке, и конечности почти у всех болят, как от огня, – неудивительно, что при каждом резком толчке лодки у кого-нибудь вырывался крик боли.
К полудню мы обогнули длинную песчаную косу и увидели низкий остров, на котором раскинулась деревня, состоящая, вероятно, из дюжины балаганов, чумов и амбаров, а также церкви без шпиля. Фёдор, спеша возвестить о нашем приближении, умчался вперёд, а мы поспешили следом, нетерпеливо вглядываясь в деревню. Вскоре мы увидели дым, вьющийся над хижинами, и все наперебой закричали: «Я вижу человека!.. Вон ещё один!.. Смотрите, собаки!.. Ура! Там женщина!.. Нет, женщины!.. Смотрите, молодые!.. и т.п.» Когда мы приблизились к берегу и стало мелко, от берега отвалила пара лодок, в одном из которых был типичный рыжеволосый русский. Мы все дружно завопили: «Там русский!». Ему это явно понравилось, и он крикнул в ответ: «Русский, русский!». Затем мы засыпали его сотней вопросов на английском, французском, испанском, немецком, шведском и всех остальных ломаных языках, которыми мы хоть немного владели, и даже снизошли до диалекта Инигуина, которому я велел обратиться к молодому человеку на русском, каким он несомненно владел; но это был полный провал, так как Инигуин, кажется, попытался общаться с ним на языке асинибойнов или чинуков.


