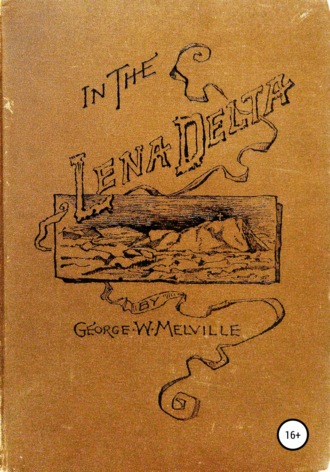
Джордж Мельвилль
В дельте Лены
Глава XIX. Из Верхоянска в Якутск
Паневич – Доктор Белый – Его печальная история – «Эти ужасные нигилисты!» – «Мёртвый нигилист и Мёртвый Царь» – Счастливые влюблённые – Я принимаю впечатляющую русскую баню и очень сильно простужаюсь – Уезжаю в Якутск – Сибирские пейзажи – Лошадь и её проблемы – Неожиданное препятствие – Киенг-Юрях – Водораздел – Опасный спуск – Жилище тунгусов – Несносные ямщики – Бедные тунгусы – Местные мельницы – Учёный ссыльный – Скопцы.
Во время моего пребывания в Верхоянске из Якутска прибыл полицейский чин по фамилии Паневич, который также был одним из секретарей генерала Черняева. Они с Кочаровским были близкими друзьями, и, находясь в Верхоянске, он остановился в доме исправника. Я договорился, что поеду с ним в Якутск, и поэтому с нетерпением ждал прибытия Бартлетта и его компании.
Паневич был отличным добродушным малым, он познакомил меня с местными купцами, которые тоже были, в некотором роде, отличными парнями, всегда готовыми заработать рубль, но добродушными и гостеприимными до крайней степени, часто превышающей их возможности. Все они носят особую одежду, предписанную их гильдией – длинные шерстяные рубашки навыпуск, подпоясанные в талии, я также видел молодого якутского купца, одетого в подражание белым коллегам в широченную цветастую фланелевую рубаху, развевающуюся по ветру.
Я также нанёс визит другому ссыльному по имени доктор Белый, который жил отдельно от своих товарищей и выполнял обязанности казённого хирурга. Он ослеп от катаракты и собирался поехать на лечение. Доктор Белый был очень добр к Даненхауэру и Личу, и именно он подготовил коробку с лекарствами, отправленную нам в Булун. На его долю выпало много горя, больше, чем в жизни большинства людей. Когда-то он был практикующим врачом в небольшом городке в Малороссии, никогда не совершил никаких преступлений и не принадлежал ни к какому тайному обществу.[89] Он считал, что его единственным проступком была женитьба на женщине из соседней деревни, а он не знал, что у него есть соперник.
Историю его ареста и ссылки в Верхоянск мне со слезами на глазах перевёл Лион, его друг и товарищ по несчастью. Оказалось, что однажды он лечил маленькую дочь полицмейстера, которая в конце концов настолько поправилась, что он перестал её посещать. Но однажды утром к нему от полицмейстера прибыл казак, который сказал, что его присутствие немедленно требуется в доме его командира, так как у ребёнка случился очередной приступ болезни.
«Я думаю, что ничего серьёзного, – ответил доктор. – Передай, что я буду после завтрака».
Но казак настаивал пойти немедленно, и поэтому он попросил его подождать, пока он не наденет пальто, но тут казак снова вмешался, сказав, что в этом нет необходимости, дом был всего в нескольких шагах, и что полицмейстер просил передать, что он позавтракает у него. Поэтому, опасаясь, как бы с ребёнком действительно не случилось что-нибудь серьёзного, он поспешил, но по дороге казак сказал, что сначала они должны зайти в кабинет его начальника. Он с удивлением последовал за ним, ни на мгновение не заподозрив, что что-то не так; и вот его провели в полицейское управление, прямо в приёмную, где полицмейстер объявил ему, что он арестован.
«Партия ссыльных, – сказал бессердечный негодяй, – готова отправиться в Сибирь, и вы отправитесь с ними».
Белый рассмеялся – это была хорошая шутка, но полицмейстер заверил его, что это серьёзно, и тогда бедняга, совершенно обескураженный, взмолился. Почему его лишили свободы? Кто его обвиняет? В чём его обвиняют? Никакого ответа, кроме «в административном порядке».
Но не мог ли он вернуться домой под охраной и взять с собой самое необходимое? Или, по крайней мере, попрощаться со своей молодой женой? Жестокий полицейский отказал ему во всём. «А потом, – сказал он, – я выл от отчаяния, но меня поместили в одиночную камеру, чтобы дождаться отбытия партии, и через двенадцать часов я отправился в Сибирь».
Конечно, он чуть не сошёл с ума. Что будет с его молодой женой – и что она подумает о нём? Несомненно, подумает, что он её бросил. Тысячи мыслей и подозрений терзали его разум, он пережил дни и ночи душевных мук, и однажды, случайно, на одной железнодорожной станции он увидел из своего тюремного вагона своего старого друга-торговца. Тут же окликнув его, он вкратце рассказал об ужасном несчастье, которое с ним приключилось, и умолял его навестить жену и родственников и сообщить им о его судьбе.
Здесь следует сказать, что сразу же после вынесения приговора ссыльный теряет свою личность – лишается своего имени и становится «Номером таким-то», а его имуществом распоряжаются так, как если бы он был мёртв, – оно конфискуется государством или делится среди наследников. Так что практически никому, кроме властей, не известно его местонахождение.
Когда доктор Белый прибыл в Иркутск, он задержался там на некоторое время, а в это время его друг, купец, верный своему обещанию, поспешил рассказать бедной молодой жене доктора о его несчастье, и она, как только смогла, отправилась к нему в ссылку. С женской изобретательностью она сумела уведомить его письмом о своём приезде. Ежедневно, ежечасно, постоянно ждал он её, и как раз тогда, когда она вот-вот должна была приехать, его выслали в Якутск, а оттуда в Верхоянск.
Она, бедняжка, прибыла в Иркутск двумя днями позже. Представьте себе её страдания – когда, проехав 4000 миль, она узнаёт жестокую новость: он ещё в 2000 милях отсюда, и неизвестно, найдёт ли она его даже там! Это было слишком для бедного сердца – она потеряла рассудок, некоторое время бредила в сумасшедшем доме и умерла. Он получил печальную весть, столь отличную от того, что он ожидал; когда я увидел его, он только что оправился от последствий попытки самоубийства с помощью яда.
Это печальная история одного из тех, с кем я познакомился в Верхоянске, рассказанная им самим и переведённая мне Лионом. Доктор Белый не был нигилистом или вообще воинственным в своих политических взглядах, и, следовательно, не пользовался особой благосклонностью Лиона и его товарищей. Однако он был в хороших отношениях с исправником и другими, которые искренне его любили; и всё же ему не разрешалось заниматься своей профессией ради заработка, а только заменять старого слепого врача.
Действительно, ссыльным не разрешается заниматься каким-либо бизнесом, работать по своей профессии, преподавать в школе, обрабатывать землю, или наниматься на какую-нибудь работу иначе, чем через начальство. Если мне нужна была какая-нибудь услуга, ссыльный иногда приходил и предлагал её выполнить, но мне приходилось платить его начальнику, от щедрости которого зависело его вознаграждение. Это чудовищная ошибка! Россия тщетно стремилась заселить Сибирь в течение тысячи лет, и она никогда не добьётся успеха, пока будет продолжать свою нынешнюю политику превращения страны в огромную тюрьму, где заключённым не дают честно зарабатывать на жизнь, и поэтому их, если они уголовные преступники, толкают к совершению следующих преступлений. Несомненно, в России и Сибири есть преступники самого худшего сорта, но очевидно, что их способ наказания никогда не будет способствовать их перевоспитанию и исправлению; и совершенно невозможно, чтобы Сибирь при её нынешней системе управления когда-либо будет заселяться и развиваться, как это было в исправительных колониях Франции и Англии.
Невежественные туземцы очень боятся всех ссыльных, потому что им рассказывают всякие преувеличенные истории о зверствах нигилистов, а полицейское начальство всегда настороже в ожидании протестов или восстания. Меня очень позабавил Кочаровский, который рассказывал мне, что живёт в постоянном страхе, как бы кто-нибудь из ссыльных не убил его. Он показал мне длинный нож и револьвер, которые, по его словам, всегда лежат радом с его кроватью, а в прихожей всегда ночевал казак. Лион подтвердил это, сказав, что он и его товарищи находили неиссякаемый источник веселья в запугивании полицмейстера, казачьей стражи и торговцев, которые продавали им товары с разорительной скидкой, чтобы, как они сами признавались, задобрить их и избежать их мести.
«Но, – говорили Леон и его друзья. – чего ради мы должны убивать этих бедолаг? Что хорошего это принесёт? Конечно, если бы их смерть могла принести нам свободу, мы были бы не прочь убить хоть тысячу, но это никак нам не поможет».
Ещё один эпизод из жизни ссыльных в Верхоянске, и я оставлю их наедине с их горестями. Я заметил, что стены их жалкого жилища были украшены картинками из журналов, но были и две заметные картины: одна фотография, а другая гравюра из какого-то журнала. Они висели лицом друг к другу на противоположных стенах, и я был поражён их сходством; на гравюре я узнал мёртвого царя. Он лежал в торжественной позе у окна, одетый в свой мундир, его руки держали распятие и покоились на груди.
Один из ссыльных, Арцыбушев, наблюдая, как я молчаливо рассматриваю картины, подошёл и сказал: «Эти два человека очень похожи, не так ли?»
Они, конечно, были похожи; заострённые смертью лица, одинаково уложены волосы и бороды, и я подумал, что оба были изображениями царя, о чём и сказал. Ссыльный улыбнулся: «Нет, – сказал он, – на фотографии мой брат, погибший от холода и голода в проклятых застенках Петропавловской крепости на Неве. Его тело было сфотографировано на носилках возле одного из орудийных портов, который похож на дворцовое окно, возле которого лежит труп царя. Мои враги убили моего брата в крепости, а мои друзья убили царя в его дворце – "то, что равно – равно во всех своих частях" – мёртвый нигилист и мёртвый царь!»
Он засмеялся и добавил, что его арестовали и отправили в ссылку из-за смерти брата, что у него была возлюбленная, с которой он был помолвлен, и что она тоже была сослана в Архангельск; но ей было разрешено присоединиться к своему возлюбленному в Верхоянске. Он был типичным нигилистом, какими их изображают в наших комиксах: с длинными густыми черными волосами, смуглый, стройный, с тонкими чертами лица, с блестящими глазами и блистательным умом. Он с улыбкой рассказывал мне, что каждый день ожидает свою возлюбленную и что если я не увижу её в Верхоянске, то непременно встречу по дороге. Она приехала в день моего отъезда – молодая и привлекательная, среднего роста и с прекрасной фигурой, у неё были светлые глаза и волосы, слегка вздёрнутый нос и красивый рот с пухлыми вишнёво-красными губами. У неё было с собой несколько французских книг, которые она, по её словам, намеревалась перевести. Она свободно говорила по-французски и по-немецки, но очень плохо знала английский. В этот раз я видел её всего несколько минут, но мы ещё встретились позже, когда я ехал на поиски на север и возвращался с них.
Вечером 15 декабря Бартлетт и его спутники благополучно прибыли из Булуна, и я немедленно приступил к подготовке для их поездки в Якутск. Они основательно разместились в доме казачьего командира, где у них было много хорошей еды и достаточно водки, чтобы хорошо провести время. К их прибытию я заготовил хороший запас хлеба и говядины, нарезанной и замороженной для путешествия кусками нужных размеров. А сам я страдал от сильной простуды, первой, которую я подхватил с тех пор, как покинул Соединённые Штаты, и произошло это следующим образом.
Когда я впервые заявился в дом исправника, он, кажется, что-то заподозрил насчёт моей чистоплотности, в чём, впрочем, был прав, потому что у меня самого были большие подозрения в том же направлении; поэтому, когда он предложил принять ванну, я с радостью согласился. Затем он приказал казаку приготовить ванну и принёс мне чистое нижнее белье и костюм из серой ткани.
«Вы знакомы с баней?» – спросил он.
«О, да!» – самоуверенно ответил я, потому что не мог подумать, что в таком простом деле могут быть какие-то непостижимые нюансы.
Итак, в сопровождении казака, который нёс мою одежду, полотенца и тому подобное, я отправился в баню, которая находилась в сотне ярдов от дома исправника. Я обнаружил, что это здание, примерно восемь на десять футов, и высотой семь футов, дверь была обита коровьей шкурой и войлоком, чтобы избежать потери тепла, но пол был земляной, а в углу стояла каменная печь с дымоходом. Мебель в бане состояла из одного табурета и маленького столика, также были две большие ванны, наполненные водой, одна горячая, а другая холодная, с плавающими в ней кусочками льда, две полки, одна примерно в двух футах от земли, другая около пяти футов, и обе достаточно широкие, чтобы на них мог лежать купальщик, несколько небольших деревянных сосудов, железный ковш и пара простыней, для обёртывания. В боковой части печи было большое отверстие, из которого пламя и дым устремлялись в комнату, а сверху дымохода в качестве заслонки была положена доска.
Теперь казак велел мне раздеться. Я так и сделал. Он наполнил водой ковш и спросил, готов ли я. Я сказал: «Да», и он плеснул водой в раскалённую печь через отверстие. Оттуда вырвался густой пар, и казак, посмотрев на меня, спросил: «Ещё?» Я согласился, и он вылил ещё один ковш, после чего верхняя часть здания наполнилась паром. Он искоса взглянул на меня и снова спросил: «Ещё?»
«Да, да! – сказал я нетерпеливо, – Лей ещё, много!»
Казак быстро плеснул пару ковшей в печь, а затем, пригнув голову, выскочил из дверей, как будто бросил в огонь гранату.
В комнате горели две свечи – одна на столе, другая на верхней полке. Последняя погасла в одно мгновение. Я снова зажёг её от другой и, предчувствуя недоброе, поставил обе на пол, где их пламя стало синим. Тем временем обжигающе горячий пар опускался всё ниже и ниже. Я присел на корточки, но он последовал за мной. Свечи замерцали и погасли. Перспектива оставаться в темноте и быть задушенным или ошпаренным до смерти мне не понравилась, поэтому, забыв о простынях, я бросился к двери и выскочил наружу, окутанный густыми клубами пара.
Казак в испуге убежал домой, а я остался ждать выхода пара, в голом виде пританцовывая на пятидесятиградусном морозе. Вскоре я увидел, как поток холодного воздуха втекает в двери бани, вытесняя из неё раскалённый пар, и пополз внутрь на четвереньках, а когда всё остыло, закрыл дверь и неторопливо искупался в одной из ванн, разбавив в ней воду до нужной температуры. Когда я, наконец, вернулся обратно и рассказал Кочаровскому о своих приключениях, он сказал, что казак подумал, что я намеревался сварить себя, и правда, на меня это так подействовало, что первое восклицание Бартлетта при встрече со мной было: «Ого! – что это они с вами сделали?»
Возможно, он имел в виду мою новую одежду, но, во всяком случае, простуда не отпускала меня, пока я снова не начал жить на открытом воздухе и спать в снегу.
Время моего отъезда из Верхоянска было назначено на утро 18 декабря, но у исправника оказалось много почты для отправки, так что в последний момент отъезд пришлось отложить, и мы отправились в полночь. Перед отъездом Кочаровский сказал мне, что, как только мои депеши прошли через его руки, он послал сообщение в Нижне-Колымск, чтобы там внимательно следили, не появятся ли на побережье какие-нибудь незнакомцы, и вот он получил известия с Колымы о том, что пока второй куттер или его люди замечены не были.
Моё путешествие в Якутск, хотя и проходило по большей части на северных оленях, было не таким быстрым, как между Булуном и Верхоянском. Зимой места здесь удивительно красивые: холодно, безлюдно, высокие густые леса с проблесками неба в вышине, стремительный бег оленей под ветвями вечнозелёных деревьев, миля за милей деревья, склонившегося под тяжестью снега до самой земли, неописуемая гонка по холмам и горам, вокруг оврагов и ущелий, через многочисленные реки, речки и ручьи, по шатким мостам и краю глубоких оврагов, – я не смыкал глаз, очарованный быстрой сменой пейзажей, диких и странных.
На станциях мы встречали бродячих торговцев с их длинными вереницами саней, запряжённых оленями и с караванами навьюченных лошадей. Пять пудов – стандартный вес груза для одной лошади, груз укладывается в ящики, которые перевязываются сыромятными ремнями и привязываются к седлу по бокам лошади. Многие торговцы используют лошадей и северных оленей для перевозки своих товаров круглый год. Мы иногда встречали длинные караваны вьючных лошадей, привязанных друг за другом к хвостам, с одним проводником рядом или впереди и другим всадником сзади, чтобы присматривать, чтобы никто из лошадей не отбился и не потерялся груз. Станции сдаются правительством своим представителям, которые сдают их в субаренду якутам и другим подрядчикам, которые, в свою очередь, содержат станции в порядке и перевозят пассажиров и грузы по цене три копейки за версту для пассажира или каждые пять пудов груза. Конечно, между смотрителями станций и путешественниками или торговцами идут бесконечные споры.
В этой части Сибири очень много тягловых лошадей и крупного рогатого скота, которые в зимние месяцы содержатся, как правило, под одной крышей со своими владельцами – часто в одних и тех же помещениях. Однако я заметил, что лошади не содержались в конюшнях даже в самую суровую погоду, за исключением, конечно, лошадей богатых людей, которые используются только для экипажей или саней. Бедные животные вынуждены рыться в глубоком снегу в поисках травы, как олени в поисках своего мха. Травы здесь, хотя и грубые, но сочные и питательные, так как за короткое жаркое лето они едва успевают вырасти, и когда быстро наступает зима, она замораживает и сохраняет их питательные соки; однако сибирская лошадь, как и испанский мул, не ограничивает свой рацион одной травой, а, по-видимому, может есть гораздо более грубую пищу. Я видел, как лошадь на ходу, пошатываясь под тяжестью груза, срывает зубами ветки берёзы и даже сосны. Лошади на станциях получают лучший уход, так как их кормят сеном, подстригают и лечат в течение лета, но к северу от Якутска лошади очень редко получают какой-нибудь уход или кров. Их можно видеть до самого Верхоянска, где по снежным равнинам бродят много диких лошадей, но я видел их нечасто. Погонщик лошадей имеет при себе приспособление в виде деревянной палки, в которую вделана полоса железа с треугольными зубьями, и этим он соскабливает иней и снег с лошадей, когда они останавливаются отдохнуть или прибывают на станцию.
Первую часть нашего путешествия, до станции Киенг-Юрях[90], мы проделали на оленьих упряжках. Пересекая один из притоков реки Яна[91], мы внезапно оказались в странном затруднительном положении, хотя температура упала до минус 40° по Реомюру[92], на льду реки было от десяти до пятнадцати дюймов воды; и, прежде чем мы смогли что-то понять, на полном ходу въехали прямо в неё. Лёд под водой был очень скользким, олени едва могли удержаться на ногах и кое-как брели в воде, которая текла здесь поверх льда на расстоянии нескольких миль. Олень, запряжённый в сани Паневича, упал, погонщики спешились и, по колено в воде, отнесли моего друга на берег, где ему предстояло совершить одинокую прогулку в милю или две. Тем временем туземцам кое-как удалось поднять и удержать упавшего оленя; а мой ямщик пробрался вброд вперёд и, возглавив обе наши упряжки, добрался до крутого берега и взобрался на него. Такие затопления льда, которое якуты считают очень опасным, вызвано гидравлическим давлением воды подо льдом, которое поднимает ледяное ложе и, наконец, разрывает его, и вода продолжает вытекать до тех пор, пока давление не уменьшится, после чего снова замерзает.
Но мы были здесь в полночь, в тридцати верстах от какой-либо станции или поварни, и при такой низкой температуре, что я до сих пор с дрожью вспоминаю это. К счастью, якуты знали, что недалеко в лесу есть хижина, и мы отправились туда, где они развели костёр и высушили свою обувь и одежду; а Паневич заслужил их наилучшей похвалы, угостив каждого глотком водки. На рассвете мы снова отправились в путь, пробираясь в обход затопленного льда, а Паневич, который, как я заметил, так же, как и ямщики, был очень встревожен, воспользовался случаем и рассказал мне, что эти разливы очень опасны. Они происходят иногда с такой силой, что гибнут люди, и бывало, что целые упряжки с оленями, погонщиками и пассажирами замерзали до смерти, когда внезапно попадали в воду и промокали насквозь.
24 декабря, в темноте, мы прибыли на станцию Киенг-Юрях. Здесь мы встретили замечательного толстого купца, только что прибывшего из Якутска, который знал моего попутчика и был полон гостеприимства и добродушия. Этот восторженный парень устроил шикарный ужин первому американцу, которого он когда-либо видел. Тем более, что нам и так надо было остановиться здесь отдохнуть, так как это последняя оленья станция на дороге в Якутск, и расположена она на горном водоразделе между Верхоянским и Якутским округами. Уже на следующий день мы тронулись в путь около десяти вечера и ехали всю ночь, перейдя через водораздел примерно в полночь.
Было очень холодно – просто ужасно! – где-то минус 40°-45° по Реомюру, мягко светил чудный лунный свет! Мы находились примерно в 4500 футах над уровнем моря, в безлюдных величественных горах, и, сняв с себя лишнее, пешком поднимались по крутому склону вслед за нашими упряжками. Над нами по обе стороны высились гигантские вершины, безмолвные, холодные и белые. Ах, как это было великолепно! Я наслаждался этой тихой и морозной ночью, а эти снежные вершины, купающиеся в серебряном сиянии полярной луны, наполняли меня благоговением. Я ещё раз был потом в этом месте, но уже не был так очарован, как в ту чудесную ночь, и великолепие, которое я тогда увидел, никогда не исчезнет из моей памяти.
Добравшись до перевала, мы на некоторое время остановились отдохнуть, а затем связали четверо саней по двое в ряд, с погонщиком, сидящим впереди на каждой паре, и оленями, запряжёнными сзади. Когда всё было готово, туземцы подвели сани к краю спуска, и они нырнули вниз. Я ожидал увидеть, что они кубарем покатятся вниз, но нет, погонщики тормозили и управляли ногами, а олени в это время придерживали сзади. Так они благополучно проехали около ста ярдов, потом остановились в глубоком снегу, подождали пока испуганные животные не успокоятся, а затем снова покатились ещё полторы мили. Склон был так крут, что я с трудом мог стоять на нём, поэтому я взял в руки палку, сел и помчался вниз, как на санках. Напрасно я пытался уменьшить скорость, вонзая палку в снег между ног, это только развернуло меня, и дальше я уже то скользил, то кувыркался до конца склона, пока, наконец, не остановился возле саней, обалдевший от такого спуска. Да ещё пришлось раздеваться на холоде, чтобы вытряхнуть снег из одежды, которого туда набилось великое множество, особенно в выпуклую часть моих штанов.
Ближе к рассвету мы наткнулись на семейство кочевых тунгусов, которые расположились в распадке в шатре из бересты и оленьих шкур. Нижняя его часть, высотой около трёх футов, была в виде вертикального цилиндра, а выше вокруг шестов, образующих конус, были натянуты шкуры. Обитатели выглядели совершенно убого: две или три женщины и выводок детей в рваных мехах лежали на полу вокруг тусклого костра. Мы приготовили наш чай, а женщины принесли свой чайник, чтобы заварить наш чай для себя. Вскоре мы снова двинулись в путь, и остановились у поварни, в которой бедная женщина только что родила маленького якута. Наши погонщики развели костёр и согрели хижину, а мы заварили чай и напоили её. Она уложила своего ребёнка в деревянную люльку и казалась здоровой и совершенно счастливой.
Туземцы становились всё более опустившимися и развращёнными по мере того, как мы продвигались на юг; те, кто жил ближе всего к Якутску, были самыми отвратительными по своей внешности и привычкам и, по-видимому, лишены какой-либо морали. Все они живут под одной крышей со своим скотом, некоторые, однако, с перегородкой из прутьев между их комнатами и стойлами. Здесь требуется огромное терпение, чтобы справиться с невыносимо ленивыми ямщиками. Когда упряжка запряжена и пассажир собирается уже сесть в сани, его ямщик неспешно произносит: «Одну минуту, я не курил», что обычно означает, что он не обедал, не пил чай, не курил трубку и не пил чай снова, пока всё это не затянется на час или два. Поторопить их нет никакой возможности, сколько бы вы ни старались. При необходимости они удирали к соседям и пили чай там, а потом ещё где-нибудь, пока я тщетно рыскал по лесу и обыскивал юрты и конюшни.
В одном месте, где мы остановились на несколько часов, у туземцев в хижине лежала мёртвая лошадь, где, я думаю, она и сдохла. Туша была цела, за исключением того места, где они частично содрали кожу от живота до задних ног, а также сре́зали и съели мясо с бёдер. Животное даже не было выпотрошено, и смрад, исходившая от него, была настолько невыносимой, что я забрался в свой спальный мешок и лёг в сани, чтобы не оставаться в хижине, пока мы ждали смены лошадей. А туземцы отреза́ли мясо и готовили его, даже не морщась. И при этом здесь производится много говядины для якутских рынков и золотых приисков на юге, хотя, это правда, что у туземцев, когда они заплатят все налоги, почти ничего не остаётся, а сборщики налогов в Сибири неумолимы.
Почти все жилища зажиточных якутов имеют примитивные мельницы, на которых туземцы перемалывают за раз пригоршню ржи и запекают тесто на конце палки или размешивают муку в горячем молоке. Эти мельницы сделаны из деревянного круга из ствола большого дерева и пары каменных жерновов. Круг устанавливается на трёх ножках, с штифтом в центре на который насаживаются нижний и верхний каменные жернова. По периферии круга прикреплён жёлоб из бычьей шкуры, в который сыпется из-под жерновов готовая мука и затем под наклоном ссыпается в ёмкость, стоящую на полу. В верхний камень вставлена вертикальная ручка для вращения одним или двумя людьми, а иногда крепится жердь, подвешенная к потолку, и две женщины, сидящие друг напротив друга, крутят его, одна из них время от времени бросает щепотку зерна в отверстие верхнего жернова. Сначала я был немного удивлён тем, с какой лёгкостью эти примитивные жернова вращались; но, подняв верхний камень, я обнаружил, что хитрый якут вставил в трущиеся поверхности обоих жерновов маленькие кубики кремня. Мука непросеянная и грубая, а мякина подмешивается в хлеб, как в дельте во времена голода для этого используют древесную труху. Из муки замешивают тесто, лепят продолговатые, в виде огурца, булочки на палочке, втыкают в золу и медленно поворачивают перед огнём, а иногда делают лепёшки и запекают на доске, установленной под углом перед огнём.
Якуты ведут жалкое существование, а их женщины особенно. Все они попрошайничают, лгут и воруют; они оборваны, больны и нечисты. По мере того, как мы подъезжали к Якутску, я заметил, что число слепых стариков и женщин не уменьшалось, и что способ омовения, заключающийся в том, чтобы брызгать водой изо рта в ладони, а затем мыть ею лицо, таким образом передавая болезнетворные бактерии изо рта в глаза, был общим для всех. В их жалких хижинах я иногда встречал ссыльных, политических или уголовных, расселённых по туземцах. Среди ссыльных было много евреев, которых как якуты, так и русские называли иудеями, которые, верные своим традициям, упорно стремились, хотя и были бедны, как церковные мыши, заниматься мелкой торговлей.
Ссыльные изгнанники! Захватывающая тема, на которую, имея больше времени, я с удовольствием бы распространялся, ибо видел и слышал столь многих из них, что, я уверен, это было бы интересно читателю. Представьте себе поэта и литератора, ту редкую русскую душу, подобную Тургеневу, чьё чудотворное влияние должно в конечном счёте просветить и освободить людей, замурованных на всю жизнь в этой снежной пустыне. И такой человек существовал, и даже варварство его окружения не смогло привести его в уныние и охладить пыл их таланта. Из-под его плодовитого пера лился непрерывный поток знаний и света, он писал и писал, забывая в этом свои обиды и печали. Власти были вне себя от радости, увидев его в таком умонастроении; они поощряли его творческую фантазию, ибо его слава опередила его; они поселили его в удобном доме и берегли, как курицу, несущую золотые яйца, чтобы они могли их собрать и продать; они дали ему прислугу, которая могли следить, чтобы ни одно яйцо не пропало; и даже архиерей соизволил присвоить себе перевод Библии, который сделал для него учёный изгнанник.
Но вскоре он увидел всё это и понял, насколько ценным он стал в глазах своих похитителей, и поэтому предусмотрительно стал использовать свои таланты в своих интересах. Его друзья в России усердно искали и нашли, наконец, казака, который имел заметное сходство с ним, – его двойника – чтобы заручиться его согласием, обучить его манерам и речи, подстричь-побрить, вылепить его личность по образцу ссыльного, пока внешне они не станут одним и тем же, и подмена будет почти совершенной, и, в конце концов, отвезти его в Сибирь и подменить, – для достижения этой цели изгнанник трудился со сверхчеловеческими усилиями, и плодовитость его ума умножилась многократно от опьяняющей надежды на свободу, – один благословенный час которой, как говорят, стоит целой вечности рабства. И настал, наконец, славный день, когда, оставив своего хорошо обученного двойника играть свою роль и прикрывать свой побег, счастливый изгнанник обрёл свободу и отправился в обратный путь, который он – увы! – так и не закончил… непостоянство судьбы и необязательность друзей, небольшой сбой в тщательно разработанных планах, какая-то соринка в отлаженном механизме —и все надежды рухнули, – его схватили и снова похоронили заживо, на этот раз без всякой возможности воскрешения![93]
Самыми хорошо одетыми и счастливыми из всех ссыльных, которых я видел в Сибири, были те, кого называли «скопцы». Это религиозная секта, чьё учение в последние годы широко распространилось по империи, и чьи приверженцы, похоже, успешно противостоят преследованию со стороны российского правительства. Особенностью секты является то, что она может существовать и расти только путём приёма новых членов, поскольку члены её обоих полов настолько калечат свои детородные органы, что не могут ни зачинать, ни рожать детей. Однако они не живут отдельно от других мирян, в отличие от американских «шейкеров», с которыми они, похоже, очень хорошо знакомы и называют их «влажными», а себя – «сухими» скопцами. Они обучаются всяким ремёслам, не пьют спиртного и не едят мяса, они живут в общинах, подчиняются законам и полиции, занимаются исключительно сельским хозяйством, и, подобно шейкерам, поставляют на рынки всевозможные продукты. Женщины иногда покидают общины, но мужчины не могут, и я видел одну женщину, которая вышла из секты и родила ребёнка своему новому мужу; но из-за того, что у неё были удалены молочные железы, она не могла кормить грудью.


