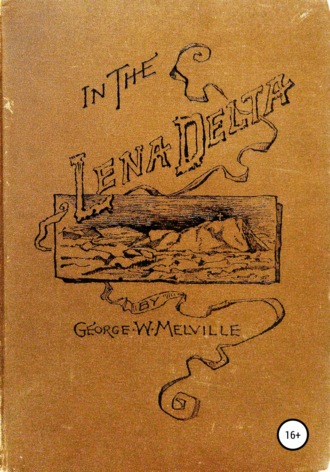
Джордж Мельвилль
В дельте Лены
Глава XXVII. По Сибири
Встреча с Берри и Хантом – В долине Алдана – «Мрачный Джон» – Семья тунгусов – Путешествие по затопленному району —Переправа через Алдан – Живописная сцена – Прибытие в Якутск – На борту «Пионера» – Комары – Ленские столбы – Пропускаем отряд Харбера – Купеческие баржи – Киренск – На «Константине» и лодках – В тарантасе – «Иван», вымышленный друг – Иркутск – Приключения моих часов.
Утром 21 мая лейтенант Берри и мичман Хант с погибшего парохода «Роджерс» прибыли в Киенг-Юрях в сопровождении корреспондента мистера Джона П. Джексона, художника мистера Ларсена, отряда казаков и моряка Нороса, который путешествовал по дельте Лены в качестве гида и слуги мистера Джексона. Лейтенант Берри и мичман Хант привезли с собой русского мальчика, которого они привезли откуда-то с берегов Камчатки и который с тех пор служил им переводчиком.
Конечно, никогда в жизни я не был так рад видеть двух белых мужчин, как сейчас при виде Берри и Ханта. Они прошли на запад почти две тысячи миль вдоль берега Северного Ледовитого океана, от Восточного мыса до устья Яны, и прибыли в Усть-Янск всего через два-три дня после моего отъезда. Там они впервые узнали о том, что я нашёл и похоронил погибших из отряда Делонга, а также о моей попытке найти какие-либо следы бедного Чиппа. Берри поспешил догнать меня, захватив с собой приличный запас хлеба, в котором мой отряд остро нуждался, и, таким образом, фактически частично выполнил миссию, которую изначально планировал: а именно, помощь людям с «Жаннетты». И, повторяю, мне было очень приятно встретиться с двумя моими соотечественниками и притом сослуживцами в этом отдалённом и безотрадном месте.
После долгих рукопожатий и многочисленных расспросов о делах на родине и наших общих знакомых мы приготовились на следующий день попытаться пройти перевал и добраться до следующей станции. Итак, ранним утром мы отправились в путь и после тяжёлого перехода разбили лагерь в долине на другой стороне. Наш отряд теперь насчитывал пятнадцать человек, и наши лошади едва могли волочить ноги. Мы ехали на них от поварни до поварни, отпуская на каждой остановке пастись на прошлогодней листве и кустарнике. В этом долгом путешествии нас очень развлекал один из присоединившихся к нашему отряду. Он немного овладел русским языком и кричал туземцам: «Ямщик, ямщик, сколка верста до станция?»
Ямщик, к которому он обращался, указывал ближайшее расстояние, какое он знал, а наш нетерпеливый компаньон обиженно жаловался, как ребёнок: «Врёшь ты всё! Ты ещё час назад говорил, что восемьдесят…»
А если этому вечно раздражённому члену нашего отряда попадалось неудобное седло, то недовольные вопли и проклятия седлу, лошади, уздечке и всем якутам вообще продолжались до следующей перемены лошадей. Наконец ему в голову пришла блестящая идея. Он как-то заметил, что, если на перемене лошадей подарить несколько рублей ямщику или начальнику станции, то седло и упряжь оказываются гораздо лучше. И потому какое-то время он был не так несчастен. Но вскоре ему опять попалось неудачное седло и стремена не по росту, и, судя по тому, как он ворчал о своей еде, питье и сне, о небе над головой и земле под ногами и вообще обо всём, что его окружало – я всерьёз засомневался, что ему понравится его нимб, если он всё же попадёт в Рай, что, на мой взгляд, весьма маловероятно. Я думаю, что попади он на Небеса, со всеми его воображаемыми удобствами и великолепием, он всё равно будет жаловаться, что в Аду, говорят, развлечения лучше. Я так прямо выражаюсь просто потому, что за всё время моих путешествии или даже моей жизни я никогда не сталкивался с таким придирой и критиканом. Он был недоволен всем и даже тем, что остальным казалось просто роскошным, хотя иногда мы предпочли бы, кончено, ещё лучшее, если бы обстоятельства позволили. Однако «Мрачный Джон», как его вскоре окрестили, не делал таких допущений. Ну, а когда мы обнаружили его неблаговидные дела с подкупом ямщиков и станционных смотрителей, долгом одного из нас стало садиться, якобы случайно, не на ту лошадь – и ехать как ни в чём ни бывало, к большому неудовольствию «Мрачного Джона».
Мы разбили лагерь в долине к югу от Киенг-Юряха в маленькой старой хижине, с протекающей крыши которой капала вода, а пол был покрыт льдом. Некоторые легли спать снаружи на постели из ветвей сосны, ели и болиголова, рядом с большим костром, на котором мы зажарили оленину; с чаем, сахаром и остатками чёрного хлеба, который привёз нам Берри, она составляла нашу вечернюю трапезу. Хорошо отдохнув за ночь, мы отправились в путь до следующей станции, расположенной в пятидесяти верстах, рядом с местностью, которая была сейчас затоплена. Туземцы покидают такие затопляемые места, уходя на возвышенности, и поэтому следующая за этой станция была бы слишком далеко, на расстоянии ста двадцати вёрст, и во всём этом расстоянии мы не нашли бы ни людей, ни лошадей, ни дичи и ничего съестного. Поэтому мы остановились на двое суток, чтобы дать нашим лошадям отдых и возможность полакомиться сухой травой, которая появилась из-под тающего снега.
Расположившись в старой поварне, мы убили одного из оленей, которых вели с собой в качестве еды, а остальных привязали там, где уже показывался олений мох. Как раз в тот момент, когда мы прибыли на станцию, от неё отъезжала семья тунгусов: муж, жена, мальчики, девочки и младенцы, верхом на спинах или, скорее, на плечах северных оленей. Двое маленьких детей были подвешены по обе стороны от оленя с помощью ремней. И малютки, казалось, совсем не были обеспокоены своим положением; и здесь я должен решительно отметить превосходный характер и примерное поведение как якутских, так и тунгусских ребятишек по сравнению с детьми просвещённого христианского мира.
Затопленный район, который был так густо заселён прошлой зимой, теперь представлял собой картину запустения. Мы проезжали через деревни, состоящие из десяти-пятнадцати юрт, настолько разрушенных наводнением, что уцелели только ободранные стены, которые нужно будет заново засыпать землёй на зиму. Почва у берегов реки была покрыта короткой кочковатой травой, с участками гладкого льда между ними, на которых наши слабые и неподкованные лошади скользили и теряли равновесие… и седоков. Почти беспрерывно шёл дождь – холодный, похожий скорее на мокрый снег; мы постоянно чувствовали себя промокшими и продрогшими, и даже ругательства и жалобы нашего мрачного товарища не могли нас развеселить. По вечерам в поварнях его лицо несколько оживала, но только при условии, что в течение дня удалось раздобыть по утке на каждого либо купив их, либо благодаря охотничьему мастерству наших казаков. Тогда он снисходил до скупой улыбки нашему повару Ефиму, который, сложив разделанных уток в сковороду с длинной ручкой, жарил их на смеси масла и жира с солью и перцем. Да-да, я искренне верю, что он не только выглядел, но и действительно временами радовался – если первым получал чашку чая или утку, если она была большой, жирной и правильно прожаренной, – но, если не все эти «если» были выполнены – будьте уверены, он был глубоко несчастен.
Так мы продвигались вперёд, по большей части счастливые и довольные, хотя и мокрые, продрогшие, грязные и вшивые, пока 31 мая не прибыли на берег Алдана. Расположившись на берегу и разведя костёр, мы начали звать паромщика на другой стороне, стреляли из ружья, чтобы привлечь его внимание, но тщетно. Наконец мы послали одного казака переправиться на лодке, которую нашли на берегу; и, ожидая его возвращения, с интересом наблюдали за печальным опустошением, которое наводнение произвело на берегах этого большого притока Лены. Чудовищные глыбы льда размером с приличный дом лежали на берегу, а вода местами поднималась на высоту сорока футов, о чём свидетельствовал плавник, застрявший в ветвях деревьев; тысячи их были вырваны с корнем и унесены в море, чтобы много-много месяцев плыть северо-западным курсом и оказаться в конце концов в Атлантическом океане, или быть подхваченным южным течением и усеять берега восточного побережья Шпицбергена.
В два часа ночи 1 июня нас переправили через Алдан в большой плоскодонной лодке, похожей на рыбацкую лодку Новой Англии, но более острой в корме и большей седловатостью палубы. Она была около шестидесяти футов в длину, десять-двенадцать футов в ширину и четыре фута в глубину; открыта от носа до кормы, но с приподнятой площадкой посередине, на которой сидели пассажиры. Гребли на ней восемь человек, им помогали некоторые из нас. Картина была очень живописной! Грубо сколоченная лодка, дикого вида гребцы, мы сами, если уж на то пошло, ещё более дикие на вид, одетые в лохмотья и звериные шкуры, с оружием и другими атрибутами арктических путешественников, и тёмная, холодная река, ледяные глыбы, стоящие в безмолвном прибрежном лесу, как дачные домики и полное безлюдье, – я никогда этого не забуду, и, хотя меня тогда охватила слабость и болело сердце, я был счастлив, как ребёнок, что дожил до этого момента своей жизни.
Высадившись на другой стороне, мы вскоре разместились в удобной юрте и хорошо поужинали утками, и здесь нам впервые рассказали о том, как спаслись в наводнение Бобоков, Калинкин и Гилдер. Я не мог выдвинуть весь свой отряд на следующий день, так как лошади, которых нам предоставили на здешней станции, явно ещё не оправились от изнурительной работы прошедшей зимой; поэтому я послал Бартлетта и одного казака вперёд, чтобы подготовить нам путь, и решил оставить пока одного казака и одного из моих людей здесь, чтобы позже они последовали за нами с багажом.
Путешествие от реки Алдан до Якутска было очень утомительным и неприятным, но наконец 7 июня мы прибыли и были встречены всеми должностными лицами города. Мадам Лемперт приготовила нам превосходный обед, и затем мы отправились в «Американский Балаган», наши старые апартаменты в предыдущую зиму, где мы нашли Гилдера и Бартлетта.
На следующий день в сопровождении лейтенанта Берри я посетил генерал-губернатора, который принял меня с распростёртыми объятиями, назвал своим сыном и горячо обнял со слезами на глазах, как будто я был его самым близким, только что восставшим из могилы. Он похвалил меня за успех моих поисков; по его словам, он гордился тем, что у него есть такой «сын». На следующий день он пригласил лейтенанта Берри и меня на ужин, чтобы встретиться с вице-губернатором и лейтенантом ВМФ России господином Юргенсом[146], который в то время находился в Якутске, готовясь отправиться в дельту Лены, чтобы установить метеорологическую станцию и провести исследования тех мест[147].
Лейтенанты Харбер и Шютц ещё не выехали из Витима, где они занимались снаряжением небольшой шхуны и нескольких малотоннажных лодок для поисков в Дельте, благоразумно отказавшись от первоначальных планов зафрахтовать пароход «Лена». Я был разочарован тем, что не встретил их в Якутске, и поэтому, собрав достаточно денег, чтобы расплатиться со всеми своими долгами и покрыть расходы на поездку в Нью-Йорк, решил сразу же отправиться в Витим.
Генерал-губернатор устроил прощальный завтрак, на котором мы все собрались, было много тостов, приветственных речей и пожеланий счастья и процветания друг друга. Затем в сопровождении губернатора и множества друзей мы отправились на пароход «Пионер», который должен был доставить нас вверх по реке до Витима. Весь Якутск вышел нас провожать, и около пяти часов вечера 11 июня мы медленно двинулись вверх по Лене.
Пароход был маленьким, грязным, а в каютах жарко. Установилась тёплая погода, и мы не знали покоя от комаров. «Пионер» медленно продвигался против быстрого течения, временами вообще не двигаясь, или шёл зигзагом, избегая отмелей и перекатов или уворачиваясь от водоворотов. Для меня было загадкой, как им управляли, потому что, казалось, была только одна бессменная вахта, которые стояла день и ночь без отдыха. Мы спали в двух маленьких каютах, одна в носу, а другая за гребными колёсами; к счастью, других пассажиров не было. Мылись мы в палубном ведре, набирая воду из реки и используя наше собственное мыло и полотенца. Мы договорились платить шесть копеек за версту и два рубля в день за еду, но так как неизменный рацион из варёной говядины и чая нам скоро надоел, мы стали покупать молоко, яйца и другую провизию на остановках, где пароход запасался дровами, и, если бы не комары, то мы бы считали, что вполне приятно проводим время.
Однажды вечером, сидя на прохладном ветерке на носу лодки, мы увидели впереди то, что показалось нам большой песчаной отмелью, и поэтому предупредили об этом лоцмана. Но каково же было наше удивление, когда при приближении к отмели мы обнаружили, что она вдруг поднялась в воздух и устремилась на нас, как клубы дыма. Это была туча комаров! Несмотря на наши плотно заправленные в воротники пальто накомарники с окошками из конского волоса, насекомые всё равно каким-то непостижимым образом приникали внутрь и лезли в глаза и нос. Не помогали и наши перчатки из оленьей кожи с завязками на запястьях – эти крошечные мучители всё равно доставали нас. В моей меховой шапке было только одна маленькая дырка – и через него они накусали меня в макушку. Они были просто повсюду!
На второй день и в течение двух последующих мы проплывали мимо самых замечательных скал, которые я когда-либо видел. Местами они возвышались на высоту двух и более тысяч футов[148], на многие мили, казалось, прямо из реки поднимался непрерывный строй диковинных скал, как стена величественной средневековой крепости, украшенная зубцами, башнями и контрфорсами. С палубы парохода скалы имели цвет и вид коричневого песчаника, но я не мог с уверенностью сказать на таком расстоянии[149]. Они не имели правильной или регулярной структуры, которой обычно обладают колонны базальта, и я не припомню ничего, что напоминало бы мне это восхитительное творение природы.
Утром 15 июня капитан «Пионера» сообщил мне, что ночью нам встретился пароход, тащивший на буксире шхуну и две лодки. Он подумал, что это мог быть отряд Харбера, который я велел ему остановить при встрече, чтобы мы могли посоветоваться; но по глупости или из-за страха потерять прибыль он позволил им пройти. Впрочем, это мало что изменило, потому что через несколько дней мы прибыли в Олёкминск, где я нашёл записку, оставленную для меня лейтенантом Харбером – первое сообщение, которое я от него получил. В нём он высказывал пожелание, чтобы я вернулся в Якутск, если мы разминёмся на реке. Я не считал это совершенно необходимым, так как считал мои безуспешные поиски Чиппа вдоль побережья вполне достаточными, и проведёнными в то единственное время, когда можно было бы найти следы его высадки. И даже если какие-нибудь следы или предметы ускользнул тогда от моего внимания, то к этому времени их уже смыло весенним паводком. И всё же, когда лейтенант Берри собрался отправить мичмана Ханта присоединиться к отряду Харбера, я решил послать с ним Бартлетта, который и сам вызвался поехать. Я также подготовил для отряда письмо с инструкциями и карту дельты, на которой были отмечены все мои маршруты. Возвращаясь верхом в Якутск, Хант и Бартлетт встретили лейтенанта Харбера, который ехал обратно в надежде догнать меня. Он, несомненно, преуспел бы в этом, если бы не встретил Ханта, который передал ему моё письмо и карту[150].
Мы продолжали своё путешествие вверх по Лене; деревень становилось всё больше, хотя все они были небольшими. Здешние жители занимаются всем понемногу: у многих небольшой огород и посевы, несколько голов скота, десяток-другой кур. Также они заготавливают дрова для проходящих пароходов, ловят рыбу и работают перевозчиками на реке. Встречаются множество больших барж, принадлежащих богатым купцам. Это вместительные грузовые суда длиной сорок, иногда до восьмидесяти футов, построенные из тяжёлого бруса, снабжены палубой и скреплены деревянными гвоздями, швы заделаны мхом и залиты смолой. Они строятся на берегах реки в зимнее время и спускаются на воду во время весенних паводков, нагруженные всевозможными товарами, и они плывут вниз по течению, иногда поднимая парус, и управляются с помощью трёх длинных гребей длиной сорок и более футов – они используются не для движения, а только для того, чтобы держать баржи подальше от мелей. Суда эти останавливаются во всех прибрежных деревнях, а в крупных поселениях устраивают базары. Это, конечно, праздник для жителей таких сёл, которые берут нарасхват дешёвые одеколоны и яркие платки, к великому удовольствию преуспевающих купцов.
Мы побывали на нескольких таких баржах, наш спутник и переводчик, капитан Грёнбек, был знаком со многими торговцами, и они принимали нас с особым вниманием. Некоторые баржи были со вкусом обставлены, а купцов сопровождали их жены или на борту было несколько пассажиров. Все эти суда делают Якутск своим конечным пунктом, и, если купцы не полностью распродали по пути свои товары, они проводят оптовый аукцион, а потом продают свои баржи на дрова или на строительные материалы, так как древесина качественная и хорошо обтёсана. Берега реки усеяны обломками этих больших лодок, которые либо потерпели крушение, либо были просто брошены своими владельцами после разгрузки.
В верховьях Лены много деревень ссыльных скопцов. Я посетил одну, в котором жили тридцать три мужчины и три женщины, все довольно бедного вида, но бережливые и вполне преуспевающие. Они мечтали купить ветряную мельницу и молоть на ней муку для всего округа. Скопцы – самые трудолюбивые фермеры на Лене и выращивают почти все овощи в этих местах. Всё их имущество по закону после смерти поступает в государственную казну, но, как рассказывал мне губернатор, перед смертью им всегда удаётся незаметно продать его. Я думаю, что любовь к деньгам является корнем их религиозной одержимости.
Однажды я увидел двух мертвецов, плывущих по реке и видел ещё одного ранее в тот же день. Я доложил об этом капитану, и он сказал: «Да, сегодня утром мы прошли мимо двух других, прежде чем вы встали. Это люди с рудников, которые напиваются в кабаках и убивают друг друга. И тут ещё есть много иудеев, которые убивают людей из-за денег. Я однажды видел сразу пятнадцать трупов, плывущих по реке.» И капитан Грёнбек подтвердил его слова.
Эти преступники, которых отправляют на рудники, представляют собой сборище отчаянных головорезов. Я полагаю, что всех тех, кто работает на Александра Сибирякова[151], хорошо кормят, одевают, платят за работу, – и разрешают посещать кабаки и пропивать свои заработки, что они в основном и делают, а попойки заканчиваются драками и смертями.
В Киренске, большом селе с населением четыре или пять тысяч жителей, мы пересели на пароход «Константин», более мощное и вместительное судно, на котором наше продвижение вверх по реке стало гораздо более ощутимым. Деревни на берегах Лены были теперь на расстоянии в десять-пятнадцать вёрст, а во многих местах и в пределах видимости друг от друга. В Омолое мы сошли с «Константина» и продолжили наше путешествие на лодках. Они около сорока футов длиной и десяти шириной, сделаны в форме вельбота, с острыми носом и кормой, но прямыми бортами и плоским дном. Они управляются длинным рулевым веслом и тянутся тремя или пятью лошадьми верёвкой длиной около пятидесяти ярдов. Один или два всадника ведут лошадей, и плата составляет копейку за версту за каждую лошадь, а также вознаграждение в размере десяти копеек каждому всаднику и рулевому. Скорость движения при этом получается, как при быстрой ходьбе, хотя лошади иногда даже переходят на лёгкую рысь. Пассажиры располагаются на помосте, под укрытием немного меньшим по ширине, чем лодка, и длиной десять футов. Сделано оно из гнутых жердей и покрыто холстом, пропитанным битумом. Спереди и сзади оно открыто для прохождения воздуха, а в дневное время со стороны солнца вешается занавеска. Мы проехали на этих лодках около трёхсот вёрст со скоростью шестьдесят-восемьдесят вёрст в день, покупая яйца, молоко и хлеб на станциях и готовя чай в пути.
Последние четыреста пятьдесят вёрст до Иркутска мы проехали в тарантасе, большой четырёхколёсной карете, запряжённой тремя или пятью лошадьми в ряд, и подвешенной на кожаных ремнях на длинных рессорах, на манер наших старомодных экипажей. Мы ехали так день и ночь, а спали в нашем тарантасе, или в телеге, другом виде четырёхколёсного транспортного средства, укрытого от солнца и дождя. Повозки эти так же тяжелы, как наш омнибус, и предназначены для двух-трёх пассажиров, а стоимость проезда составляет три копейки за версту для трёх лошадей, независимо от количества пассажиров, но три копейки за версту за двух дополнительных лошадей и вознаграждение в десять копеек ямщику, отсутствие которого, несомненно, лишит лошадей всякой скорости.
Я обнаружил отсутствие всякой совести у смотрителей станции, обязанность которых снабжать всех путешественников по обычным тарифам и в обычном порядке. Но как только смотритель узнаёт, что путешественник спешит и готов заплатить дополнительные деньги, так сразу же ему сообщают, что свежих лошадей нет, а что тех, что есть, нужно держать для срочной почты. Но у смотрителя оказывается друг, скажем, Иван, у которого вы можете нанять лошадей по двойной, тройной или пятикратной цене. Я позволял себе иногда платить эти возмутительные цены, чтобы не позволить нашему сердитому товарищу догнать нас, и мне удавалось это делать, пока мы не достигли станции в двадцати верстах от Иркутска, где я заполучил единственных оставшихся на станции лошадей, но пока мы завтракали, прибыл в безумной спешке «Мрачный Джон» и, заплатив премию за лошадей «Ивана», сумел опередить меня в гонке до Иркутска.
Мы все отправились в отель «Декко», и я сразу же телеграфировал Министру ВМФ о своём прибытии со всеми отчётами экспедиции и попросил разрешения вернуться домой. Ответ на мою телеграмму был следующий:
Вашингтон, 8 июля.
Можете вернуться домой с отрядом.
Чендлер, Министр.
Затем я нанёс визиты вице-губернатору Педашенко[152] и другим должностным лицам, получив у всех тёплый приём.
Иркутск – крупнейший торговый центр Северо-Востока России; город с населением около 25 000 человек, с добротными домами из кирпича и дерева. Большая его часть была уничтожена пожаром в 1878 году, но жители его, видимо, не обладают тем духом солидарности, который существует в наших городах, где такие повреждения устраняются почти мгновенно, так что следы пожарища видны до сих пор и повсюду. Примечательным зрелищем были караваны, груженные чаем и другими продуктами из Китая. Здесь поселилось много китайцев, все активные деловые люди, но не в традиционном для них прачечном деле. Ссыльных тоже много, всех рангов, от обычных убийц до «благородных» политических.
У лейтенанта Барри были прекрасные золотые часы-хронометр, которые нуждались в ремонте, и ему рекомендовали часовщика с тем же именем, что и у знаменитого датского производителя хронометров Юргенсена. Мы вместе посетили его мастерскую, и после того, как Берри продемонстрировал свой прекрасный хронометр, я неизвестно зачем вытащил свои старые часы, которые более двадцати лет отмеряли минуты моей жизни по всему земному шару. Старик при виде их улыбнулся, и взялся привести часы в порядок. И здесь я выполню обещание, которое когда-то дал, и рассказать о приключениях этих часов во время экспедиции «Жаннетты».
В тот день, когда тонула «Жаннетта», и её нос уже был задран вверх, лёд на какой-то момент прекратил свой яростный напор, и так как ярко светило солнце, Делонг попросил меня сфотографировать обречённый корабль. Я установил камеру и, используя свои часы, пометил время съёмки на фотопластинке, и поэтому, когда «Жаннетт» окончательно пошла ко дну, часы были у меня при себе, иначе бы они утонули вместе с остальными моими вещами. В тот момент, когда я проявлял фотопластинку в темной комнате, лёд снова начал неистово таранить корабль, и всем было приказано срочно покинуть корабль. Я оставил пластинку непроявленной, чтобы заняться более срочными делами, и, уже после высадки на лёд, отдал часы Вальтеру Ли. Вообще я собирался их выбросить, но он попросил: «Командир, отдайте их мне, я их понесу. Если мы когда-нибудь вернёмся в Соединённые Штаты, я их вам верну».
И вот мы начали наш долгий поход через льды. Ли не очень уверенно держался на ногах – во время нашей гражданской войны ему прострелили оба бедра, и он постоянно падал в воду – и какую воду! Конечно, вода проникала в старые часы без специального герметичного корпуса, и Ли каждый раз терпеливо очищал их от солёной морской воды. Часы продолжали идти, хотя ржавчина на стальных деталях вскоре начала проступать сквозь позолоту корпуса и часы стали выглядеть весьма причудливо.
Однажды, когда весь наш отряд – люди, собаки, лодки, сани – пересекали полынью на большой плавучей льдине, верёвка, которой мы её тащили, не выдержала и разорвалась, и конец её нанёс Ли сильный удар по рёбрам, сбив его с ног и в то же время разбив стекло на часах. В тот вечер Ли пришёл и показал их мне, оказалось, что отвалились также обе стрелки. Я махнул рукой и посоветовал ему выбросить их, они никуда не годились. Ну, нет, сказал он, людям очень хочется знать время суток, и поэтому плотник Свитман сделал для часов деревянный ящичек, открывающийся, как раковина, а Ли охотничьим ножом вырезал из жести стрелку – только одну, часовую – и прикрепил её на место, и всё отлично заработало! Теперь, когда жестяная стрелка показывала двенадцать, это был либо полдень, либо полночь; если она была на четверти расстояния между двенадцатью и часом – было четверть первого; на половине пути – половина первого и так далее; так что минутная стрелка – это ненужная роскошь за Полярным кругом.
И вот старые часы исправно тикали, несмотря на множество купаний в морской воде, так как для Ли свалиться за борт было делом обычным, как будто он для этого и родился. Но, наконец, пришло время, когда мы все пересели на шлюпки, и Ли нашёл свою судьбу на первом куттере. А поскольку на вельботе не было часов, я был рад снова завладеть своими и отдал их на попечение мистера Даненхауэра, потому что мне было бы очень неудобно следить за ними, управляя парусом и лодкой своими потрескавшимися и опухшими руками. Однажды я заметил, что Даненхауэр заводит часы несколько раз в день. Я спросил, в чём проблема, и он сказал, что не может этого понять: ключ можно вращать хоть весь день, но часы до упора не заводятся, хотя продолжают исправно идти. Короче говоря, главная пружина не была сломана, но частично соскользнула со своего шпинделя, всё ещё сохраняя достаточную силу для приведения механизма в движение примерно на четыре часа. Так мы заводили их каждый третий час, пока не добрались до Зимовьелаха, где мы повесили часы в хижине для общего пользования, а затем кто-то, конечно же, уронил их, наступил, и раздавил деревянный ящичек.
Когда я прибыл в Верхоянск, один из политических ссыльных, «Маленький Кузнец», припаял вместо стекла медную пластинку, и, поскольку у него не было часовых стрелок, старая жестяная, изготовленная Ли, продолжала выполнять свои функции, и часы работали. В Якутске Бартлетт нашёл часового мастера, который разобрал часы, и спросил, не желаю ли я приделать секундную стрелку. Я не стал этого делать – для сибирского времени часы работали достаточно точно. Во время путешествий в дельте я обнаружил, что после того, как ссыльный починил старый механизм, он стал работать не так хорошо, как раньше, и, открыв футляр, обнаружил, что один из камней исчез. Маленький мошенник украл его и заменил на латунный подшипник, трение в котором было больше, так что мне приходилось ослаблять или затягивать один из винтов, чтобы регулировать ход часов.
И вот в Иркутске старый джентльмен-часовщик сообщает мне, что механизм секундной стрелки был похищен его коллегой в Якутске, который, несомненно, нашёл ему такое же хорошее применение, как молодой ссыльный для моего камня, и тут я понял, почему он так настойчиво спрашивал, не хочу ли я восстановить секундную стрелку. Однако я заплатил мистеру Юргенсену девять рублей за любезный интерес, который он проявил к благополучию моих часов; и, хотя они выдержали суровые условия арктического путешествия и их подорванное здоровье было поправлено сибирским мастером, я потерял уверенность в их будущей полезности.
Наконец, приехав в Филадельфию, я отложил часы как реликвию, но один отзывчивый друг решил, что их всё же следует почистить и привести в порядок. Теперь на них приятно посмотреть: пятна ржавчины исчезли и механизм в полном здравии, и когда я пишу эти строки в кают-компании парохода «Фетида», они снова в море, в очередном арктическом путешествии, а на внутренней стороне корпуса я только что обнаружил надпись: «Tobias, No.121305; Liverpool». Хотел бы я знать, какова была судьба №121304? Или №121306? Интересно, сам старый Тобиас выглядел так же хорошо, как и его часы? Я надеюсь, по крайней мере, что с его внутренними органами не поступали так же безжалостно.


