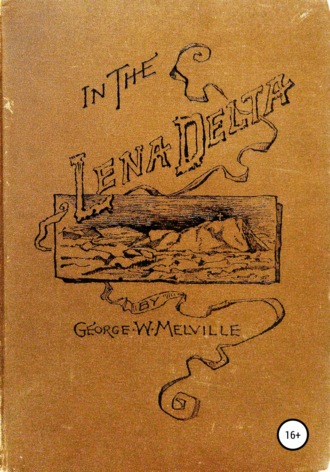
Джордж Мельвилль
В дельте Лены

Это было незабываемое зрелище. Длинная вереница собачьих упряжек, петляющая по тундре и ледяным полям, и крутой подъем на вершину одинокой горы, где в гробовом безмолвии и одиночестве этой бескрайней пустыни арктических снегов, без реквиема, под неумолчный вой метели, в вихрях колючего снега, мы нежно похоронили наших погибших товарищей, – как я тогда предполагал, навсегда.
Здесь, откуда видно место их последних героических усилий, их ужасных страданий и мучительной смерти, они будут покоится под хладным саваном вечных снегов, под нескончаемую панихиду жестоких полярных ветров, не пожалевших их беззащитные тела при жизни – здесь мы похоронили их, и более подходящего места для упокоения этих людей, мы бы нигде не нашли. Мы были поражены самой простотой похорон, суровым покоем окружающей нас природы и, более всего, нашими скорбными воспоминаниями о мёртвых. Никто не бормотал бессмысленных молитв, но только горестное «прощайте» и «спите спокойно» прошептали наши губы, когда мы бросили на них последний взгляд.
Затем, до наступления темноты, мы накрыли тела кусками парусины и прочим материалом, положили поперёк ящика доски и утяжелили их камнями. На следующий день якуты весь день возили на санях с равнины и песков внизу брёвна плавника. Самые большие из них были уложены по бокам и концам гроба, и на них был возведён каркас пирамиды. В вертикальный столб креста был вставлен горизонтальный шест, в концы которого упирались боковые грани пирамиды для поддержки креста и всей конструкции, построенной вокруг него. Затем стороны пирамиды были покрыты круглыми брёвнами, опирающиеся на горизонтальный шест. Образовавшаяся пирамида шириной около двенадцати футов, длиной тридцать футов и высотой девять футов была облицована камнями, некоторые из которых были весом более ста фунтов – это были те самые, которые мороз наколол для нас из скального основания холма. Следующим летом я намеревался покрыть монумент дёрном из тундры и посадить на нём арктическую иву.
К этому времени Ниндеманн вернулся с поисков хижины Эриксена, и единственное, что оставалось сделать, – это установить на место поперечину креста; что мы сделали только после нескольких безуспешных попыток. Ниндеманн закрепил поперечину деревянным нагелем и затем ещё одним поперечным – для надёжности. При этом он и – бедняга! – обморозил на сильном ветру пальцы, нос и уши. Мы завершил похороны 7 апреля, и я в целом был удовлетворён проделанной работой. Эта гробница стала самым большим сооружение к северу от Булуна, и туземцы, доставлявшие рыбу с Быкова Мыса для наших поисков Чиппа, говорили мне, что они видели «Большой Американский Крест» за двадцать вёрст отсюда.

Бобоков и Георгий Николаев вернулись из Булуна несколько дней назад, и я отправил их в Хас-Хата, чтобы подготовить провизию для моего отъезда на Оленёк. Ефим, наш Рыжий Чёрт, когда-то служивший солдатом в русской армии, пытался произвести впечатление на якутов своей удалью и храбростью. Но шутник Капитон подвергал сомнению его храбрость и частенько уверял Ефима, что «помре американски», лежащий в снегу, когда-нибудь встанет и придёт в хижину, чтобы отдать честь своему живому товарищу-солдату. На каждую такую остроту Ефим делал очень важный вид и говорил: «Да, да, хорошему моряку всегда найдётся о чём поговорить с хорошим солдатом». И всё же я заметил, что, когда мы все уезжали из лагеря по какой-либо надобности, Ефим не оставался наедине с мёртвыми и под каким-нибудь предлогом всегда отправлялся с нами; а когда хлопотал по хозяйству в хижине, то Капитон подстраивал ему всякие шутки – то громко ронял что-нибудь, то незаметно покачивал дверную занавеску из оленьей шкуры – что всегда пугало Ефима и неизменно веселило туземцев.
А как-то раз Капитон завернулся в старую тряпку, взял ружье и ввалился в хижину, завывая могильным голосом: «Драсти, драсти, Ефим, я – американски солдат!»
К этому времени нервы доблестного изгнанника были уже на пределе, и, увидев привидение с американским ружьём и услышав его потусторонний голос, он содрогнулся от ужаса и с не по-солдатски пронзительным воплем бросился через очаг в дальний угол, опрокинув в прыжке котелок с рыбой. Конечно, всех нас это рассмешило, но бедный Ефим решительно заявил, что, если шутка ещё раз повторится, то он, как солдат, возьмёт ружьё и застрелит своего мучителя.
И только мы перестали смеяться, как снаружи послышался странный шум. Я увидел, как Ефим украдкой взглянул на окружающих и быстренько шмыгнул от двери. В задней части хижины, со стороны, где лежали мёртвые, послышалось какое-то движение, как будто кто-то поднимается на крышу, и мгновение спустя лицо, опухшее, в ранах от обморожения и закопчённое от дыма, заглянуло в дымоход в крыше и радостно завопило: «Драсти, драсти!» В это же момент занавеска из оленьей шкуры отодвинулась, и в дверях появился Бобоков. Это было уже слишком для Ефима! Упав передо мной на колени, он принялся креститься с такой скоростью, как будто его дальнейшая жизнь и покой зависели от быстроты его движений. Мы все разразились взрывом смеха, и с тех пор у этого «воина» не было покоя от насмешек над его бесстрашием и неравнодушием к «помре американски».
Вскоре все вещи умерших, вместе с книгами, бумагами и т.п., упакованные в ящик, были готовы к отправке в Якутск; оставлять их хранится в дельте было решительно небезопасно из-за приближающегося сезона наводнений. Поэтому, оставив небольшой запас рыбы в Матвее на всякий случай, я решил направить все свои людские и материальные ресурсы в Хас-Хата, как центральную базу, с которой три группы отправятся вдоль побережья на заключительный поиск отряда Чиппа. План мой состоял в том, чтобы отправить Бартлетта и Ниндеманна с четырьмя санями и местными проводниками по Когыстахской протоке до Баркина, северо-восточной точки дельты, и там разделиться. Бартлетт последует вдоль восточного побережья на юг до Зимовьелаха, где будет ждать моего приезда. Ниндеманн должен был исследовать северное побережье двигаясь на запад, пока хватит запасов продовольствия, а затем отправиться в Северный Булун, где у нас хранилась сотня рыб, а оттуда в Хас-Хата, где будет дождаться моего возвращения. Маршрут, который я проложил для себя, проходил вдоль западной протоки реки через остров Длинный, с исследованием береговой линии и посещением всех деревень, до устья реки Оленёк. Затем, повернув обратно, я направлюсь на восток до восточной оконечности острова Длинный, в деревню Турах, а оттуда вдоль побережья, на север и восток, к протоке Кетак[120], вниз по которой, через Северный Булун поеду в Хас-Хата. Оттуда я намеревался отправиться с остальными моими людьми в Зимовьелах и продолжить поиски в том же сезоне до реки Яна.
Я взял себе проводников, которые знали всю дельту, кроме северного и восточного побережий. Семён Алак[121] и Василий Кулгах были теми двумя, кого я выделил для сопровождения Бартлетта, а в качестве проводников для Ниндеманна я нанял Старого Николая и некого Семёна Туматского[122]. Итак, теперь я с нетерпением ждал в Матвее прибытия саней из Ары; и, поскольку я хотел кое-что сделать в Хас-Хата, я, наконец, решил отправиться немедленно, оставив одного из каюров, чтобы сообщить Василию Кулгаху и Семёну Алаку о нашем местонахождении. Я хотел поручил это Капитону, но он ни в какую не соглашался, хотя мы все смеялись над ним, что он просто боится мёртвых. Но он нашёл выход, заявив: «Якут бумага, майора!».
«А как это?» – спросил я? Да он просто напишет письмо Василию и Семёну, что им надо следовать за нами в Хас-Хата – был ответ. Это было всё, что я хотел, и поэтому распорядился запрягать упряжки; и когда всё было готово к старту, Капитон приступил к написанию своего «якутского письма». Он сделал четыре отпечатка ног рядом друг с другом, чтобы изобразить четверо наших саней, и, воткнув в снег раздвоенную палку, положил в неё длинную жердь, указывающую на Хас-Хата. Затем он воткнул ещё одну палку, наклонённую в том же направлении и поддерживаемую палкой поменьше, и назвал её Майором, имея в виду меня. Палки ещё короче, по одной на каждого из нас, были расположены аналогичным образом, и Капитон объяснил, что они представляют нас во время ходьбы; а между следами, означающими сани, он сделал ещё несколько в два ряда, обозначив так собак – и письмо было готово!
Ехать в Хас-Хата было холодно, но мы прибыли вовремя, и я сразу же занялся снаряжением трёх поисковых партий, отправив сотню рыб на запад и сотню на север для меня и Ниндеманна. На следующий день, как и ожидалось, приехали Василий Кулгах, Семён и его сыновья с четырьмя собачьими упряжками и запасом рыбы. Да, они останавливались в Матвее, о чём Василий широко улыбнулся и сказал: «Якутское письмо!». А Капитон был в полном восторге от того, что его письмо было так легко понято, и сказал мне, что я пишу письма чернилами на бумаге, а он – на снегу палочками!
Я узнал от Семёна, что именно он построил хижину, в которой умер Эриксен, но так как вокруг того места было очень мало дичи, он так и забросил её, не достроив. Он и Василий также рассказали, что в хижинах в Баркине никто не жил в течение многих лет, и что сами они были там в последний раз года два назад. Они оба хорошо знали побережье, но, по их словам, мало знали внутреннюю часть Архипелага, как русские называют острова дельты Лены. Василия сопровождал «Пэдди» Ачин, так что теперь я был хорошо укомплектован каюрами для моего путешествия на запад. Пэдди чувствовал себя в этих краях как дома, а Георгий Николаев был сыном покойного старосты Джангалаха[123] – поселения на западе дельты. И вот, 10 апреля Бартлетт и Ниндеманн отправились в Баркин.
Глава XXV. Поиски Чиппа
Мистер Гилдер – Бобоков и Калинкин едут в Якутск – Хойгуолах – Сава – Сабас Коку – Турах – Джангалах – «Маленькие зверушки» – Дженкир – Оленёк и его жители – Деревня Усть-Оленёк – Судьба Прончищева – Поездка на могилы отряда Прончищева – Поиск по побережью – Якутские законы о разводах – Наши несчастные собаки – Кубалах – Снова в Хас-Хата – Итоги поездок Ниндеманна и Бартлетта – Местные гробы и способы захоронения – Возвращаюсь в Зимовьелах.
10 апреля. – Сегодня утром я получил письмо от м-ра Гилдера, казначея с «Роджерса», в котором он сообщает, что является корреспондентом «Нью-Йорк Геральд». Сообщение было передано мне Маленьким Пэтом, розовощёким сыном Семёна Алака. Он проехал от Быкова Мыса на упряжке из восьми молодых собак за четыре дня без единой остановки для отдыха или еды. Поэтому я дал маленькому Пэту табака в качестве дополнительной награды за его добросовестность. Он говорит, что староста послал упряжку из четырнадцати собак, чтобы доставить Гилдера в Хас-Хата, куда, по всей вероятности, он прибудет уже завтра вечером.
Поэтому я отложил свой отъезд на Оленёк и послал Грёнбека с хорошей собачьей упряжкой встретить мистера Гилдера и привезти его сюда. Это ломает мои планы, так как у меня осталось всего триста девяносто четыре рыбы, а каждый день содержания здесь обходится мне в пятьдесят рыб только для собак. Возможно, мне придётся привезти ещё рыбы из Быково.
Сезон санных поездок закончится через двадцать дней, поэтому я решил избавиться от всех, без кого можно обойтись и отправить Бобокова и Калинкина в Якутск. Обстоятельства могут задержать нас в дельте на всё лето, и тогда также нужно доставить результаты экспедиции в безопасное место, и эти два протеже генерала Черняева будут отвечать за них. Ящик, в который я упаковал все предметы, довольно прочный, стенки соединены в «ласточкин хвост», обтянут сыромятной кожей и герметизирован. Я дал Бобокову и Калинкину письменные приказы и инструкции и отправлю с ними объяснительные письма генералу Черняеву.
Совершенно необходимо раздобыть ещё рыбы для собак. Я надеялся закончить работу в течение санного сезона, но теперь боюсь, что задержусь здесь на всё лето. Интересно, как долго мне придётся ждать встречи с мистером Гилдером? И для чего?
11 апреля. – Яркое солнце, но усиливающийся ветер гонит снежную позёмку. Жалко отсылать Бобокова и Калинкина, но, если я не сделаю этого, они останутся здесь навсегда. Я собрал две упряжки по одиннадцать собак в каждой и отправил их в полдень; но думаю, что они остановятся в Кувине пережидать погоду.
Хижина наполнена дымом, который так ест глаза, что я не могу их открыть; и в целом мне очень неприятна причина моей задержки.
12 апреля. – Спокойное и прекрасное утро, как раз для путешествия; а я сижу в праздности – жду чего-то или кого-то? Грёнбек вернулся сегодня вечером без мистера Гилдера; так что три дня я потерял впустую, и, кроме того, возможно, Гилдера придётся оставить с собой на всё лето.
13 апреля. – Сегодня утром мне наконец удалось отправиться на запад в Хойгуолах с двумя упряжками из тринадцати и пятнадцати собак. Обе они не в порядке: та, что побольше, утомлена и у собак болят ноги, а та, что поменьше, состоит из мелких собак и почти щенков. Я измучил всех собак в дельте, и туземцы жалуются на ущерб. Мои ямщики – Георгий Николаев и «Пэдди» Ачин.
Мы добрались до Хойгуолаха и остановились выпить чаю, а я поговорил с Константином на предмет отправки наших оленей в Хас-Хата. Это их пастбища, и я послал весточку Иннокентию Шумилову, чтобы он отвёз сотню рыб на север для моих упряжек по возвращении. Рыба будет храниться там, где Пэдди сможет её найти.
Покинув Хойгуолах, мы поехали на запад и через десять вёрст встретили маленькую тунгусскую деревню из трёх-четырёх жалких хижин, едва видимых над снегом. Туземцы охотились здесь на диких оленей, у них было допотопное кремнёвое ружье. Они сказали мне, что два их домашних оленя умерли от голода, но я думаю, что они их застрелили для еды, так как люди выглядели очень голодными. Это место называется Сава[124]. В одной маленькой хижине там жило двадцать несчастных тунгусов.
Проехав на запад ещё десять вёрст, мы наткнулись на одинокую якутскую юрту, известную как Сабас Коку[125], где мужчина, его жена и маленький мальчик ловили рыбу в небольшом озере и реке, впадающих в западную протоку Лены. Здесь мы выпили чаю, сварили для себя рыбу и покормили собак – немного, потому что нам придётся ехать всю ночь или пока мы не доберёмся до Тураха.
Прибыли в Турах около четырёх утра и легли спать.
14 апреля. – Турах – развалины некогда процветающей деревни. Среди многочисленных развалин сохранились две-три хорошие юрты, маленькая церковь и большое кладбище, насчитывающее, наверное, сотни две могил. Старуха и молодой парень были единственными, которых мы нашли в деревне, все остальные жители ушли на рыбалку. Георгий Николаев указал на высокий крест в центре кладбища и сказал: «Якут помре многа». Немного поспали, выпили чаю с рыбой, я дал старухе немного табака, и мы отправился в Джангалах. Холодный резкий ветер дует с запада из горных ущелий и сбивает нас с пути. Собаки явно устали и отказываются идти в упряжке – вчерашняя работа, по-видимому, была для них непосильной. Сейчас мы находимся в охотничьих угодьях Кириков, отца и сына.
Старуха в Турахе ничего не слышала о пропаже наших лодок и людей и с благоговением слушала, приоткрыв рот, как Георгий рассказывал ей о нас. Мы бросили пятерых наших собак, а у других сильно кровоточат ноги. Я слишком часто заставлял их работать последние двадцать дней, но… ничего не поделаешь – я должен идти дальше, а собаки – единственное средство передвижения. Бедные собаки! Бедные туземцы! Бедные все вокруг! Мы кое-как добрели до Джангалаха ещё до наступления темноты – замёрзшие, голодные и уставшие.
Я нахожу, что спать в юртах туземцев не очень-то приятно, так как предполагается, что одежда должна служить её владельцу без смены целый сезон, а эти «маленькие зверушки» под одеждой постоянно напоминают о себе и заставляют чесаться. Но это невыразимое удовольствие – иметь возможность вывесить рубашку на ночь на улицу и до смерти заморозить маленьких паразитов. Утром всё, что нужно сделать, это вывернуть наизнанку промороженную одежду и хорошенько отхлопать её о дверной косяк – и их выпадет оттуда десятки, белых от инея. Это довольно жестоко для «зверушек», но чу́дное облегчение для владельца рубашки.
Приближаясь к концу Длинного острова, я заметил, что протока здесь широкая и выносит в море много битого льда. Вода в заливе может быть мелкой, но я думаю, что протока южнее острова Длинный вполне судоходна для лодок даже со значительной осадкой. Потому что в этом месте она узкая, а её полноводность наводит меня на мысль, что она также глубока. Это путь в Лену с запада, и отсюда же к реке Оленёк – на запад от западной оконечности Длинного острова, через череду песчаных банок, отмелей и глубоких промоин.
Джангалах находится в шестидесяти-семидесяти верстах к западу от Тураха и расположен недалеко от прибрежной горной гряды на берегу протоки, которая течёт вдоль подножия холмов. С севера он прикрыт островом тундры высотой двадцать-тридцать футов и длиной восемь-десять вёрст. Деревня состоит из четырёх хижин, в них в дыму и тесноте влачат своё полуголодное существование туземцы. В прежние годы здесь жило много людей, но их унесла болезнь, которой, как говорят, заразились от употребления в пищу во время голода внутренностей некой рыбы, которую туземцы с тех пор избегают есть. Несомненно, эта рыба съела какое-то ядовитое вещество, так как туземцы говорят, что для здоровья вреден только её кишечник. Здесь, на западной оконечности дельты, все деревни находятся в состоянии упадка, и мёртвых здесь определённо больше, чем живых. Да и рыбалка уже не так хороша, как раньше, и голодать приходится почти каждый год.
15 апреля. – Сегодня утром встали рано, и мне пришлось надевать замёрзшую рубашку прямо на голое тело. Над головой светит солнце, но с запада несёт позёмку приличный, хотя и не штормовой ветер.
Девяносто вёрст до Оленька и пятьдесят до Дженкира[126], заброшенной деревни, в которой когда-то жили около двухсот жителей. Все умерли, не осталось ничего, кроме могил, балаганов и юрт, многие из которых развалились.
Мы поехали вдоль побережья и через залив, медленно продвигаясь поперёк ветра. Лёд был гладкий как стекло, и собаки едва держались на ногах. В этой части залива постоянно дуют сильные ветра с гор, и наши каюры не могли говорить ни о чём другом, кроме пурги в заливе и как много людей сдуло со льда в море. И правда, этот холодный ветер с гор – типичная бора́[127] – был совершенно неистовый.
Примерно в десяти верстах к востоку от Дженкира мы остановились в одинокой юрте, спрятавшейся в укромном уголке горного отрога и, как обычно, расспросили про Чиппа и его отряд; но обитатели жилища ничего не слышали ни о людях, ни о лодке. Приближаясь к Дженкиру, мы миновали множество заброшенных хижин, а, проезжая мимо кладбищ, каюры благоговейно приподнимали свои капюшоны. Среди могил была заметна одна, с высоким крестом и окружённая резной деревянной оградкой. Туземцы рассказали, что там похоронен русский офицер, обыденно добавив: «Кушать суох, помре». Это самое безлюдное и печальное место, которое я когда-либо видел.
От Дженкира мы повернули к реке Оленёк. Двигаясь на юг по руслу реки[128], мы видели многочисленные следы саней и ловушки для лис и вскоре наткнулись на три тунгусских чума, разбитые на берегу. Люди, дикие и несчастные на вид, полуодетые и голодные, рыбачили в прорубях. Оленёк в этом месте, примерно в тридцати верстах от устья, представляет собой вполне приличную реку шириной от одной до полутора миль в обрамлении двух великолепных горных хребтов и свободную, насколько я увидел, от песчаных кос и отмелей и, следовательно, судоходную. На всём пути к морю его берега усеяны маленькими деревушками из нескольких хижин, а местные жители очень бедны. В одном месте, где мы остановились попить чая, людям было абсолютно не на что купить или обменять еду, они униженно просили у нас немного соли и табака и были более чем благодарными, получив гущу из нашего чайника. Они с завистью смотрели на двух моих каюров, у которых были сухари, и я заметил, что и Пэдди, и Георгий были достаточно щедры, чтобы отдать почти весь хлеб, что у них был, а также рыбу своим голодным соплеменникам, зная, что те ответят сторицей в другой раз.
Десятью вёрстами ниже по реке мы остановились в деревне Усть-Оленёк, состоящей из трёх жилых юрт, нескольких амбаров и множества развалин. Деревня расположена в устье Оленька, на песчаной косе под обрывом западного берега, где с юго-запада в реку впадает небольшой ручей[129]. Примерно в трёх верстах до Усть-Оленька мы миновали большой пустующий балаган на правом берегу реки[130].
Уже смеркалось, когда мы прибыли в деревню, замёрзшие и голодные, и как раз вовремя, так как началась сильная метель. Старый Георгий, староста, оказал нам радушный приём. У меня болит всё тело.
16 апреля. – Прошлой ночью здесь побывали многие местные жители, чтобы встретиться со мной, но никто не видел и не слышал о пропавшей втором куттере или его людях. Георгий Николаев и Пэдди Ачин рассказывали об обстоятельствах нашей высадки в дельте и последующих поисках и погребения Делонга и его отряда, а туземцы, слушая с открытыми от удивления ртами, часто крестились.
Утро было ясным и тихим, обещая погожий день. Поэтому я решил постараться найти могилы лейтенанта российского военно-морского флота Прончищева, его жены и отряда казаков[131], исследовавших дельту Лены. Все они умерли от холода, голода или цинги в устье Оленька, хотя и были хорошо подготовлены к зиме. Я читал об этом в литературе об Арктике много лет назад, но я думал, что это произошло в дельте, и в одном из разговоров с генералом Черняевым упомянул об этом факте, что побудило его рассказать мне историю одного молодого русского офицера инженерных войск, одного из столичных светил, который был отправлен в дельту, якобы для поиска могилы Прончищева, но на самом деле в наказание за какой-то неосмотрительный проступок. Он обследовал дельту Лены, но не нашёл захоронение, как было указано, и благополучно вернулся в Санкт-Петербург. Но затем в порыве отчаяния, и возможно, приговорённый к настоящей ссылке из-за провала своей миссии, он застрелился[132]. Поведав о печальной судьбе молодого офицера, генерал попросил меня поискать могилы Прончищева и его отряда, когда буду в устье Оленька.
Георгий Николаев, с которым я много говорил о «большом старом-старом русском кресте» и «помри русски», сказал, что знает, где есть несколько старых могил с русскими крестами, остатки старых русских балаганов, и что местные легенды рассказывают о том, что там умерла бедная белая леди и была похоронена в одной могиле с «русским командиром». Георгий, который приходился родственником старосте Георгию, поговорил с ним, и тот согласился проводить меня до нужного места. Поэтому, оставив пока моих людей в деревне, мы отправились в путь в сопровождении моего Георгия в качестве переводчика, потому что мы с ним уже научились понимать жесты и гримасы друг друга.
Тем временем утро, которое началось так хорошо, стало пасмурным, подул сильный ветер со снегом. Однако у меня было мало свободного времени, и я отправился в путь, полагаясь на заверения старосты, что это место недалеко. Шторм яростно дул нам в лицо, но скоро иссяк, т.к. это была бора́ с окрестных гор. На нашей упряжке из шести голодных собак мы кое-как притащились, наконец, на крайнюю восточную точку полуострова или выступа, образованного рекой Оленёк и Северным Ледовитым океаном. Нам не составило труда найти могилы, а наш старый гид оказался полон исторических подробностей о судьбе этих людей: он в красках описывал смерть каждого из них и показывал мне, как живые хоронили своих погибших товарищей, засыпая их камнями. Он также знал о доме, который служил обсерваторией для отряда, и в котором у них, очевидно, был экваториальный телескоп, потому что Георгий попытался описать постройку в форме купола и, приставив к глазу свой остол на манер подзорной трубы, говорил о звёздах.
Могилы находятся недалеко от места, где когда-то были эти постройки, на миниатюрном плато под прикрытием горного кряжа на восточном берегу реки. Высота плато над рекой около сорока футов, на северо-запад с него открывается великолепный вид на море, это также прекрасная точка для астрономических наблюдений. Рядом находится юрта, в которой и по сей день живут, как жили когда-то невезучие исследователи, но от остальных вокруг остались только развалины. От обсерватории не осталось и следа; староста говорят, что все руины – это остатки якутских хижин.
Есть шесть хорошо различимых могил, обозначенных надгробными камнями. Вдоль одной из них лежат два бревна, а между ними плотно утрамбованы камни. Могильных холмиков не осталось, их, очевидно, размыло дождями, и только камни указывают на места, где бедняги хоронили друг друга. Но, должно быть, были и те, у которых не осталось товарища, который мог бы сослужить для них эту последнюю добрую службу, и от них не осталось ни косточек, ни надгробья. Над одной из могил всё ещё стоит большой деревянный крест, а примерно в пяти ярдах к северо-западу – останки другого, возле которого много лет назад кто-то легкомысленно развёл костёр, а потом какой-то вандал срубил верхушку топором. Я спросил старосту, все ли это русские могилы или есть и якутские, и он сказал: «Якут суох» и показал ещё на дюжину-другую могил, которые несомненно были русскими[133].
Крест, который остался стоять, наклонился к юго-западу примерно на тридцать градусов. Он имеет семь футов в высоту, шесть на пять дюймов в сечении и диаметром девять дюймов у основания. Первоначально у него было три перекладины, верхняя сохранилась и имеет четырнадцать дюймов в длину и шесть дюймов в ширину. Вторая находилась примерно в двух футах от верха, и должна была быть длиной около четырёх футов. Ниже, около восемнадцати дюймов от основания, сохранился наклонный паз от нижней перекладины. Могилы и крест обращены на северо-запад или запад-северо-запад и смотрят на устье реки и Ледовитый океан.
Крест потрескался и потемнел от времени, а буквы на нём вырезаны неглубоко, так что теперь их с трудом можно различить. Я тщательно скопировал их, стараясь не пропустить мельчайших деталей, включая трещину, которая простирается почти на всю высоту вертикального столба.
Это место в его зимнем одеянии, испещрённое крестами и якутскими могилами, наводит на печальные мысли о запустении и смерти. И за «привилегию» умереть здесь государство ещё облагает этих несчастных людей налогами! Все эти многочисленные руины и обильные кладбища являются печальным результатом беспринципной политики большой христианской страны, чьи священники, самые низкие и непристойные люди, не занимаются никакой другой миссионерской или гуманистической деятельностью, кроме своих ежегодных одиозных поездок, когда они собирают с голодающих туземцев дань за браки и крещение и наживаются на продаже латунных безделушек, аляповатых иконок и восковых свечек, наделанных поповскими жёнами или купленных оптом у производителей или торговцев, которым не разрешается продавать их напрямую бедным обманутым якутам. Я думал обо всём этом, а Георгий и его престарелый родственник печально глядели на могилы и опустевшие жилища своих соплеменников, вздыхали и говорили: «Якут помри многа»…
Погода по-прежнему была ветреной, с лёгким снегопадом. Я побродил ещё час по этому интересному месту и, наконец, бросил последний взгляд на бескрайнюю равнину Ледовитого океана, на которую много-много лет назад, наверное, так же смотрели те, кто лежит сейчас в промёрзшей земле под моими ногами, и мечтали – мечтали, как и я тогда, о непостижимом будущем и вспоминали о горьком прошлом. Храбрый Прончищев, его самоотверженная жена и товарищи-казаки, все они – мученики долга и науки!..
Сразу же по возвращении в Усть-Оленёк я приказал приготовить упряжки и, сопровождаемый благословениями бедных туземцев, которым я оставил немного соли и табака, отправился в обратный путь на северо-восток – чтобы не ехать через горы, обогнул побережье и поехал на восток берегом океана. Примерно в десяти верстах от устья реки я заметил на косе далеко в заливе хижину и удивился, что в таком ненадёжном месте её не снесло льдом во время паводка. Каюры объяснили мне кратко: «Суох, байхал» (нет, море), имея в виду, что лёд из реки тает в океане, не достигая этой точки; я всё же подумал, что при северном ветре волны могли бы затопить косу, но, наверное, им мешают обширные отмели, прикрывающие косу со стороны моря.
Пятью вёрстами дальше мы наткнулись на четырёх туземцев, ловивших рыбу в проруби во льду океана; улов их был очень скудным. Они подошли к нам, курили и долго разговаривали с каюрами, которые рассказали им нашу историю, но те ничего не знали о пропавшей лодке. Весь день мы ехали вдоль скалистого побережья, на берегах было много плавника; я заметил множество лисьих капканов и следов от саней охотников, которые их проверяли. Берег высокий и обрывистый, кое-где виднеются мысы; временами я замечал заброшенные хижины на отмелях или песчаных косах. Не знаю точно, насколько глубоким может быть залив, тем не менее, исходя из довольно узкого русла Оленька, я считаю, что это хорошая судоходная река, в которой можно было бы укрыться на лодках в случае кораблекрушения в этой части сибирского побережья.
Мы остановились в добротной и удобной поварне, в сорока верстах от Джангалаха, заварили чай и дали отдохнуть нашим собакам. Бедняжки едва передвигают ноги, а тех, кто сегодня совсем выдохся, мы отвязывали и оставляли на обочине. Они некоторое время следовали за нами, но затем, не в силах идти дальше, садились и жалостно выли. Они, наверное, понимают, что станет с ними, если они на сумеют добраться до поселения – либо умрут с голоду, либо будут съедены волками.
После чая мы продолжили наш однообразный утомительный путь, добравшись до Джангалаха в полночь, голодные и замёрзшие.
17 апреля. – Выйдя утром на улицу, я обнаружил, что дует сильный ветер. Это особенность здешней погоды: осенью, зимой и весной постоянно дует или штормовой, или сильный ветер с позёмкой.
Прошлой ночью я был свидетелем странной сцены между молодой якутской женщиной и её супругом, от которого она сбежала и нашла убежище в доме своих родителей – нашей хижине. Он пришёл за ней, но она не пошла с ним, а родители не стали вмешиваться, потому что у якутов существует обычай, что, когда невеста возвращается в родительский дом, муж теряет её, а мать может продать свою дочь другому претенденту на её руку. Так что в данном случае старуха была в выигрыше и в прекрасном расположении духа, а невеста была выставлена на продажу, несмотря на гневные протесты молодого мужа. Но среди нас не оказалось покупателя, и мы отправились в путь, оставив всех троих спорить о якутских супружеских правах, которые обиженный муж собирался отстаивать с помощью огромной дубины в виде остола. Законы о разводе, действующие в этих местах, на самом деле очень просты. Если муж и жена никак не могут договориться, кроме как разойтись, они просто делают это и снова женятся по своему желанию, или, в случае женщины, по желанию её матери.


