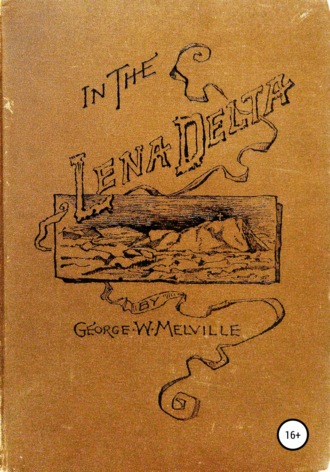
Джордж Мельвилль
В дельте Лены
Глава XI. Двигаемся дальше
Возвращение Кузьмы – Ниндеманн и Норос – Я отправляюсь в Булун – Сибирские собачьи упряжки – Шторм – Кумах-Сурт.
Мы уже ежечасно лазили на крышу нашего балагана и тревожно вглядывались вдаль – где там наш Кузьма?! Соседи-туземцы стали чаще навещать нас, иногда приносили рыбу или привозили на собачьих упряжках дрова. Мы все чувствовали себя хорошо, за исключением Лича, у которого большой палец на ноге продолжал чернеть и гноиться, несмотря на постоянную заботу «доктора» Бартлетта, прилагающего все усилия, чтобы спасти его, с хирургическим оснащением, состоящим из горячей воды, складного ножа и глазной мази мистера Даненхауэра.
Однажды к нам пришла миссис Кузьма и сообщила, что в Булуне погиб какой-то чиновник, что, вероятно, и стало причиной задержки её мужа. Но по ней было видно, что она соврала, хотя впоследствии, где-то дней через пять, я узнал, что там действительно умер некий служащий. Тем временем установилась холодная погода, дул пронизывающий ветер со снегом, о которого не спасала наша рваная одежда. Но бездействие, как известно, хуже смерти; и я почти поддался соблазнительным доводам своих людей, некоторые из которых, во главе с Бартлеттом, вызвались тащить Лича на санях вместе с провизией, если бы я только отдал приказ трогаться. И всё же, взглянув на свою полураздетую команду, всё ещё не отошедшую от обморожений, полученных несколько недель назад, и прислушавшись к воющему ветру снаружи, я осознал, что было бы верхом безрассудства решиться на такое предприятие. Но в то же время, теперь у нас было много рыбы, и с подходящим проводником мы могли бы дойти до Булуна! И вот, подгоняемый собственным нетерпением из-за невыносимой задержки Кузьмы и нашего вынужденного безделья, в то время как наши товарищи, возможно, умирают без нашей помощи, я наконец объявил, что мы загрузим одни сани рыбой, на другие положим Лича и с местным проводником отправимся в Булун. Но кто будет проводником? Как только я распорядился об отправке, мне тут же возразил уже мистер Даненхауэр, который сказал, что это безумие пытаться идти в путь, в котором половина людей точно погибнет, если вообще кто-нибудь сможет в нашем состоянии пережить это путешествие. Бартлетт, который никогда не терял рассудка и, казалось, был готов ко всему, уговаривал попробовать; но, ещё раз взглянув на нас, нашу убогую изодранную одежду, искалеченные конечности, я окончательно и твёрдо решил, что риск слишком велик и не оправдан. Незачем подвергаться такой опасности и снова испытывать страдания. Тем более, что наш посланник Кузьма может появиться в любой момент. Да, пять дней, отведённых на его поездку, уже прошли, но мы можем подождать ещё столько же. Так что моё предложение сыграть в псевдогероизм и пройти с отрядом двести восемьдесят вёрст закончилось, к счастью, ничем.
Днём 29 октября, на тринадцатый день после отъезда Кузьмы, на льду залива была замечена пара саней. Все мгновенно вывалились из балагана встречать нашего долгожданного курьера. Никогда ещё никакого самого дорогого гостя не встречали так искренне и радостно, как Кузьму с Николаем. Когда утихли положенные по случаю приветствия, сани разгружены, а чайник поставлен на огонь, Кузьму засы́пали вопросами о причине его задержки. Он путанно объяснял, что на Лена вскрылся лёд, бессвязно рассказывал ещё какую-то историю о двух встреченных оленьих упряжках с туземцами и двумя американцами, обмороженными и едва живыми от голода, и которые, в свою очередь, говорили о смерти каких-то своих товарищей. Всё это и многое другое Кузьма рассказывал на сумбурной смеси русского, якутского и тунгусского языков, когда, внезапно вспомнив о чём-то, он полез за пазуху и вытащил два конверта и сложенный листок бумаги, которые он передал мне, объяснив, что одно письмо было от булунского казачьего командира, а другое от «маленький поп», то есть от молодого священника. Но главной ценностью оказался грязный, смятый клочок бумаги, который, когда я развернул и прочитал его, просто потряс всех нас:
Арктический пароход «Жаннетта» утонул 11 июня; высадились на берег Сибири примерно 25 сентября; нужна помощь, чтобы отправиться за Капитаном и Доктором и (9) другими людьми.
Уильям Ф.К. Ниндеманн, Луис П. Норос, моряки ВМФ США
Отвечайте немедленно: нужна еда и одежда.

Снова расспросив Кузьму, я узнал, что Ниндеманн и Норос направлялись в Булун, что их нашли в хижине в местности Булкур[51], у первого изгиба реки на запад, в двадцати милях к югу от деревни Тит-Ары[52], что они были очень больны, сильно страдали от голода и холода, и что он, Кузьма, понял, что многие из их товарищей погибли. Но, сверившись с запиской, я увидел, что не хватает только одного человека, так как там было написано: «Капитан и Доктор и (9) других людей», число девять было выделено скобками. Поэтому у нас сразу возник вопрос: кто мог быть тем несчастным? Никто тогда не догадался, что это был Эриксен, рыбак с Северного моря и один из лучших людей в экипаже корабля. Датчанин, конечно же, измотал себя и отморозил ноги во время шторма из-за слишком большого напряжения сил, когда было небезопасно поручать кому-нибудь ещё управление лодкой.
Пока все гадали, кем мог быть пропавший человек, упомянутый в записке, я решил, что правильнее всего было бы немедленно встретиться с Ниндеманом и узнать местонахождение Делонга и его спутников; поэтому я сказал Кузьме, что он должен немедленно снова погрузить в сани небольшой запас еды и отвезти меня в Булун. Он возразил, что это невозможно. Дело было в собаках: они бежали несколько дней подряд, изранили лапы и не могли снова отправиться в путь, пока их не накормят и не дадут отдохнуть. Но мне не терпелось, и я настоял, чтобы он немедленно отправился сам или послал кого-нибудь в Ары, в десяти верстах к северу, за свежей упряжкой собак, чтобы мы могли отправиться в ту же ночь или на следующее утро. Поэтому туда был немедленно отправлен гонец, а мы продолжили перекрёстный допрос Кузьмы.
Он рассказал, как они со старостой пересекли горный хребет на восточном берегу Лены и обнаружили, что лёд на реке вскрылся. Льдины громоздились огромными массами, образуя заторы, вода затопила берега, и, поскольку их путь лежал вдоль реки и по льду, то они уже думали повернуть назад из-за нехватки провизии, но всё же дождались в поварне, пока лёд снова покроет реку, и тогда им удалось пробраться по краю берега под крутыми горами, которые возвышаются над рекой в этом месте.
Особенностью местных рек является то, что их воды в основном образуются в результате таяния снегов в июне и июле, когда, например, Лена, выходя из берегов, растекается в иных местах на ширину шестидесяти миль и более[53]. К концу лета объем воды уменьшается, и в течение августа уровень воды быстро падает, а в сентябре прекращается всякое таяние и начинает формироваться первый лёд; уровень воды, которая держит лёд на своей поверхности, продолжает падать из-за прекращения таяния на юге, и огромный ледяной покров, который более не поддерживается водой, оседает, ломается и уносится течением. Плывущий лёд образует заторы, река позади них поднимается, сносит их и гонит лёд перед собой, чтобы снова замёрзнуть и затем снова сбросить свои ледяные оковы. Это продолжается до поздней осени, пока уровень воды не уменьшится до минимума. Тогда река успокаивается, находит себе путь подо льдом и тихо продолжает своё течение к морю. Такова была причина задержки Кузьмы по дороге до Булуна.
Но по прибытии туда казачий командир Баишев[54] разрешил ему задержаться и отдохнуть только одну ночь и затем поторопил его вернуться в Зимовьелах с небольшим грузом провизии и письмом от него и священника, а также устным сообщением о том, что он, Баишев, прибудет в Зимовьелах послезавтра и привезёт еду, одежду и оленей достаточно, чтобы доставить всю нашу команду в Булун.
Какой-то недоброжелательный распространил сообщение о том, что задержка Кузьмы случилась оттого, что он в пути напился; но я рад сообщить, что это не было ни утверждением самого Баишева, ни заключением официального расследования, проведённого по моей просьбе Ипатьевым[55], исправником округа. Оно показало, что между деревней Кузьмы и Булуном нельзя было найти ни капли спиртного; что Баишев разрешил Кузьме остаться в Булуне только на одну ночь; и поскольку он последовал за ним на следующий день на оленьих упряжках, а Кузьма прибыл в Зимовьелах днём раньше, сообщение это, следовательно, было подлой клеветой и имело свой источник в тех низменных проявлениях человеческой натуры, которые у некоторых людей превалируют и являются неуправляемыми – эти люди, живущие среди нас, обманывают, унижают, очерняют и оскорбляют тех из своих собратьев, которые искренне пытаются выполнять свой долг и стараются быть лучше.
Кузьма действительно уехал и вернулся так быстро, как это было возможно в то время года, и, кстати, помните, что в этих краях нет никаких дорог. Состояние маршрута здесь меняется в течение всего года, и только те, кто имеет опыт путешествий, могут найти в этих местах правильный путь без компаса, ориентируясь по горным вершинам и снежным застругам от господствующих ветров. Кузьма и все местные жители, заинтересованные в том, чтобы снабжать нас продовольствием и проводниками, были, по приказу генерала Черняева, тщательно опрошены в моем присутствии Ипатьевым, и было сделано единственное верное заключение, что все они сделали всё, что было в их силах, для нашего здоровья, удобства и безопасности; что Кузьма доставил сообщения из Зимовьелаха в Булун как можно быстро (он, на самом деле, был первым человеком, пересёкшим эту местность в это время года, с большим риском и самопожертвованием), и что его преданность и усилия, безусловно, заслуживают чего-то лучшего, чем подозрения и клевета. Интересно, однако, что самая беспощадная и бессмысленная критика делалась теми, кто находился за 10 000 миль от мест событий, людьми, которые, несомненно, сочли бы самым ужасным испытанием в своей жизни, если бы им пришлось завтракать раньше десяти часов утра.
Я не смог выехать из Зимовьелаха в ночь возвращения Кузьмы, но всё было готово к отъезду на следующий день. Ранним ясным утром 30 октября прибыл Василий Кулгах с прекрасной собачьей упряжкой. Правда, сани его были слишком старыми для столь долгого путешествия, но мы рассчитывали по дороге приобрести новые. Перед отъездом я дал мистеру Даненхауэру устные распоряжения, которые впоследствии, когда бумаги у меня стало больше, я изложил письменно, в которых я дал ему указание немедленно по прибытии Баишева с оленьими упряжками и одеждой отправиться в Булун и ожидать там моего прибытия. Я сообщил ему, что рассчитываю перехватить Баишева по дороге и повернуть его назад, чтобы он сопровождал меня в поисках пропавшей команда первого куттера, но, если этого не случится, я поспешу в Булун с целью поскорее узнать у Ниндеманна подробности об отряде Делонга и, следовательно, прибытие Баишева в Зимовьелах будет означать, что мы не встретились.
Я взял с собой остатки одежды, которые остались у меня ещё с корабля; состояли он из остатков нижней рубашки и кальсон, которые служили мне верой и правдой с июня месяца, пары тонких шерстяных штанов, которые я не только не снимал с себя в течение нескольких месяцев после того, как покинул корабль, но и носил ещё во время моего путешествия по Китаю задолго до того, как поднялся на борт «Жаннетты» и штанины которых были отрезаны ниже колен на материал для заплат на более важные места; дырявые чулки, мокасины из тюленьей кожи, голубая фланелевая рубашка, которую я носил целый год, и моё старое дырявое пальто из тюленьей кожи, севшее, потёртое и без подкладки. Меховая шапка и пара брезентовых рукавиц завершали мой костюм. Я также взял с собой свой старый верный спальный мешок – в дороге я натяну его на ноги, чтобы они не мёрзли. Со всем этим, а также с небольшим запасом из пяти фунтов хлеба, чая, фунтом пеммикана, который я припрятал как раз на такой крайний случай, и кучей замороженной рыбы мы, наконец, отправились в Булун. Температура была где-то между десятью и двадцатью градусов ниже нуля (по Фаренгейту)[56].
До жилища Кузьмы в Тумусе было всего несколько миль через залив. Здесь мы приобретём новые сани, которые должны выдержать тяжёлое путешествие по горам и речным торосам. Прибыв в Тумус, мы сразу же занялись этим, и тут я с удивлением узнал, что новые сани ещё нужно будет построить, то есть на эти «новые» сани нужно будет поставить новые полозья и стойки. Ничего не поделаешь —старые наши сани были бесполезны, так что придётся делать новые, и немедленно. Мне, по крайней мере, было интересно наблюдать, как наш новый транспорт обретает форму прямо на моих глазах, это делалось так ловко и со знанием дела, что ещё до вечера мы были полностью готовы к путешествию.
Это было 30 октября 1881 года. В этот день, примерно в ста милях от Тумуса, печально решилась судьба Делонга и его товарищей; а пять месяцев спустя я нашёл их тела, открыл последнюю написанную страницу записной книжки Делонга – его «ледяного дневника», как его теперь называют, и прочитал последнюю горестную запись написанную, очевидно, утром: «30 октября, воскресенье. – Сто сороковой день. Бойд и Герц умерли ночью, мистер Коллинз умирает…». Таким образом, в конце дня, когда я загружал свои сани в Тумусе, закрылись глаза и закончился земной путь капитана и его доблестных людей, до конца боровшихся с Судьбой и её безжалостными демонами – льдом, ветром, голодом и холодом…
На следующее утро, 31 октября, было очень холодно, с востока дул сильный ветер, гнавший тучи снега, заслонявшие слабый свет солнца, которое уже се́ло за горным хребтом на юге, чтобы не показываться до следующей весны. Старый Василий пополнил свою упряжку новыми собаками из Тумуса и вместе с жителями деревни и обитателями хижины Кузьмы, подобно древним мореплавателям, отправлявшимся в долгое и опасное путешествие, со всеми положенными церемониями они совершили свои религиозные обряды перед иконой в гостевом углу. Поклонившись до земли, коснувшись её лбом и поцеловав, он выпрямился и сказал: «Ну, пошли!».
Собаки были уже запряжены, и теперь им не терпелось поскорее пуститься в путь. Их было одиннадцать, разных по размеру и окрасу, некоторые были пёстрой масти, хотя в большинстве были рыжие, как лиса. Были они разных пород, самая крупная весила около сорока пяти, а самая лёгкая – около двадцати пяти фунтов; и вся эта разношёрстная компания сотрясала ледяной воздух оглушительно-звонким лаем.
Я сел боком на сани, волоча ноги по снегу, оставив место впереди для Василия. Тот схватил длинную, окованную на конце железом палку – остол, которым он управляет санями и собаками (а когда в плохом настроении, и лупит их тоже), и, схватившись за луки саней, слегка покачал их и крикнул что-то упряжке. Сани рванули, собаки дружно залаяли, завизжали, зарычали, задние кусали передних, те оборачивались, чтобы дать отпор, кто-то упал, кого-то сбили с ног и потащили за постромки, Василий кричал во весь голос, уговаривал, ругал и проклинал всех по очереди, пока, наконец, вся стая окончательно не запуталась в визжащий и рычащий живой клубок. Чтобы успокоить и распутать сумасшедших собак, Василий набросился на них со своим посохом, и единственное, что меня удивляло, – это как бедные животные переносили такие тяжёлые удары. Правда, некоторые из них, получив сильный удар по пояснице, несколько минут волочили задние лапы, но в конце концов это, похоже, не уменьшило их желания драться и кусаться. Тем не менее, они стали значительно послушнее после этого избиения, и побежали ровнее, следуя за вожаком, который, в свою очередь, слушался приказов Василия: «Тук, тук! Тадак, тадак! Стой, стой!», то есть «Направо! Налево!..», и всякие ободряющие и ругательные слова.
Как только собаки пережили своё возбуждение и всерьёз приступили к работе, они стали выглядеть очень живописно – с опущенными головами, загривками дыбом и виляющими хвостами, лишь изредка повизгивая, они неслись по лощинам и руслам рек со скоростью около шести миль в час. Перед крутыми спусками собак иногда отвязывают, а сани спускают вручную, но даже когда уклон не слишком крутой, упряжка устремляется вниз с такой скоростью, что, если водитель недостаточно ловко действует своим остолом, сани могут перевернуться, и не всегда без серьёзных травм. Такой несчастный случай случился и с нами в первый же день после отъезда из Тумуса, и я так сильно ушиб левую руку выше локтя, что она несколько часов не могла двигаться, и опухоль потом ещё долго не спадала.
Сибирские сани имеют от двенадцати до четырнадцати футов в длину, около двадцати дюймов в ширину и примерно десять дюймов в высоту. Полозья их пяти-шести дюймов в ширину, загнуты с одной стороны и сделаны, если есть возможность, из берёзы. Стойки на них, которых обычно по пять на каждый полоз, возвышаются над настилом саней, сверху к ним прикреплены продольные поручни, которые не только добавляет прочности хрупкой на вид раме, но и образуют ограждение для груза. Стойки имеют заострённые концы, которые вставляются в соответствующие отверстия в полозьях, а в середине каждой стойки (в этом месте стойка имеет утолщение для прочности) сделано коническое отверстие с бо́льшим диаметром, обращённым внутрь. В эти отверстия вставляются поперечины, на которые укладывается настил из одной-двух тонких деревянных досок, сделанных из расколотого вдоль бревна и гладко выструганных лезвием топора, используемого в качестве рубанка. Кормовые стойки наклонены на несколько градусов от вертикали. К полозьям стойки крепятся ремнями, которые проходят через отверстия, просверленные у основания стоек и через парные отверстия в полозьях. На нижних поверхностях полозьев ремни утоплены в древесину.
Всё это дело связано вместе, но остаётся гибким, как ивовая корзина, ни одна из частей не закрепляется жёстко, иначе сани развалятся от тряски на ухабах и неровностях пути. Если какая-либо из связок порвётся или износится, всегда можно использовать ремни от собачьей упряжи. Спереди оба полоза прикреплены к дуге из берёзы диаметром полтора дюйма, она защищает их от твёрдых препятствий, например, ледяных торосов, к дуге также крепится потяг – центральный ремень, к которому постромками привязаны собаки.
Я уже говорил, что наша упряжка состояла из одиннадцати собак. Они привязаны к потягу с интервалом примерно в четыре фута, с лидером впереди. На некотором расстоянии от саней на потяге располагаются застёжки, с помощью которых к нему крепятся постромки от каждой собаки. Сибирская собачья упряжь известна в Сибири как «голландская упряжь», с нагрудными ремнями. Я считаю её не такой удобной, как та, что используется жителями Нортон-Саунда и Сент-Майкла. При неправильной регулировке – а в холодную погоду не всегда может найти для этого время – такие ремни сползают вверх и начинают душить собак за шею. В то время как в американской упряжи сбруя собаки лежит на задней части собачьей шеи и при движении усилие тяги прилагается к её плечам. Она выполнена в форме восьмёрки, голова проходит через одну из петель, а другая достаточно длинная, чтобы пройти под передними лапами и охватывает туловище, а на спине к ней привязан короткий постромок, прикреплённый к потягу за застёжку. Эти застёжки делают сравнительно лёгкой задачей распутать упряжку, если собаки запутались в драке.
Я заметил, что у обученной сибирской собаки есть особенность: если её отвязать для какой-либо цели, то она сразу же снова вернётся на своё место в упряжи, как только её позовут; хотя новую собаку иногда нужно немного уговаривать, что туземцы делают, игриво подбрасывая свои рукавицы, чтобы привлечь её внимание и таким образом защитить от гнева «бывалых» членов упряжки. В пути каждый час или менее упряжку обычно останавливают и собакам дают отдохнуть; на остановках они валяются на снегу, стряхивают иней с глаз и ушей, лежат и облизывают лапы, которые через какое-то время начинают болеть от бега. Упряжка редко может выдержать более десяти дней непрерывного движения, потому что, как бы хорошо её ни кормили, лапы у собак ранятся и кровоточат, а собаки вскоре так ослабевают, что становятся почти не способными работать. Туземец не будет без крайней необходимости заставлять работать свою упряжку два дня подряд, обычно один день он путешествует, а на следующий отдыхает.
В моём случае было, однако, не так, потому что я настоял на том, чтобы мы двигались как можно быстрее, и когда наступила первая ночь, мы остановились в поварне, примерно в шестидесяти верстах от Тумуса. Здесь собралась разномастная толпа туземцев и мелких торговцев, которые ехали по своим делам осенней торговли. Все вместе, мужчины, женщины и дети, собрались в хижине двенадцать на двенадцать футов и высотой четыре с половиной, с камином в центре, в которым в доброй дюжине котелков и чайников готовилась еда на всех присутствующих. При нашем появлении все обернулись и уставились на нас, затем подвинулись, освобождая место. Василий отнёс мой спальный мешок в угол поварни и поставил на огонь наш чайник и котелок, в котором была половина головы северного оленя. Затем, привязав и накормив собак и поужинав, мы легли спать. Тридцать человек в хижине размером не более двенадцати футов! После дневного путешествия я чувствовал себя неплохо, если не считать ушиба, который я получил, когда опрокинулись сани. Также ужасно болели ноги, которые ещё не полностью оправились после обморожения, при этом на пятках и голенях опять образовались волдыри, а ногти на ногах почернели и начали отслаиваться. Тем не менее, через некоторое время все спали, время от времени просыпаясь от воя собак или укусов паразитов.
День начался с яростного ветра, несущего облака снега. Бедных собак это заставило страдать из последних сил, какие ещё остались в их слабых дрожащих телах. Ибо в путешествиях их никогда не пускают на ночь в жилище – ни в поварню, ни куда-нибудь ещё. В снег в носу саней вбивают кол, чтобы удержать их на месте, центральный потяг хорошо натягивается и крепится к другому столбу, а остол погонщика втыкается в центре и потяг поднимается так высоко, что средние собаки едва могли лечь. Это делается чтобы собаки не дрались и не запутывались, и, пока они таким образом ограничены, их кормят. Каждая собака жадно поедает свою порцию рыбы. Молодые и сильные, с хорошими, острыми зубами, быстро проглатывают свою порцию, а потом пытаются урвать кусок у своих пожилых товарищей. Те огрызаются, рычат и щелкают зубами, отбиваются от яростных укусов и всё равно глотают, не прожёвывая, свою замороженную еду. А тут ещё нападают сзади – какой-нибудь только что ограбленный сотоварищ, или молодой и злобным мародёр, побуждаемым к нападению уверенностью, что старый и беззащитный может только с трудом жевать беззубым ртом. Часто в делах такого рода ни одной из сторон в конце концов не удаётся заполучить рыбу, потому что, в то время как жертва и грабитель ведут войну за её обладание, какая-нибудь хитрая дворняжка, подобно адвокату, незаметно подползает и уносит добычу.
Собак наших сейчас можно было найти только по кучкам снега, под которыми они лежали, и Василий не хотел трогаться в путь, пока погода не прояснится и ветер не стихнет. Никто из наших товарищей не хотел встретиться с бурей лицом к лицу, и только те, кому ветер был попутный, собрали свои вещи и отправились в путь немного позже в тот же день, когда шторм слегка стих. Теперь уже Василий намекнул на свою готовность продолжить путешествие, выразив, правда, свои опасения за нашу безопасность в такую погоду. Я всё ещё хромал от болей в ногах и дрожал от холода и ветра в своей изодранной одежде. Туземцы, видя мои страдания, качали головами и бормотали что-то про мороз и ветер. Но я поддержал Василия, и отряд наш, помолившись, перекрестившись и получив в подарок сушёной рыбы от сочувствующих туземцев, начал свой второй день путешествия в Булун.
По мере того как мы продвигались, погода прояснялась, но холод становился всё сильнее, и ноги мои сильно замерзали. Василий останавливал упряжку примерно каждые полчаса, и, пока собаки отдыхали, я массировал и разминал конечности, разгоняя кровь. Если бы я бежал рядом с санями, то с облегчённым грузом собаки двигались бы быстрее, но об этом не могло быть и речи – такому калеке, как я, не в силах было поспевать за ними. День сменился ночью, мы прошли горы и теперь брели по руслу реки. Именно здесь я надеялся встретить Баишева с оленьими упряжками и намеревался либо повернуть его обратно в Булун, либо немедленно отправиться с ним на север, если он знал местонахождение Делонга с людьми по рассказам Ниндемана и Нороса или туземцев, которые нашли их голодающими в Булкуре. Лёд в русле реки был чрезвычайно торосистый и громоздился огромными кучами и валами, это часто заставляло нас идти в обход, то выбираясь на берег, то снова спускаясь на лёд. Я думал, что умру от холода, прежде чем мы доберёмся до Кумах-Сурта[57], потому что я не мог ничего, кроме как сидеть на санях и колотить себя по конечностям, чтобы согреться. Темнело и становилось всё холоднее, а добрый старый Василий продолжал подбадривать меня, говоря: «Маленько-маленько, балаган». Так он болтал без умолку, ругался на собак и время от времени трогал меня рукой, как бы для того, чтобы убедиться, что я живой и не свалился с саней, а убедившись, заливался весёлым смехом и казался совершенно довольным.
Далеко за полночь, когда мы ненадолго остановились, чтобы дать упряжке передышку, Василий указал своим посохом вперёд и сказал: «Кумах-Сурт», и потом, вытянув руки с опущенными и дрожащими пальцами, подобно ветвям дерева, повторил несколько раз: «Мас, мас» (дерево). Тут я различил на берегу очертания низких карликовых сосен, и понял, что мы пришли к месту, где росли деревья, или, другими словами, достигли границы леса в этом регионе. Зрелище это было для меня более, чем приятным – это был первый живой лес, который я увидел за последние два с лишним года, и каким бы жалким и чахлым он ни был, я чувствовал себя так, словно встретил старого доброго друга.
Вскоре мы услышали в отдалении лай собак, и наша упряжка, на мгновение прислушавшись, ответила звонким лаем и с новой силой бросилась вперёд. Через некоторое время мы увидели искры из печных труб на высоком западном берегу реки, и вскоре жители деревни, числом три-четыре семьи, разбуженные лаем собак, подхватили нашу упряжку и помогли ей подняться на берег. Нас пригласили в новую, уютную и тёплую юрту, где зажиточная семья из вдовы с тремя сыновьями (у одного были парализованы ноги), двух дочерей, старой тёти и слепого родственника, жила в настоящей якутской роскоши. У них была хорошее жилище, много свежей и копчёной рыбы, чай и немного соли. Василий рассказал им нашу историю, и, конечно, пришли соседи, чтобы увидеть и подивиться чудищу из ледяного моря, – мус байхал, – мысль о котором, кажется, наполняет их ужасом, потому что я обнаружил, что все они готовы выполнять любые обязанности, кроме выхода в открытое море.


