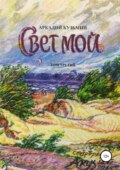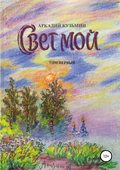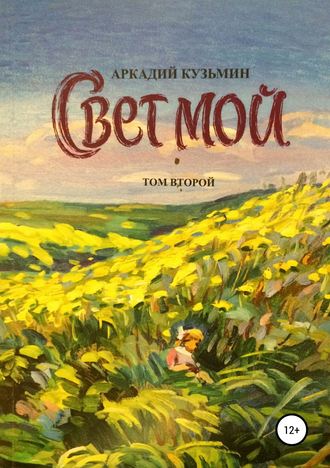
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 2
– Как же! Видел на пригорке – вытянутая горбылем деревня. Укороченная нынче.
– Она в целости еще стоит? Нетронута?
– Стоит пока… Не сожжена.
– Они, что же, жгут вповал, когда бегут?
– Чаще всего. Что найдет на них, – сказал Федор с намеком сведуще. – Ведь чужое – не свое, ничего не жалко. Философия такая среди них бесконечно проповедуется. Знаю потому, что еще в ту империалистическую войну пять лет просидел у них в плену. В Пруссии. Наслушался и насмотрелся – во! – провел он рукой себе по шее.
– Боже, боже мой! Когда ж только выметутся они прочь отсюда? Изождались мы. Моченьки у нас больше нет.
– Ничто не вечно. Даже мрамор дает трещины.
– Ой, да! Что ж, терпи, по-вашему?
– Потерпите, бабы, еще малость, вам скажу; очень-очень скоро так произойдет – немцы все подряд уже минируют в усиленном порядке – самый точный признак подготовки к отступлению, – ровно говорил собеседник полушепотом, взволнованный, с оглядкой быстрой. – Я-то знаю, вижу. Потому как эта инженерная часть немецкая, в какой я обслуживаю лошадей, как раз и занимается теперь минированием. Потому без продыху и гонят меня туда, к фронту. Ведь дальше здесь, в леске, врыто еще несколько их землянок, кухня. И действительно: если немцы сами предлагают вам работу, можно эти дни почистить для них и картошку; тем маленько подкормиться, поддержать себя и в какой-то степени подстраховаться даже. Эти немцы вроде б посмирней других: они не живодерствуют.
Подымаясь, на прощанье он пообещал еще, что, наверное, сможет заехать он сюда также завтра, послезавтра – чтобы поделиться, если будут, новостями. Постарается заехать, заглянуть.
Анна заговорщически провожала его к лошадям, приободренная и вместе с тем разочарованная узнанным от него, – что так неизменно-медленно текли вокруг события в то время, как она вся измучилась уж ожиданием скорейших перемен. Но хоть она поговорила с человеком знающим, всевидящим, военным – душу отвела. Ладно и такое. Все ни ничего.
На следующий день, после полудня, в землянку явились с легкого заработка на немецкой кухне гордые, франтившие девки Шутовы с подружкой Галькой-переводчицей. С заработанным хлебцем и гороховым супом. И Анна, видя, с какой жадностью малые ребятки засмотрелись на сладости (конфетки «Бон-бонс»), которые те демонстративно, шурша лощеной оберткой, сосали во рту, опять спросила у Наташи – опять непростительно, сама понимала, смалодушничала:
– Доченька, может, и ты тоже сходишь туда завтра?..
– Зачем это, мама?! – Наташа вспыхнула, как ошпаренная.
– Доченька, ведь знаешь наше положение. Мука почти кончилась вся. Это ж не корова, что можно трижды в день доить. Будем голодать совсем. Помрем с голода. Как хотите.. Вон и Дуня расхворалась: горит, бухает-кашляет. Ну, смотрите, дети.
Анна, хоть и говорила малодушно-приниженно так, сама не верила в то, что оккупанты добродетельны хотя бы чуть и уж жалостливее к детям, кого также беспредельно, с заведенным механизмом, мучили, заставляли на потоке умирать. Война выработала в них уже – для них было характерно – одно лишь механическое бездушие.
Правда, были и приятные отклонения. В рождественском духе. Однажды, разукрасив в избе елку, вежливый немецкий солдат вошел в кухню и взял за руку испуганно смотревшую на него Танечку: он хотел, чтобы она с ним подошла к разряженной елке. Но она не пошла с ним в комнату, вырывалась. И тогда он, смеясь, взял ее на руки. Била она его по телу и лицу – отбивалась; ручонками и ножонками работала и кричала – только бы отпустил ее. Да немец приличный попался – не отпустил, покуда не поднес и не поставил ее возле невиданной елки с навешанными на ней конфетами и галетами; он совсем приветливо сказал ей: – Держи вот так! – подставил подол ее платья и набросал в него с елки конфет и галет, и только тогда отпустил ее с гостинцами. Очень доволен этим был. Ребенка угостил. Проглянули в нем человечность.
Анна, вспомнив это, улыбнулась по-мадоньи, и забыла, что такое сказала дочери – уже смотрела на нее непонимающе.
– Нет, я лучше умру с голодухи, чем пойду к немчуре в услужение. – И Наташа на миг живо представила себе серые джемперы немецкие, солдатские, какие видела зимой 41-го, – обсыпанные бело-мясистыми, откормленными вшами: «Это-то еще стирать для них?! Тоже мне завоеватели вшивые!» И ее чуть не стошнило и не вырвало. – Ни за какие сладкие коврижки и подачки я не пойду, только из-под палки. Никогда им не служила, а нынче не буду и подавно. Что ты, мама! Не неволь меня, пожалуйста…
– Да, я подумала только, что даже этот пленный, Федор (не чета нам) работает на немцев по принудку, – сказала Анна. – Хребет свой, должно, не переломит, а спасется так.
– А надо всем отказаться от такого спасения, – повысила голос Наташа. – Мы же этим помогаем немцам…
В разговор грубо вклинился Голихин Семен – с раздражением:
– Ишь какая, погляжу, ты, Наталья, грамотная, белоручка, выскочка. Хочешь на елку залезть – и не ободраться. Разве это можно?
– Да, да, – подхватили девки с того же края землянки. – Только бы не замараться ей. Значит, в чистюльки девочка метит. Ох, прямо не знаю… Выделиться хочет…
– Уж слишком строгость на себя напускает, поскользнуться можно.
И звонкоголосо Саша тут съязвил – подзадорил тех:
– Успокойтесь! Что вы, право… Вам-то просто больше достанется господ, бляха медная. – Он от неослабных болей в боках и распухших ногах полулежал в лошадином стойле, но был и сейчас по-ребячьи мстительно-непримирим к вредоносным девицам, опасно ошалевшим от обилия немецких кавалеров.
Голихин Семен, багровея, сорвался к нему:
– За такое непочтение к старшим… Вот я проучу тебя, щенка, сейчас!..
Однако Анна уже заступилась за сына:
– Не смей! Руку на него накладывать не смей! Ты, что, наместник Силина? Он и так судьбой обижен. А чем вы обделены? Скажите мне!
– Ах, поганец какой! – вздымался остановленный Голихин. – Надо же! Да пусть все они лопнут, сдохнут – мне-то что? А я-то еще…
– Не дам командовать тут! Я – мать его, и только я в ответе за него.
– Вот и занимайся, Анна, с ними. А я сыт уже выше головы. Твоими детками любимыми.
«Где-то уже было это – знакомое. Я слышала». – И всплыло в памяти у Анны: – А-а! Вот же… «Я Анкиных ребят спасал!» – оправдывался на правлении колхоза покойный (убитый немцами) председатель Дыхне, муж Инессы Григорьевны, бегавший (а не спасавший колхозный скот) в первую бомбежку вокруг избы вместе с семьей Анны.
– Потом еще скажешь всем, – сказала она Семену, – что спасал здесь моих детей. – И Наташе: – Ладно, доченька, прости меня. Молчать буду. Поучителей и без того хватает, чтобы… – Глаза ее как-то сжались, ушел в их глубь взгляд, и она замолчала неожиданно, закрыла рот.
Накалившиеся было страсти разрядились, утихли.
Перед Анной внезапно ярко-осязаемо вспыхнуло некое видение, как будто связанное с давней, смутно воспринимаемой порой ее детства: затемненный закоулок меж двух изб или аллея меж берез, спустивших раскачиваться свои пряди и остающихся позади нее, за плечами и спиной, а там впереди – тихий манящий зелено-атласный свет искривленного дубка, похожего своим шатерком листвы на молодое, легко плывущее сюда, только захоти и позови, облачко. Маленькая сама Анка, сколько Анна себя помнит, в белом платьице и в перышках-сандалиях, подпрыгивая, спрашивает у кого-то, что там светит, и радостно-пружинисто бежит туда для того, чтобы узнать, по теплой мягкой стелющейся тропочке. Оттуда же, из этого проема ее, бывало, звала-узывала позже мертвая уже мать: «Анна! Анна!» (не дозвалась пока, выходит). А потом кто-то странно лежит в переду ее родительской избы под образами и тихо, в потолок, говорит что-то себе. И все в себя. И эта минута торжественна и грустна. Что Анна даже забывает перекреститься. Такое видение вдруг накатилось на Анну, но в нем не пробиться до самой сути. Она одновременно и ребенок и будто этот взрослый лежащий человек.
Она инстинктивно, верно, для того, чтоб не закачаться и не упасть, опустилась на твердое и корявое, как сама, стойло и сидела так, не шевелясь, сохраняя равновесие тела. Тяжелые, что камни, из которых горы сложены, были у ней мысли. Тяжелые, но светлые в душевном своем исходе.
XX
С некоторых пор Анна сама за собою замечала странности, находившие на нее подчас, помимо, казалось, ее воли и желания: так, насколько легко было убедить ее в чем-то сомнительном, убедить даже первому встречному, не знающему существа вопроса досконально, настолько и трудно было иной раз переубедить ее в чем-то очевидном для многих, – этим она выделялась среди других сельских женщин, смирившихся со своей судьбой. В связи с этим нередко у ней возникало такое ощущение, будто кто-то решительно, не колеблясь, командовал ею, и только – тихо, но внушительно отдавал ей исполнимые приказы – и они без колебаний исполнялись ею. Возражений тут быть не могло. Она жила, как и прежде, совестливой жизнью трудового и воспитанного человека; она волновалась за все больше прежнего и сейчас, как никогда, нуждалась в непоколебимом голосе советчика – друга, в котором звучала бы моральная поддержка для нее; она нуждалась в ясном совете, как дальше быть, что предпринять. Самой себе она не могла совета дать. Ответа не было. Она его не находила – и поэтому так мучилась душой. Так уже в какой-то степени бывало у нее.
Отчетливее Анна осознала это после разговора с подвернувшимся ей военнопленным возничим. Да, все семнадцать лет, какие Анна прожила в замужестве, нажив семерых ребят, она прожила за спиной веселого и добродушного работяги мужа, работавшего за десятерых (в его золотых руках все спорилось, пока он был в полной силе) и всячески оберегавшего ее от непосильных дел – рыцарски-возвышенно. С самого начала. Ни разу он не тронул ее даже пальцем. Так что, будучи за ним, Анна привыкла в семье к тому, что все главные семейные вопросы в доме бесповоротно решал он, глава семьи, а она лишь помогала ему в меру своих способностей. Практически так испокон веков было заведено во всех здоровых крестьянских семьях, в которых хозяин был непьющим и авторитетным мастеровым мужиком. Но теперь-то рядом с нею не было ее опоры и опоры ее детей, не было уже давно; и поэтому ей, привыкшей ко многому и многому уже не научившейся, приходилось все решать и делать самой за двоих, притом-то, что было главным образом связано с жизнью детей – святая святых ее материнской обязанности.
Анна чувствовала: надежно подставляла ей плечо человека Поля, бессребреница, крепкая, как дуб ветвистый и открытый всем ветрам и солнцу, нравственной своей жизнью, грамотная в том, что умела распознать недруга и неустрашимая никем, никакими фашистами, с настоящей бойцовской закалкой. Однако, так как теперь выручающей Поли тоже не было поблизости и уже никто, разумеется, не мог Анне сказать нужное, решающее слово, посоветовать что-то разумное в непредвиденно сложившихся обстоятельствах (голос детей был совсем иного рода), она, вследствие затянувшегося ожидания и бездействия, все чаще выказывала нетерпение. И сейчас бессонными ночами, неслышимо вздыхая, ломала голову, как им быть и что лучше сделать. Что? Длился и длился кошмар, переполнявший все ячейки в голове – ни повернуться мыслям (во сне), и тогда Анна поворачивалась в стойле на другой бок, чтобы, может быть, избавиться от ощущений безысходности. Но все равно ничего не выходило у нее.
– Нынче отлежала я все вертуки свои, – жаловалась она утром детям.
– Какие вертуки? – удивлялась Вера.
– Ну, бока свои. Вертелась зря…
Это нетерпение в Анне, что зуд, росло еще, по-видимому, вопреки тому, как окончательно распространились здесь, в брошенной конюшне земляной, успокоенность и благодушие среди сонма осуждающих и рассуждающих по-своему людей: полагаясь уж и лишь на то, что кто-то их спасет и вызволит домой, они и не рвались отсюда никуда (благо – были целы), жили и дышали так, как будто бы вокруг ничего такого не случилось вовсе. Или она как-то иначе была устроена, или настроена, что буквально всем нутром своим более теперь не могла переносить некоторых лиц и находиться вместе с ними в одном помещении, помимо всяких каких-то моментов привходящих; или она жила по сердцу иначе, а поэтому и видела наяву, что те словно недопонимали чего-то до конца, не постигли чего-то, были попросту глухи и что она, может быть, по-глупому втайне в себе предъявляла к ним такие же моральные требования, как к себе самой. С одной стороны, казалось, было вроде даже хорошо, что свои ж живые люди, и притом односельчане, окружали здесь, – она постоянно видела, слышала и чувствовала их, а с другой – те все более с каждым новым днем раздражали ее своим бессмысленно-бесчувственным поведением и даже выходками – проявлением какого-то отупения. Отчего же то?
Требовательное отношение к самой себе сызмальства служило Анне добрую службу. Потому она и казалась иным святой женщиной. Да и впрямь: ведь она одна теперь, в такое-то время, тянула на себе и растила целую ораву редкостных ребят! Люди даже в этом ей завидовали как-то. Право, у завистников зависть застит свет, – дай и им того же, боже; из-за этого-то – что им это почему-то не дано – они вечно будут вспыхивать и гореть черною недобротой к везучему, счастливчику, хотя тот ничего дурного им не сделал. Все возможно в мире у людей. И превосходство непростительно. Если, правда, его чувствуют сами окружающие. Потому-то однодеревенцы и отпихивали Анну: когда она к горевшей бочке-печке подходила с чем-нибудь.
– Чуток подожди-ка ты, Макарьевна, не лезь, подожди – не барынька тут: не твой еще черед сейчас, – нахально-вздорно замолола языком рыхлая Домна, подскочив с лепешками к горячей бочке и оттесняя Анну от нее. Плечом. – Вас тут слишком много понабралось задарма – непрошенных, неприглашенных. Вас не переждать… А мужику-то моему, Семену, уже надо завтракать. – И стала ловко кидать на верх бочки трещавшие сухо и курившиеся дымом лепешки.
Анна развела в недоумении руками и сказала только:
– Раньше говорили: надоело жить богато, да приходится.
– Что-что? – переспросила глуховатая Домна, подвигаясь ближе к ней.
– Говорю: я хотела только кипятку нагреть. Кружку. Для малютки. Вся горит.
– Ничего, успеется тебе; твои детки, небось, сразу не помрут, – заговорил солдат-фармазон в Домне. – Вон все они у тебя здоровые; всех, и господа самого, переживут. – Она словно корила этим Анну. – Вы явились сюда на готовенькое, и еще дворцы с печками вам подай в первую очередь… О, народ! О, народ!
И кто-то еще начал тоже подпевать ей.
XXI
Всегда так. Все так. Кто смел, тот и съел. Хамье верх берет, ничего ему не делается; а совестливый, справедливый человек и уходит вдруг – преждевременно из жизни. Неделимая культура у людей, а сколько все-таки несоответствия в их поступках; настоящая культура, видно, недоступна еще всем, хотя бы мало-мальски, но она доступнее тогда, когда разумнее у всех поступки. Это очевидно каждому.
Анна с горечью отступила в глубь конюшни – в свое стойло лошадиное: она не могла никак разговаривать на том же бранном, грязном уровне своих же баб и мужиков, затеявших такие счеты и трепавших ей теперь за что-то нервы; она подавляя в себе всколыхнувший огонь возмущения, села и застыла неподвижно в окружении детей. Ее сухое, почти какое-то святое лицо, светившееся в полусвете подземелья, еще больше истончилось. Что-то сдавило ей в груди, как у отверженной среди совсем глухих и незрячих. Она невольно вспомнила роман Гюго, при чтении которого урывками она, бывало, плакала над судьбами героев и тогда никак не думала, что нечто похожее доведется испытать и ей самой с детьми, если не худшее еще. Хорошо еще, что кружку с жидкостью не швырнули ей в лицо.
И будто бы послышалось ей опять самое будничное, донесшееся теплой волной до нее, до слуха:
– Ой, даже нету слов. Все чисто.
– Родная моя, всего хватает. Не грешат.
– Но она и сама хороша. Золото. И умница, и ладная, аккуратная во всем.
– Так ведь она не такая старая…
– Другой и старый, а все крепенький. Долгожитель.
– Рыба ищет, где глубже, человек – где лучше.
Потом, когда ее уже никто не отжимал от накаленной бочки прочь, Анна грела воду, чтобы кипяточком напоить ребят. А Домна, разинув до небес рот и залезши туда всей рукой, пальцем, как крючком, пыталась подцепить что-то там и вытащить. Может быть, застрявшие там кусочки еды. Так было несколько раз и, в промежутках между этими упражнениями, Домна ухитрялась еще разговаривать с мужем – издавала полумычащие звуки. И Анне было уже смешно смотреть на нее.
Вспомнилась ей смешливая довоенная история с бессовестным клопом, заползшим однажды в ухо Домне; он не давал Домне покоя два дня, а выполз неожиданно на запах блинов в поле, когда та, пообедав ими, прикорнула тут же. И Анна обнаружила тут, что зла не имела на нее и ни на кого другого – абсолютно никакого. Только бы с ее ребятами не трогали – они не стоят поперек дороги кому-либо.
Она несколько отошла, сердце меньше стало саднить, ныть.
Анна размышляла для себя – ей, сиделице в подземелье, и для этого хватало времени; она размышляла – и еще несмиренно ужасалась наказанию лихому, злому, навалившемуся на них всех. Отчего оно? По чьей прихоти безумной?
Собственно, она и осталась, застряла в своем Ромашине, а не выбралась куда-нибудь подальше от войны, от фронта и от погубительной гитлеровской орды, может быть, еще потому, что разумом своим, как всякий здравомыслящий человек, с самого начала ни за что не верила в невообразимый вал всечеловеческой погибели, настигший и ее семью. И только верила, когда это случилось, в неизбежно скорое освобождение, восстановление естественно привычного уклада жизни. Под знаком этого она жила в оккупации, переносила все мучения и лишения, обрушившиеся на нее, ее семейство.
Никто не думал, не гадал о том, что так станется, что приведется жить наощупь; но вот люди стали вынужденно жить и под нависшим вечным страхом – что-то дальше еще будет, чем все это кончится, если изначала что творится; а потом и об этом перестали уж, кажется, думать, попривыкнув к тому, что на долюшку каждому выпало, как в билете лотерейном, и только надеясь на неизмеримую доблесть бойцов.
Федор, пленный, которого Анна еле-еле дождалась, перед вечером причалил, радостный, светившийся задубленным лицом – по-видимому, оттого, что мог быть полезен чем-то выселенцам; они его ждали, и он опять уединился в кружке Анны, Большой Марьи и Наташи, кому, как он видел, встреча с ним была интереснее и необходимее, чем всем другим. В особенности его еще прежде поразили какие-то святые и правдивые глаза Анны, и он в разговоре уже ориентировался на нее. Судя по его наблюдениям, во Ржеве очень скоро будут наши. Туда с кухней он уж не проехал – видно, фронт там. А в Ромашино – зона закрытая.
И открылась ему Анна, доверяясь в волнении:
– Мы хотим туда идти. Что вы скажете? Возможно ли? Не зацапают ли нас?
– Нужно всячески избегать встреч с немцами, – уверенно посоветовал Федор. – Они все законники на свой манер – поставят к стенке без лишних рассуждений; сделают то, что им в голову взбредет. Но, насколько знаю я, они по дороге меньше трогают старых женщин, стариков и детей, а хватают молодых, особенно девушек. Значит, как-то маскируйте свою внешность – под старух… А я сейчас расскажу вам, где их нет. – И он дальше рассказал, как обратно пробираться лучше, – в каких деревнях немецкие солдаты, а в каких их нет и по какой дороге двигаться. В заключение признал: – Да, несладко вам приходится. Не позавидуешь. И возвращение сейчас очень рискованно.
– Поэтому сейчас больше устаешь, наверное, головой, – все думаешь, – сказала Марья.
– А я и так устаю физически, – сказала Анна, – что, кажется, вот перегнулась бы – перевесилась бы через эту доску стойла, – и уж вовек не разогнулась бы. Все уже узнала, перевидела, что можно, и устала настолько, что жить надоело. Мочи нет. Износились мои годы. Дождаться только бы свободы прежней. Для детей.
– А муж твой? – перевел разговор, погрустнев, Федор. – Воюет?
– Воюет. Как все наши муженьки. Если только еще не сложил он голову. – Слегка прослезилась ставшая слезливой Анна. Просушив глаза уголком платка, сказала: – Оборвалась переписка с ним в сентябре сорок первого. Получила от него лишь три треугольничка…
– О, давно… И у меня тоже почта отмененная, считай, с той же поры.
– А откуда родом вы?
– Из-под Иваново, что за Москвой.
– И есть у вас семья?
– Да. Оставил там. Двое парней.
– Муж мой в письме своем назвал винтовку супругой новой: мол, теперь и спит вместе с ней…
– Так это при царе еще такую строевую песню пели, знакома мне она, – отозвался Федор с живостью. – В ней – очень сходные слова: «Солдатушки, браво, ребятушки, где же ваши жены? Наши жены – ружья заряжены – вот где наши жены», – пели мы в то время. Всегда-то воевало мужичье. За чужие интересы. Сколько сил здоровых поистрачено, сгублено. Но разве это жизнь мужицкую улучшило сколько-нибудь? Она толчется, ровно в ступе.
– До чего же глупо все-таки, – сорвалось с языка покрасневшей Наташи.
– А что, дочка?
– Самые слова в этой песне…
– Ну, понятие, что ль, отсталое. Но понятно, по-моему, все. – Федор тыльной стороной руки потер подбородок, шурша щетиной.
– Где же он трубил ту службу солдатскую? Он солдатом был? Рядовым?
– Да, простым солдатом. А называл он чаще Украину.
– Интересно, – удивился Федор. – И мне тоже там пришлось помыкаться.
– У меня, знать, слезы стали очень близко к поверхности, – вроде б извиняющее сказала Анна, впав на минутку в тихую задумчивость: в тех словах Василия, написанных им по-нарошному, она еще больней теперь восприняла его предчувствие разорванности жизни их. – Теперь от всего: обиды, злости и досады – плачу, не опомнюсь.
– Война всегда на войну похожа, – говорил Федор сочным, чуть хрипловатым голосом, – я сегодня тоже… ночь не спал. Вертелся, как червь земляной, – почему-то признался он, или только сделал попытку признаться в чем-то.
– Уж поскорей бы выстреблись они отсюда, – Анна думала о другом, – Валеру, сынка, забрали в лагерь – и что с ним?
– Воспитание у них такое. И такая же идеология. Немцы живут войной, любят играть в нее. Им дали поджигательного фюрера – они и накрутили мордобой. Не зря же говорят: положи перед немцем масло и каску для того, чтобы он что-нибудь выбрал для себя, – он, не задумываясь, выберет каску.
– А как они все еще не ведают, что это такое, а им велено исполнять? – вмешалась Большая Марья – заговорила грубовато.
– Убивать-то? Это вы хотите сказать? Да? Самоочевидная же истина: трагедия немцев сегодня не в том, что им велено это кем-то всемогущим, а в том, что они еще настолько приучены с пеленок быть послушными, что охотно исполняют все подряд, – все самое ужасное, и зная, зная хорошо, что чем пахнет, сколько стоит. И ведь знают очень хорошо, но исполняют в точности, без отступлений, автоматически – от сих до сих, – судил категорично Федор, заводясь, но не повышая голоса. – Все они, арийцы, до того воинственные – заплеснели этим. – Он разгорячился и тут же покачал на себя головой: – Вот псих-то ненормальный стал. Невольно станешь. Извините меня.
– Анна уже веселей поглядывала на него. Будто бы приободрилась.
– Нет, ведь что же получается, – начала она, – все высшие – кто в начищенных чинах и званиях – управители невиданно один перед другим раскручивают свои палительные страсти и мудруются, а ты страдай, весь дрожи и не смей рыпаться? Пропащее, значит, дело? Так?
– Ну, так вот, поди! Меньше брешут, меньше радуются. А стратеги-генералы (и особенно немецкие), известно, всегда добрые на чужой каравай. Шире рот разевай.
XXII
– Скажите: вы что же, когда-то в самой Германии в плену пребывали? – тихо спросила Наташа.
– Да, в ней находился: второй уже раз мне не повезло, – сказал Федор, вздохнув. И не то про себя засмеялся странно, не то застеснялся чего-то. – Угодил я в пятнадцатом году нехитростно. А проснулся – все вокруг уже мертво, вздыблено, перепахано снарядами. Все столетние деревья и те побиты. Лишь надо мной огромный – в облака упирается – коряжистый дуб, под которым я славно так выспался, цел-невредим; при обстреле незатронуло нисколько его на счастье мое: завались он – и хана была бы царскому солдату. А везде уже видно оцепление германское, слышна команда германская. Раньше все – германцы, германцы; это нынче послушаешь: немцы, немецкое. Ну, и заарканили нас, смертью милованных. Поводырей – стрелков с карабинами с боков выставили, повели.
– А вот трое наших мужиков тогда тоже попали в плен, отсидели в Германии несколько лет, – сказала Анна. – И один из них теперь стал добровольным старостой…
– А как же теперь, в эту войну, Вы попали в плен? – спросил бойко, без боязни Саша. – Тоже, может, заснули?
И пленный Федор тут посуровел:
– Нет, не заснул: теперь нам не хватило орудий, снарядов и людей. Мы были еще мало подготовлены к такой чудовищной войне, не хотели в нее верить. И даже тогда, когда она началась уже, опомнились не сразу… И что я досказать вам хотел: да, в немцах – уже неизлечимый и непробиваемый порок, вбитый пропагандой в головы. Говорят, что у них есть большой военный талант – здорово воевать. Однако такой талант дорого обходится народам – проверяется он только на людских костях. Кстати, – и Федор пригнулся ближе к женским лицам и проговорил потише, – наши шибко, кажется, шарахнули их под Сталинградом. Вот когда оружия стало хватать. Даже трехдневный траур в честь этого объявлен в Германии был. Краем уха это слышал. Вы не знаете?
– Не про это, – сказала опять Наташа негромко. – Кой-что знаем из листовок – про оборону Одессы, Севастополя, например.
– Да… А дальше будут и совсем сухи орехи для них. Уж поверьте. Так что сейчас пуще остерегайтесь их: они разгневаны.
– Зачем же вы-то служите им, гадам? – опять влез, не робея, Саша.
Анна на него прицыкнула тотчас. Стало тихо. Лишь слышно звенела, как пчела, Домна: «Зынь-зынь-зынь» на мужа Семена, на веснущатую дочку, Соню, на сына. А они ответно ворчали.
– Что?.. – не знал, что сказать Федор. – Что ты спросил?
Только в этот момент, открыв дверь, в землянку вошли ненатурально смеявшиеся девки с тремя говорливо-оживленными немецкими солдатами – из соседских. И женщины, насторожившись, инстинктивно заслоняли собой малых ребятишек.
– Вон кого веселье распирает, забавляет… Полюбуйтесь только!
Федор встал, пожелал быстро удачи, попрощался. Напевая себе под нос:
– Все отлично, старик. Все в порядке. Как делишки, старик? Все в порядке. Все в порядке, – он не глядя больше ни на кого, пригнувшийся, вышел вон, как тень.
Анне опять странным образом показалось, что она уже знала почему-то этого Федора, но не могла точно припомнить и признаться себе в этом, впрочем, как и он просто не счел по совести напомнить ей, признав-таки ее, о своем довоенном визите к ним, Кашиным, в Ромашино, по поводу брата. Так вышло.
– Мам, а верно, папка наш, – горячечно полушепотом затормошил сейчас же Антон, – повезло ему, не повезло – ни за что не стал бы прислуживать, как Федор этот? Ни за что! Он недаром, помним, уходил с такой присказкой: «Или грудь в крестах, или голова в кустах…»
– Ничего не знаю, деточки, не ведаю, – приглушенно срывалась Анна, немного расстроенная от того, что понадеялась узнать несколько больше, нежели узнала от повозочного: он казался ей не таким уж искушенным, бывало-тертым, просто его, как иных, всего-навсего повело куда-то не туда в поворотный момент истории, и поэтому он не мог послужить ей опорой в своих советах. – Закалился папка ваш, видно: с четырех лет он остался и рос без отца – с корявой, безжалостной мачехой, Степанидой; та взъелась на него из-за того, что он, якобы, мешал ей, ей, молодой, красивой, салочной, любившей поесть от живота.
– Кто ж не любит, мам, вкусно поесть?! – воскликнул Саша, засмеялся: – Ну, ты скажешь еще… Только б нам сейчас подали что-нибудь на стол… Не отказались бы…
Много уже было думано и переговорено про это самое, про всю жизнь минувшую. Взбудораженными днями и бессонными ночами думано, переговорено. Вследствие того, что Кашины, как и другие местные жители, фактически запертые запретами оккупантов, не работали и не учились, почти не вели в полном объеме домашнее хозяйство, ничего не приумножали (Зачем? На пользу врагу?) и даже не разгуливали нигде, – вследствие этого у них образовалась целая бездна свободного, незанятого ничем времени, которое и уходило на общение друг с другом наилучшим образом в этих критических условиях. Это делалось как-то само собой. И было как бы продолжением чтения интереснейших книг, которые здесь, в семье, почитались всеми без исключения, с так похожими героями, их думами и переживаниями. Вместе с тем, что дети взрослели, что в связи еще с участившимися летом налетами нашей авиации – приходилось почти еженощно бегать в укрытие и отсиживаться в нем, – повысился интерес к материнским рассказам о себе и отце; сидя в укрытии, они уже не дрожали в прежнем страхе и не молились в душе про себя за то, чтобы пронесло и не убило бомбой, как бывало то раньше, при немецких бомбежках, а даже веселились в захватывающей жути. И чаще безбоязненно выскакивали наружу и пробегались к дому, чтобы в открытую поглядеть на оглушающе зрелищный ночной фейерверк. Может, потому, что пообвыкли, как бывалые уже солдаты; а может потому, что налеты эти подымали во всех веру в скорейшее освобождение. Потому-то люди и воспряли, следовательно, духом, воскрешали в памяти былое – вольно или невольно. Тем более, что было как-то утомительно и несподручно сидеть молча ночами при свете плошки или в полной землистой темноте и ждать чего-то. И это придавало силы, держало, что говорится, на плаву.
XXIII
Привлеченные сюда немецкие солдаты-ухажеры, развлекались в невинной своей спутнице военной – молодости, в изумлении стали щелкать зажигалками и огоньками освещать столь диковинное скопище русских людей, самопроизвольно заселивших все отсеки прежней их конюшни. Глаза они даже протирали, словно бы впервые видя все такое фантастичное. Кто? Откуда? Как?! Каким же образом? Неужели это еще жил доподлинно – возник снова совсем рядом этаким живучим вот привидением, во плоти реальной – этот конченый народ, изничтожаемый вовсю немецкой, приспособленной для этого, махиной?! Да он – не бессмертный ли какой? Не с иммунитетом ли каким? Не заговоренный ли? Это-то явление, должно, было выше прямолинейно просвещенного разума немцев, насыщенного, точно губка влагой, эгоизмом самовозвышения над всеми. Они, толкаемые крайним любопытством, будто и хотели полностью, определенно удостовериться в правдоподобии того, что им привиделось; потому они светили огоньками прямо в пещерные, землистые, с чернотой у глаз, лики выселенцев, разговаривая возбужденней и уже не слушая девиц, которые, вроде б спохватившись в том, что оплошали, попытались их остановить. Но не тут-то было. Все уже взъерошились. И вот Галька-переводчица, с шутливостью, но нерасчетливо хлопнув по руке одного из солдат, зажигалку выбила. Погасла зажигалка. И куда-то залетела, как на грех, – найти ее сразу не смогли. Заварилась каша.