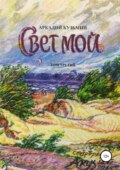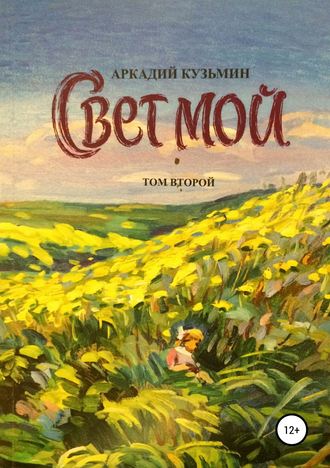
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 2
XXII
Но легко сказать: попроситься в воинскую часть. Перед матерью-то каково? Нелегко ему было решиться на все, сказать ей об этом; это он должен был сказать сам, больше никто за него.
Ох, как разрывалось сердце у него – от огорчительности, наносимой матери, – в тот день, когда он, наконец, больше не откладывая, так как военная эта часть готовилась вот-вот выехать из Ромашино, набрался духу и заговорил:
– Мам, ты знаешь, что… – заговорил он, струной весь натянутый, в присутствии и присевшей на табуретку, все понимающей тети Поли, в чьей уцелевшей, хоть и отчасти, избе Кашины пока обретались невольно: насколько усвоил себе, она, его неизменный друг и союзница, обязательно поддержит его в его предприятии и успокоит мать, найдет для нее убедительные доводы в пользу его решения: – Мам, отпусти меня…
– Куда тебя… отпустить? – сразу упал ее голос: она что-то такое почувствовала в том, как он сказал. – Куда, сынок?
– Далеко, мам. – Он обдумывал, как ему смягчить удар для нее.
– Сынок, ты уж точней скажи мне, матери, куда именно.
Антон с определенностью мотнул головой на запад:
– Ну, туда. С военными этими.
– Что, ты хочешь уехать от нас?! Насовсем?! Матушки!
– Да-да. Если только командир согласится – даст разрешение… Ему доложат обо мне…
– Они, что ж, зовут с собой?
– Кое-кто намекнул. Но я сам надоумился и захотел.
Мама, сидя, опустила голову. Руки на коленях сложены.
– Это что же: значит, опять на войну?
– На войну. – И Антон вздохнул, непоколебимый.
– Разве мало лиха мы хватили здесь? По-моему, с избытком…
– Я не ради приключений еду, мам.
– Ты ж совсем ведь маленький, сынок; хотя и диковинный ты какой-то, всегда знаешь, что и как нужно сделать, но тебе только что четырнадцать годков исполнилось… Маленький да слабенький сейчас – сможешь ли ты наравне с солдатами тащить лямку? Ой! Подумай хорошо…
Антон защищался с болью в груди:
– Известно: я работы не боюсь. Привыкну, подрасту. Ты за меня не бойся. Мне, наверное, так надо, мам. Все равно я там больше пользы принесу.
– Вон некоторые наши мужички – посмотри, и те укромно, тишком сидят себе подле баб. Желаний таких не выказывают.
– Ты сама ведь говорила нам тогда, когда мы бежали от немцев при выселении: что грех сидеть сложа руки и ждать того, что другие что-то сделают для себя, если и сам можешь еще сделать. Теперь там-то никого нету от нас. А ведь тоже надо. Кто же будет? Пусть буду я – хоть так…
И Анна Кашина заплакала от не закрываемой свежей раны.
– Что ж, они, военные, направляются на фронт? – спросила сквозь слезы.
– Говорят, что просто ближе к нему – часть прифронтовая вроде бы.
Надежда и любовь светили нам, нас поднимали, берегли.
– Это ему надо, – с убежденностью и горячностью вступилась тетя за Антона. – Пускай едет, Аннушка. В новый мир. Значит, ему сердце так велит. Против него не пойдешь. Пускай! Что он тут с нами, бабами! – И к нему обратилась: – У тебя, сын, талант; тебе нужно, край, увидеть свет, людей, жизнь. Езжай! И ни в чем не сомневайся. Жизнь, она одна. Что найдешь, то и обретешь. В этом – счастье.
– Я не знаю, как, – вроде б отходила Анна. – Ну, кружку, ложку я еще найду; а вот бельишка запасного никакого нету, не найти. Сшить не с чего.
– Да мне и не нужно его, мам. – А Антон, благодарно встав, поцеловал ее в порыве, хотя это у них в семье и не было принято. Как же не возрадоваться ему: он еще когда мечтал увидеть даль и дальний свет!
– Как не нужно?
– Думаю: потом дадут что-нибудь, если возьмут.
– Конечно, – говорила тетя Поля убежденно. – Оно, как говорится, при солнышке – тепло, при матери – добро. Но не век же ему за материнину юбку держаться.
И Антон был очень благодарен ей за поддержку эту, вселявшую и в него уверенность, как и за то, что она поняла его тихие восторги перед природой еще раньше, гораздо раньше, когда он был еще шкет – не смеялась над ним, уважала его чувства.
XXIII
Итак, позади первые волнения. Судьба смилостивилась над Антоном: уже передали ему, что с ним хочет побеседовать сам командир, и он пошел к нему.
В синей сатиновой рубашке и сереньких брючках, сшитых матерью из куска подпалаточника, брошенного оккупантами (накрывали им в мороз лошадей), Антон переминался с ноги на ногу на приеме у властно-энергичного подполковника Ратницкого; он же, толстый, но подвижный и басистый, сидя за столом в переду деревенской избы, внушительно-строго выспрашивал у него:
– Ну, герой, захотел служить? И просишься к нам?
Антон, к сожалению, выглядел совсем не по-геройски, испытывал необъяснимую неловкость; при обращении с людьми он не умел ни постоять, как следует за себя, ни внушить им уважения к себе. Боялся он того, что командир не поверит ему, и клялся с отчаяньем:
– Да, очень!.. Я хочу… – его голос обрывался.
– Ты сам, Антон, надумал?
– Сам.
– А как же твоя мать? – Он будто потеплел.
И Антон старался поспокойней объяснить ему, что с мамой останется старшая сестра восемнадцати лет и еще другие две меньшие сестры и брат.
– Но она-то согласна? Ты говорил об этом с ней? – Он был опять непреклонен и строг, но внимателен, слушал доверчиво.
– Согласна. И она сказала мне: «Смотри сам, ты не маленький», – отвечал Антон смущенный, наконец догадавшись, что в то время, как отвечая на вопросы, он теребил подол рубашки, присутствовавший здесь же – стоявший юркий старший лейтенант Конов, одессит, испуганно делал знаки ему, веля опустить руки «по швам». Он было и опустил их поспешно, но опять затеребил в волнении рубашку. – Так что и она не против.
– Ведь мы возле фронта можем быть. Такая у нас служба. И всякое может быть, дело серьезное.
– Известно. Я хочу служить. Не побоюсь…
– Наши люди Сталинград прошли.
– Здесь тоже несладко было, товарищ подполковник.
Однако он велел срочно прислать мать.
Когда – в обеденный час – Антон вернулся с приема в избу тети, несколько пар вопрошающих глаз уставились на него.
– Тебя, мам, требует командир; ты сходи к нему сейчас, – хмуро, напряженно сказал Антон ей. – Только не тушуйся зря. Скажи, как есть.
– Ой, не знаю, сыночек, как получится. Не ведаю. – Она зарумянилась даже. Вздохнула тихо-покорно, смиряясь со своею материнской долей.
И прямая, в блеклом платочке, в давнемодном сарафане и в парусиновых полуботинках, пошла к подполковнику. Делать нечего, коли согласилась с лихой затеей Антона; согласившись на его уход из дома, она надеялась на то, что при лучшем питании в военной части он поправит свое здоровье, испорченное голоданием. Но после этого она засокрушалась, упрекая себя в душе, что отпускает сына вроде б с легкостью.
Так что когда подполковник Ратницкий прямо спросил у нее, отпускает ли она Антона, – она бесхитростно сказала лишь:
– Что ж, раз сын хочет так. Я не перечу ему. Не становлюсь поперек.
И он тогда попросил ее подумать не опрометчиво до вечера. Ведь эта часть прифронтовая. Она сильней заколебалась.
А вечером, раздумавшись, лишь виновато справилась:
– Но ты сам, сынок, Антон, не станешь потом раскаиваться и ругать меня за то, что вроде б с легким сердцем отдала тебя? Я пойду опять к командиру твоему. Что ж сказать ему?
Как ни жаль ему было ее и как ни понятны были ее сомнения и душевная борьба, он заявил уверенно:
– А! пустое дело передумывать то, что навсегда надумано, – не сомневался он нисколько в том, что поступал правильно и что раскаиваться не приходится, а приходится прощаться. – Скажи твердо: согласна – и все тут. Не пропаду я, мам. Не в глухом лесу. Кругом люди. Ну, пожалуйста!
На следующий день схмурилось. Мать вынесла Антону в черном картонном чемоданчике полотенце, носки, кружку с ложкой, и он, приняв это от нее, замялся от того, что не знал, поцеловать ли ее на прощанье при всех. Несмело поцеловал. Робко поднял глаза на тех, от кого теперь зависела его судьба.
Несмело он полез на самый верх кузова нагруженной штабными и прочими вещами военной полуторки, куда его подсадили военные, подобно тому, как впервые его подсаживал на лошадиный круп отец.
И полуторка тотчас, хлябая колесами по июньской сырости и свежести, качаясь, поплыла и понесла его в неведомое – над колышущимися полями ржи, росшей из того зерна, что в апреле принес и он, Антон, и на тех полях, которые вскапывал и он вместе с Сашей и тетей Дуней. Еще не летела нежным облаком пыльца над ржаными полями – они только еще располыхивались сообща. А вдали, уменьшаясь, провожая его взглядом и опустив книзу тяжелые руки, беспомощно стояла его мать. И такой – опустившей книзу тяжелые руки – она останется в его щемящей памяти.
И оттого какие-то непривычные для нее слова, идущие изнутри, складывались у него как молитвой:
– Поклонюсь тебе, мама, за твою печаль; поклонюсь вам, поля, за ваше утешение; поклонюсь тебе, Ржев, за твои страдания, перенесенные с тобою вместе… До свидания, родина!
Странно: он сидел наверху, а молитва говорила о том, что он поклонится. Он сидел будто занемевший, а молитва вместе с тем была. Кто-то за него ее говорил так складно. Помогал ему. С самого начала предстоящего.
Многое хотела Анна ему сказать на прощанье, но так и не успела поговорить, как и с Наташей до этого; ничем особенным она его не напутствовала. Да и для него напутствия не нужно было: он был уверен в том, что то, что делает он, делает правильно.
Ему слышалась откуда-то Наташина любимая песня:
Мой костер в тумане светит,
Искры гаснут на лету.
Ночью нас никто не встретит,
Мы простимся на мосту.
Вспомнил он, как однажды они, школьники, рисовали город во время экскурсии и как его листок, подхваченный над Волгой, на крутом берегу порывистым октябрьским ветром, закружился над ней и улетел, падая в бездонную, казалось, глубину. Потом и во сне Антон не раз замедленно падал, как листок, в точно такие же безбрежные глубины с такой же или большей высоты. А теперь он ехал – несся навстречу чему-то новому, важному. И это его очень волновало.
Была еще только самая середина вздыбленной войны.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
I
«Ну, позволь! Спешишь, еще спешишь вприпрыжку… – Вниз с полынного откоса – по ступенькам кованым ржавый звук зудит вдогонку; галька-россыпь под ступней скользит, хрустит; терпко пахнет паром подсоленным, едом, тленом микроорганизмов донных. И под солнцем море, серебрясь и словно забавляясь, разливает и плескает зелень вот у самых ног твоих, величавое в своем просторе, спорящим с воображением твоим, с былью времени. Только неотвязно мысль парит: – Постижима ль нами суть того, что мы избираем-выбираем? Все пыхтим и повторяемся, и стадно топчемся, и ротозеем?.. Сколько чести!»
Так импульсивно размышлял, не смиряясь, тридцатилетний Ефим Иливицкий с самим собой на ходу; неизменной воркотней, как лекарством горьким, он утишал в себе подступивший зуд творческой неудовлетворенности. А конкретно: ничтожностью сделанного им. Вопреки желанию, потуг. Зато ныне он, как отпускник, и прилетел сюда, в Крым, с ясной художнической решимостью – проявить наконец себя; он рассчитывал и отдохнуть – поплавать и позагорать, а также и вволю порисовать живую-то натуру – отдыхающих на пляже – в вольных позах и движениях. Отличная-таки возможность попрактиковаться вновь. Для того, чтобы успешней проиллюстрировать сборник современной прозы – только что полученный им издательский заказ. Надлежало уже осенью сдать издателям дюжину готовых полосных черно-белых (тоновых или штриховых) рисунков. Что прекрасно давало осмысленность творчеству, стремлению и такую уверенность в том, что оно-то было и есть совсем-совсем не зря. И, значит, все его извечные поиски… в сомнениях…
Должно быть, блаженны те художники, которые не самоедствуют, не ищут утешений никаких. Счастливчики!
Но одержимость сеет семена.
Кому-то и на пользу несомненную.
Возможно, одержимый Ефим рисовал походя, как удавалось, в русле классического рисунка, того незаменимо-реалистичного, каким блестяще владели все прежние виртуозы-рисовальщики, которые столь узнаваемо-живо изображали персон на планшетах и в росписях древних, дошедших до нас. Разве можно эту чудо-классику перефорсить чем-то случайно придуманным на авось? рассчитанным на заумь? Какой-то авангардистской нашлепкой – этим (видимым всем) символом разрушения наследства и понятия самого рисунка-фундамента, без чего и немыслимо что-либо строить? Тщетна суета? Не стоит беспокоиться? Однако беда происходит от бездны таких ловкачей-лжехудожников, лезущих вперед напролом, – которые не научились, не могут и ни за что не хотят ремесленничать (в поте трудовом) в приемлимых канонах. А потому Ефим и холодно взирал на их дочиста омертвленные поделки. И стыдился себя.
Благом же было то, что книга-спасительница еще держала марку и позволяла еще графически содержательно украшать себя…
Ефим Иливицкий и Антон Кашин по-дружески уговорились вдвоем провести свои отпуска в Крыму. Но Антон не смог. А Ефим приехал в уютный черноморский поселок, где имелись все подходящие условия для спокойного отдыха.
На полупустом пляже он воткнул свой желтый зонт и, сидя под ним и держа перед собой планшет с бумагой, делал карандашные наброски. Близ него шумно обосновалась компания: розовотелый и льняноволосый великан, Константин, с пятилетней дочерью Надей и девочкой-подростком Верой, дочерью их хозяев. Девочки непрерывно щебетали.
И вот вдруг Ефим уловил за рисованием установившуюся вблизи непривычную, пугающую тишину: девичьих голосов и возни не слышалось! Да девочек тоже не было на месте! Константин же, распластавшись на резиновом матраце, раскинув руки, подремывал. Ефим увидал улизнувших девчушек уже в море, отдалявшихся от берега на надувном матраце; он, не теряя секунд, вскочил, кинулся к дремавшему молодцу, затолкал его:
– Эй, москвич! Чего ж ты не следишь за дочкой?! Дети уплывают… Бежим! Быстрей!
II
Костя, атлет с мощным торсом и с загребущими руками, выказал себя отменнейшим пловцом – запросто бурунил телом колыхавшуюся водную поверхность. Так что Ефим, поспевая за ним рядом (и не только поэтому), работавший во всю мочь тоже своими конечностями (что пропеллерами) в упругой воде, лишь на полгребка отстал от него, как они подплыли с двух сторон к неосмотрительным беглянкам. Запыхавшиеся, дрожавшие при передышке, но довольные собой.
– Ну-ну, девочки, – приговаривал Ефим, приклацывая зубами, – поспокойней держитесь, не суетитесь и не дергайтесь. Вода и так нас держит. Поворачиваем и плывем так же к берегу. Плавней.
Верховодила этим опрометчивым заплывом, безусловно, старшая – двенадцатилетняя хозяйская дочь Вера, норовистая командирша в доме и на улице. Однако и она, видно было, очень сдрейфила, устав плыть, толкать матрац и не зная, как развернуть движение его с уцепившейся намертво на нем побледневшей Надей, и чувствуя себя виноватой, вследствие чего теперь нужно cтало прежде всего успокоить их. Уберечь их психику.
Только что они доплыли к пляжу, все успокоилось, уладилось.
– У меня сердце в голове стучит, – выдохнула Надя с серьезностью.
Ефим взялся зарисовывать по-быстрому силуэты и позы отдыхающих граждан (лежащих и даже стоячих экзотично – с поднятыми и вывернутыми к солнцу руками); а Надя, еще подрагивая под накинутым на тельце полотенцем, сидела рядышком, согреваясь, и наблюдая за этим занятием; но он опять недовольничал, потому что после всего его рука еще дрожала: он чувствовал это по тому как фальшивил карандаш – не вырисовывалась в иных местах нужным образом линия. Фигуры людей были на самом деле полновесней, «фигурней», что ли.
– Дядя Ефим, а зачем ты рисуешь? – был ее вопрос.
– Я рисую для книжки.
– А книжка хорошая?
– Почти сказка.
– А про что, скажи? – не унималась Надя.
– Про всякие приключения.
– И про козочек беленьких?
– Как есть. Про все.
– Я хочу почитать… – вязала она слова по детскому обыкновению.
– А я люблю полежать, когда можно и греет, – натурально признался Костя, возлежа около на злополучном надувном матраце, с которого свисали его большие пятки. – Когда лежбище – люкс, тела не впритык тасуются; ходишь – и не спотыкаешься о них. И море – считай, заповедное, чистейшее, не видно кораблей. – Он сюда приехал, чтобы поваляться, сил набраться; был у него сезон тяжелый: на пределе нарыбачился он везде, так как жинка была в декрете, а после родов не работает. Она осталась дома с малышом, а его, рабочего, и дочку погнала на отдых. – Уж очень она решительная у нас. Наказывала получше за ней приглядывать, – добавил он. – Да не получается вот у меня…
– И какой же ты, Костя, рыболовлей занимаешься, если говоришь, что так тяжело? – Спросил Ефим, удивленный.
– Рыбалкой мы и я называем то, что я добываю сеткой мотыль – личинок, скажем, комариных – вылавливаю этот корм для Московского зоопарка в первую очередь. Для кормления рыбок аквариумных. Поставляю означенную порцию мотыля. Потому и колесю и шастаю по всем водоемам и речкам в поисках такой добычи. Нарождающейся вне сезонья. Где, когда она есть? Ищи-свищи. А заявку выполни, будь добр. В объеме, предусмотренном планом.
– Что ж, интересная работа. На природе по крайней мере. На воздухе.
– Зашибись сколько интересна! Знаешь глубину и ширину всех речных протоков Подмосковья, их плодоность комариную…
– Слушай, Константин, – предложил Ефим, – ты бы присел сюда, под тент, – местечко есть; на солнцепеке у тебя, вижу, уже плечи и спина докрасна поджарились. Давай, иди!
– Ой, шкура моя – фантастика: она краснеть краснеет, но не загорает, – сказал Костя, только присел на матраце.
– Как так? Неужели?
– Наутро, увидишь, тело у меня опять станет бледно-розовым. Я еще пацаном такое обнаружил – как в пионерских лагерях бывал запевалой; потом проверился, как подопытный кролик, и на Каспии, где служил в пехоте и лопал виноград. Ну, фатаморгана. Слыхал? Там ребята дали мне такую кличку.
– Чудно!
– Пойми, Фима, я не жалуюсь ни на что; когда есть возможность заработать деньги – почему же не воспользоваться этим честно? Когда есть немалые материальные траты, а частная братва – аквариумщики и рыболовы (их – пруд пруди) просят корм, и шустрит торговля рыночная. Хотя и берут порой мотыль по-стаканчику. В развес. А нам нужно оплатить кооперативную квартиру, питание, то, се, потому как целая семья у нас – четверо. Да хочу и машину купить, без нее – труба, не выедешь на большак подобру-поздорову; на трехколесном мотоцикле, каким владею, не разгонишься: он уже не выручалка для меня. Утиль!
– Верю, верю, Константин: ежели настроишься и поработаешь, – все осуществится. У кого какой запрос. И какой хребет и стать. – Ефим пытался говорить понятнее.
– А почему ты все телеса рисуешь?
– Книжные иллюстрации. Вот изготовлю какое-то число их, и, как и ты, получу за них деньгу на прожитье, на бумагу, кисти, если примут их для печати, примут на художественном совете.
–Что, и могут забраковать еще?
– И не раз. И то заказами не балуют нас, графиков, которые помоложе иных корифеев, те, которые в большой силе, образуют негласный клан устойчивых заказодателей, старых сговорщиков. Только-только мы вживаемся и пробуем себя профессионально – протиснуться и состояться.
– Послушай, так не проще ли тебе придти к нам, вкалывать не зазря и не быть никому обязанным? Выходит, мне полегче даже будет, если сравнивать… Я не ожидал… И зачем такое-то мучение?
– Мечта, Константин! Мечта всей жизни!
– Слышь, приезжай к нам, в Москву, на следующее лето, серьезно говорю тебе. – Костя со всеми был сходчив, общительный, хозяйственный. Он ни перед кем не унижался.– Уже квартиру трехкомнатную получим – пятый этаж возводят… Покажу тебе наш зоопарк. Ребята там работают хорошие. Кстати и зверей, каких хочешь и сколько хочешь зарисуешь – все поинтереснее, думаю, двуногих зверушек… А отчего бы тебе картины не писать? С оленями… Были бы нарасхват… Москва – дока по этой части. Все вывезет.
– Не годится для меня: я не живописец, цветность слабо различаю.
– Не пасуй. Можно ведь и без цвета яркого работать – под малахит. Как в фотографии. Или в кино.
– У каждого – своя стезя. И никто не займет чужую.
– Но сужаться нам – от сих до сих – нельзя. Смерть! В детстве мне нравилось петь. Так и сейчас поем вместе с жинкой и ее сестричками. И нам тепло. Люкс! Только моя тетка, зараза непоющая, попиливает жинку, и укорачивать ее приходится мне. А ты еще, скажи, не обзавелся своей кралей, что один здесь?..
– Нет, не сподобился пока. Но должна одна сюда на днях приехать…
– А набрасываешь ты лишь фигурки человечьи? По боку – животных?
– Нет, если представляет интерес… для дела…
– Когда-нибудь потом все пригодится. Знаешь, сначала я, бывши помоложе, невостребованный рыбак, ловил циклопов для рыбхоза, разводившего рыб на продажу. Циклопы – та же живность речная, озерная, мелкая; ими директриса рыбхоза снабжала и милицию – рыболовов и аквариумщиков. Пока рыбхоз не прикрыли. Прошел спрос на то и на рынке. На эти циклопы. Тогда устроился я в зоопарк, стал поставлять сюда мотыль. Спецкостюмов не было, сами мы, кто как мог, клеили-приклеивали к сапогам резиновым верх, чтоб вода по грудь не проникала. Зимой же добываем мотыль с плота. Половив, на ночь плот заякорим и пускаем на середину реки. А утром приходим и на длинную веревку (метров больше тридцати) привязываем зубило и закидываем на плот, чтобы подтянуть его к себе и забраться на него с орудиями лова. Как-то я, силач все-таки, бросал зубило раз тридцать – не добросил. Мой напарник, Стогов Мишка, и говорит: «Дайте, кину я: может, у меня получится; вон гранату на службе так ловко швырял – ого!» Взял он в руки зубило, размахнулся им – и тут конец веревки потащил его за собой. Он и поплыл за ней. И выкупался. Просил виновато у Жорки, владельца легковушки: «Пусти, пожалуйста, погреться»… То-то смеху было.
– Представляю. Вижу, Константин, что моя профессия мне по плечу. Ты не зазывай меня на испытательство водой.
– Было и такое раз, что незаметно лед подтаял под рыбачившим Жоркой посреди реки; Жорка как сидел на ящике своем, так и опустился целиком на самое дно и там-то уже, сидя, подумал: «Жаль! Придется, видать, мне снять сапоги, чтобы всплыть, а то ведь не смогу»…
– Какая же была глубина реки?
– Метров восемь, пожалуй. Ну, он смог выплыть. А сапоги там, на дне, конечно, оставил. И ящик рыбацкий. Бессменный. Признаюсь, в купель-то я и сам однажды угодил. По недоумству. Работал я (в шубе, сапогах) с такой машинкой, что подрезала кругом тонкий ледок. В ней килограммов тридцать будет. Да и во мне – сто…
– Не хило – в натуре…
– На том и попался. Ледок возьми и проломись. Пошел я мешком ко дну, и машинка тянула меня туда своим весом; а жидкий ледок крошился, обламывался подо мной – уцепиться не за что… Набарахтался я отчаянно – и еле-еле выполз… Вместе с машинкой той – не бросил…
– Ужас что! – И попутно же Ефим решил в уме: «Самобытный и ухватистый, и безвредный зверь. Зарисуем всяк».
– Я еще про сапоги что скажу… – добавил как повеселевший Костя, только, сломав на этом фразу, заговорил благожелательно с подошедшей жеманной молодой знакомой особой в малиновом купальнике: – И что, Зоя, куплены билеты? А когда отчалите? Через день? И опять зову: приезжай в Москву следующим летом – покажу ее. Покатаю с ветерком на «Явочке» своей…
– Ой, не надо! Мне еще не надоело жить, – смеясь и присаживаясь рядом, бойко отвечала блондинка. – А здесь, вижу, маринисты на этюдах. Здравствуйте!
– Дядя Фима ведь художник настоящий, – сказала Надя. – И я тоже рисую. Кипариса…
– А Вы, Ефим, портреты поясные… можете?..
– Да, но не здесь, не нынче… И ни для кого, – сказал Ефим. Как отрезал. Самому-то стало неудобно. За так спонтанно высказанную безоговорочность своего решения.
– Не беда, красавица – и так нафотографировалась; какую-нибудь новую забавушку найдешь, не горюй, – точно успокаивающе рассудительно стал убеждать ее Костя, но и не забывая при сем о неотразимости своего предложения ей покататься. – Что я расскажу… Одним летним утречком, раненько, ехал я с дачи дружка, и одна бабуся тощая семидесяти с чем-то лет, проголосовала – попросила меня подвезти ее на базар. С двумя корзинами ягод – клубникой и вишней. Мне по пути, да и всегда я выручаю людей в таких случаях: взял я эту пассажирку; в коляску мотоцикла она впихнула одну корзину и села туда сама, а другую на коляску – прямо перед собой – поставила. Лечу с бабкой по шоссе к Москве. Скорость немалая – восемьдесят километров. А бабуся просит: нельзя ли побыстрей, сыночек милый? Ей, видите ли, нужно успеть, чтобы занять рыночное место. Говорю ей: нельзя, бабуся. Ягодки рассыплю. Тогда и говорит она – башковитая (бабки из народа все такие): давай сыночек, я сзади тебя сяду, а вторую корзину в коляску опустим. Ну, две минуты ровно потерял я на эту пересадку. Намертво уцепилась она за меня костлявыми руками, словно клещами железными, – у меня на животе аж синяки остались… Давай, сыночек, газуй! И девяносто километров – мало для нее. Пустяк! Скорость еще прибавь! За считанные минуты я доставил ее до рынка. Насыпала она мне в кепку вишни. Спасибо, бабуся, говорю. Крепко ты за меня держалась. А то как же, если нужно, говорит. Услужил. Своей-то колясочки такой, жалко, нет. А то могла бы и сама водить – научилась бы. Было бы суразней, сподручней.
И Костя заключил:
– А ты, Зоя, говоришь, что жить тебе еще не надоело.
– Константин, Вы умиляете меня! Пойду-ка… искупаюсь лучше. – Встала та и пошла к воде.
И Костя уж совершенно забыл, о чем хотел еще прежде рассказать Ефиму, – о занятном, может быть, случае из жизни, связанным с тем злоключением, что с детства на нем горела всякая обувь. При ходьбе он странно ставил ступню, и оттого обычно все ботинки, тапки, сапоги моментально изгибались дугой, отчего и было последствие уже спустя неделю как он начал служить на действительной (сначала в Казахстане, потом по эту сторону Каспия – в Дербенте, в Махачкале). Старшина роты объявил ему, что отстраняет его от шагистики, потому что он портит сапоги, и ставит его часовым. Однако в карауле все равно приходилось ходить туда-сюда сотни метров – и стаптывать, изнашивать обувку.
И тогда его, успешного, солдата верного и бесконфликтного, запевалу ротного, заняли дневальством – допускали здесь меньшее хождение. Да впустую, насмех все: на нем-то, и дневалившим, даже сапоги резиновые скоро попросту плющились… гармошкой… Ох, докучлива напасть!
III
Соответствуй своему предназначению. Должное и сбудется. Должно!
Наивно думавший так Иливицкий вовсе не сторонился людского общения. Ни с кем. Но резонный страж-голос внутренний нашептывал ему: «Оставь что-то несущественное, кроме рисовательных упражнений…» А легко ли, кувыркаясь сам по себе, преуспеть-таки в книжной графике – в той сфере книгоиздания, где можно было бы иметь заработок, чтобы нормально жить? Легко ли – потерявши лучшие годы молодые, отдав гражданский долг мужской пятилетним служением на флоте? И, что чудно, он-то Ефим, еще карабкался по круче крутой – наперекор всему; и еще в натурный класс похаживал – высевал карандашные наброски; и теперь же здравый практицизм диктовал ему: делай нужное и не траться на незначимые частности. Хотя он, лев, в душе не прочь был бы и принять некие ублажительные послабления или преподношения чьи-нибудь (просто ни за что) – он не отказался бы от того, как не отказывался в гостях от вкусного обеда.
Уж бывало, что на взгляд казалось ему: он с легкостью может проиллюстрировать любой сюжет – не хуже именитых мастеров; однако он бесплодно утопал, когда пытался мастерски прорисовать что-либо подобное без подражания – по-своему. Тут он точно в бездонную прорубь погружался весь с головой и тем отчетливей видел, чувствовал, что у него не получалось все так идеально, как хотелось бы. Мысль его блуждала в поисках выхода. И нередко образовывался какой-то преградительный затор, вызывавший у него душевное затмение, вплоть до остервенения. До проклятий столь погубительной неволюшке. Неотвязно…
Но Ефим, заряженный тщеславным стремлением, добивался в конце-концов своей цели – доводил сюжетные рисунки до ожидаемого им самим завершения. Вполне логически убедительного для него. Оттого и дрожал в его глазах лихорадочный блеск, и толпились в голове влекущие мелодии; он бывал рассеянным, говорил громко и невпопад и краснел при этом виновато. По-мальчишески.
Долгая флотская служба приучила его к бережению времени. Отсюда он унаследовал самовнушенное опасение быть обязанным в чем-то женщине – будущей жене и так отчасти лишиться необходимой творческой свободы. Когда абсолютно ясно: что-либо одно должно главенствовать в жизни, чтобы успешней священнодействовать в своем ремесле; второстепенная роль в доме не каждой претендентке подходит – но спасительна для любви. А соблазн отступиться велик: скольких умов пугала кабала чего-то избранного…
С давней знакомой-театралкой Милой Ефим расстался без сожаления и ее обид: у них обоих не было нужды сохранять дальше их вяло текущие отношения. Она-то нашла уважительной причиной их проявившееся разномыслие. Хотя, по правде, ее пока грело теплое родительское гнездышко, и она никуда не рвалась. Ведь ее за домоседство подружка Оля не зря обзывала в шутку маленькой носорочихой. Вскоре Ефиму уклончиво отказала от своего общества уже устремленная Алла, библиограф, которую он привечал по-серьезному. Когда же он заухаживал за Настей, ее негласной конкуренткой, – Алла вдруг, будто опомнившись, предложила ему поехать вместе предстоящим летом на юг, чем такой определенностью – его смутила. Он бы согласился – пошел на это, но чувство мужской порядочности – перед Настей – перевесило; он не мог стать шалопаем, флюгером. В замешательстве он, немало подумав о предложенном девичьем варианте, даже не ответил сразу; ему не хватило духу прямо отказать – на него словно столбняк нашел. И он поругивал потом себя уж за эту несвойственную ему непорядочность, трусость.
Что не усложняло, Настя, узнав о скорой поездке Ефима под Севастополь, обещала подъехать на две недельки из Ялты; такое ее решение вполне соответствовало его творческим планам, не вредило им. Главное, Настя не ставила никаких условий в их взаимоотношениях; более того, отнекивалась от всякой дружбы, проявлений симпатий, амуров не заводила; просто хотела быть на первых порах вроде напарницы, не возлюбленной, не ущемленной в чем-либо, чтоб опрометчиво не затеряться среди стойбища троглодитов, говорила она. И добавила доверчиво, с лукавинкой:
– Ты будешь, Ефим, моим подстраховщиком. Хорошо?
Сейчас, вспомнив о том, он слышно вздохнул от неизвестности, хотя и предугадывал всякое стихийное развитие. Во всем.
IV
Была прелестная картинка.
Козленочек белый, с черной звездочкой на лбу, острые рожки, был на привязи; грациозно поднимаясь на своих задних ножках, он ставил передние на ствол и позволял детям играть с собой, если те подходили к нему; кто из них, умиляясь, совал ему в рот кусочек булки или зеленый листок, а кто гладил его ласково. И мама козленка – коза белая, небодачая (их неспроста и привязывали здесь, на зеленом пустыре, на пути идущих туда-сюда – в магазин, на рынок, на пляж или на базу отдыха – приезжих) также тянулась привычно к детским угощениям.