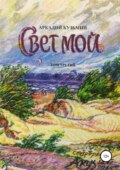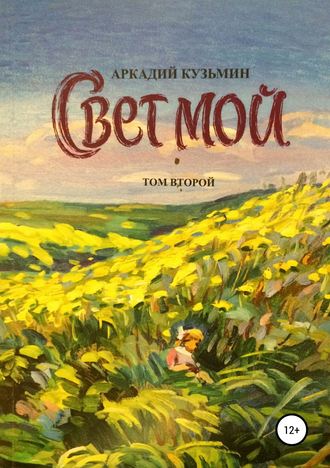
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 2
– Ну, не говори. Как же жить тогда придется?
– Проживем. Главное теперь – вернуться. Что ты, мамушка!..
Несколько горстей ржи смололи на мукомолке – кругляке – для ржаного супа.
Темнело. Расплывались и терялись за избой звонкие мартовские блики, тени. А здесь, подле затопленной большой удобной печки, с пооббитыми, точно искусанными кем-то боками, с неразбитым еще подом, Анна даже отошла душой, взбодрилась, точно подкрепленная так наилучшим – нравственным – лекарством. Она сноровисто делала дела. И головокружение у ней само собой утихло. Даже будто ей уже подумалось под веселое трещание дров в огне: «Ну и хорошо, родная, дети мои, и ты снова с ними вместе, ладитесь; потому твоя изболевшая душа становится на месте, болит меньше, – тебе легче, легче, что и говорить…» На какое-то мгновение ей показалось впрямь, что это был ее дом родной. Точно так же, как еще казалось ей по временам, что все это происходит никак не с ней, потому что на такое у ней просто не хватило б сил и мужества. Но только это показалось на мгновение. Для того, чтобы проверить, что она ничуть не ошибается, она машинально, не отходя от печки, вскинула глаза на матицу, что над нею проходила, – и не увидала там привычные по дому цифры «1964», вырезанные Василием перед уходом на фронт. Цифры эти обозначали предполагаемый год смерти Василия. Так еще во время гражданской войны предсказал ему один гадатель. В окопах на Украине. Василий вырезал их с полным убеждением, что, значит, он придет с войны живым, но больше для того, чтобы в дни сомнений Анна, все домашние получше помнили об этом, непременно-непременно его ждали.
Танюшка подъюлила к ней и, смеясь, сказала:
– Мамочка, а Славик опять сплашивает у тети Дуни: наш это дом или не наш?
Она взглянула в полутьме на густо затененные и будто подкрашенные грустные Дуняшины глаза и сказала:
– Некогда мне, доченька. Потом, потом. Иди. – Воображение уже рисовало ей самыми невообразимыми оставшиеся километры пути до дома. Это надо было завтра сделать. Может, наконец-то с Полюшкой увидятся; ей-то проще было добираться – не обсажена детьми. Да и вырвалась когда… Словно целый год прошел. Такое ощущение.
Орудуя длинной, обтершейся до лоска, кочергой, Анна выставляла из печки чугун с картошкой, вкусно и здорово пахшей – такого вкусного запаха все они давненько уже не слышали; чугунок, скользя по давнишней скопившейся золе, противно скрипел по поду. Схватив затем с пристенной скамьи (тоже как у ней в кухне было) тряпку, она вытащила эту нечищеную картошку. На подспорье к супу.
Сели за суп и картошку с капустой великая армия – только подавай. Смолотили все. Без хлеба. С хлебом было б, конечно, сытнее.
– А какая это наеда, если разобраться? Трава. Силос.
– Ну, что ни что, а полчто будет, как говорят.
– Сразу стало жарко, – сказала Дуня. – Одну кофтюльку надо снять.
И Анна улыбнулась, довольная:
– Ну, оттрудились на животном фронте, дышать можно, стало быть. Теперь клонит в сон. – И вдруг подскочила: – Вы что там жуете? Что?
– Мам, они грызут кирпичи, – сказала испуганно Вера. – Таня и Славик.
– Пускай погрызут. Чего-то не хватает в организме. Разве будет тут хватать? Дети, спать! Довольно колобродить! Ну! Так дремота пристает.
– Мамуля, а ты сколько точно классов кончила? – спросила у нее Наташа, когда они все уже улеглись на соломе, настеленной на полу, и укрылись тряпьем.
– Ангел, у нас было три класса и четвертый – коридор. Третий класс – самое высшее образование. Преподаватель – она – была царь. И бог – инспектор. Приезжал раз в год. Церковь у нас при школе была. Вот как пост Великий начнется, построят нас, школьниц, в ряды и – в церковь. Позади учительница стоит. Молитвы читает. Ну, спи!
III
Ночью тишина неожиданно сломалась. Хаотично стало погромыхивать везде, и стрельба сильнее (ближе) доносились с северо-востока, а слабее (дальше) – с севера, куда беглецы держали путь. Анна этой ночью, просыпаясь часто и тревожась, еще слышала сквозь густой плывучий (словно плыла она в волнах – и болели ноги, руки и ломило тело) сон, как скрипели, громыхали и галдели в спешке, уходя и проезжая по деревне, немцы. И не было видно им конца – их такую силушку сюда нагнали; дорог им не хватает для того, чтобы сразу отступить. Что как теперь из-за них застопорится дело с выездом отсюда?
Безусловно, в обесхозяенной этой избе можно было бы пожить несколько деньков. Тем не менее Анна не могла себе этого позволить, чтобы не растравливаться больше из-за этого; она боялась и того, что здесь пронзительней и явственней ей будут досаждать памятливые случаи, связанные с прожитым в бывшем собственном доме, который не могла она никак забыть. Это была вся ее жизнь. Со всеми ее радостями и печалями.
И сегодня, с привычностью глотая печной дым, она вспоминала, как извечно изо дня в день глотала его перед гудевшей спозаранку печкой, которую она, стоя в наклонку, топила в своем доме; вспоминала, как дрова сырые не горели, как тесто не поднялось, а молоко сбежало и чугунок опрокинулся с едой, зацепив донышком за неровный под – не шутка наготовить всего на восемь ртов; вспоминала, как мыла и скоблила голиком полы, как вносила домой хрустевшее, стоявшее колом, вымороженное белье, пропитанное неуловимым зимним ароматом, и многое еще, что шло ей на ум теперь, – все то, что так или иначе вспоминалось (по какой-нибудь ассоциации) из-за прежнего, вдруг возникавшего, приподнято-праздничного чувства от непередаваемо полного семейного уюта, лада, несмотря на беспредельную возню и досадно постоянную неуправку со всеми домашними делами. Всякая хозяйка это знает. До чего ж приятно было то, что в избе большие комнаты были – в них не стукались боками. Даже в оккупацию семья жила заведенным поддержанием порядка в доме, что необходимо было для себя же…
«Мчим домой, как оглашенные, а в сущности-то дома нет у нас, – мучилась она вместе с тем. – Одни бревнышки от него гниют-догнивают под землей, немецкие окопы подпирают. Не нам служат, стало быть. Не нам. Ох-хо-хо!» И, ворочаясь с боку на бок на жестком расскрипевшемся полу (от выстылости в избе), слышала там-сям всплески бабьих и ребячьих стонов во сне и заговариваний. Да когда ж, когда ж все это кончится, пройдет? Стонаньем да горючими слезами горю не поможешь. Истинное дело. Вот она тогда, как рушили солдаты ее дом, поахала и повздыхала по нему, но делать нечего – пришлось тотчас рыть себе землянку, чтобы дальше жить, существовать – живо ей представилось опять, как для того, чтобы настлать сверху на землянку бревна, ночью уворовывали их – бревна ж от своей избы – у солдат немецких. Часовые чуть тогда не застрелили Дуню и Наташу.
Обстановка учила их сметливости и премудрой стойкости во всем. Нужно было как-то выжить, не сломиться.
Тогда Антон ловко, как умеют дети, извернулся.
– Да пошел ты, гад!… – И еще проволок дверь метра два, пока приставший не вцепился в нее, не завопил, гневаясь всерьез:
– Joddam! Nimmst das gar kein Ende? – Проклятие! Будет ли этому когда-нибудь конец?
И Антон весело, язвительно ответил недругу:
– Sagte bitte! Du kennst ihn noch nicht. – Скажи, пожалуйста! Ты его еще не знаешь.
– Nicht doch!.. (Да нет же!..) – рявкнула фигура, и топор, сверкнув под солнцем, завис над светлой головой Антона.
Анна вскрикнула, не выдержав по-матерински, и велела сыну уступить. От греха подальше. Бог с ней, с дверью. Жизнь дороже.
Но не тотчас выпустил Антон дверь из рук; еще поглядел он, совсем непокоренный, непридавленный, в настырные глаза ефрейтора, будто бы стараясь запомнить их на всю жизнь свою.
Осклабившись, сказал удовлетворенно тот:
– Heute mir, morgen wir. – Сегодня мне, завтра тебе.
– Да, ты заслуживаешь, точно, – вполоборот сказал Антон, уже повернувшись прочь от него. – Ничего, собаки. У русского Ивана кулак дюжит. Еще стукнет вас по шее – отпевай.
– Was? Was?
– Ничего. Что уже сказал.
После с искренним детским огорчением Антон матери признался в том, что если бы не болела нога у него, он бы не отдал дверь ни за что. Он всего-навсего не успел управиться, доковылять, так как еще ходил в мягкой тапочке – чтобы не помять оперированный палец, чтобы также и скорей все зажило.
«Да, сломана наша изба, – подумала снова Анна. – И, видать, поставится не скоро, если что. Но все-таки добраться туда нужно. А там видно будет, с чего начинать. Будем сами мы – и будем тогда все. Своя волюшка – раздольюшко».
И всю эту ночь то тарахтели моторы машин, то бабахало где-то, то урывками мятуще посвечивали, верно, фары, то шипящие яркие ракеты в чернильном небе вспыхивали, описывая дуги, и в глазах Анны чередовалось что-то светлое и черное. Прыгали эти полосы, сменяя одна другую.
IV
Опасения относительно дальнейшей задержки здесь оправдывались: с утра по деревне откатывались немецкие части, и к соседней избе, в которой, похоже, располагалась немецкая комендатура, еще подкатил крытый грузовик и несколько немцев грузили в кузов, вынося из нее, какие-то ящики, коробки. Так что, несмотря на то, что выселенцы изготовились пораньше двинуться домой, попив водички с сухарями, нечего было и думать выйти из избы: можно было влопаться и пропасть напрасно. К тому же Сашу донимала боль в животе – ему надлежало отлежаться, может, с теплой грелкой: нужно было бы нагреть водички и налить в бутылку… И прогреть живот, бока…
Однако теперь отчетливей для всех обозначились и беспокойства, вызываемые тем, что сидели взаперти, хоть и тихо-затаенно, в самом, считай, пекле, или гуще, врагов. А что, если кто из них войдет зачем-нибудь сюда, в избу? Может же такое быть.
Для того загодя открыли люк, ведущий в подпол, – для того, чтобы молодые девки (если что) могли по-быстрому попрыгать в подпол и закрыться крышкой своевременно; над этим они даже несколько потренировались, отчего заулыбалась кроткая Клава с выразительными овечьими глазами, а Наташа сняла толстый платок и встряхнула головой, чтобы распустились посвободней волосы. На эту выдумку надеялись, хоть чуть.
Аккуратно растопили снова печку, чтобы сготовить кой-какое варево и кипятку. И уже Анна вдвоем с Авдотьей опять лепясь по стенкам изб, принесли воды с колодца. Из похода этого они заключили, что отходящие солдаты, очень заняты отступлением, мало обращали на них внимание, либо мало потому, что то были не патрульные солдаты, только потому.
Был уж полдень, все благополучно. В том смысле, что схоронившихся сельчан в избе не тревожили. И Большая Марья, сидя на табуретке, заведено-громко рассказывала что-то; Анна, взглядывая за окна, ее поправляла и просила говорить потише, но та, понизив голос, тотчас его повышала бесконтрольно, чем ребята забавлялись.
– Но, видишь ли… – лишь начала Анна в ответ, глядя в окно, как тут же тревожно замолчала: на улице вновь показались немцы. Что-то будет? Один из солдат торнулся в дверь крыльца, потом отошел в раздумье на два шага, скользнул по окнам взглядом.
– Девки, прячьтесь! Ну! Скорей!
Одна за другой Наташа, Ира, Ксения, Тамара и Клава нырнули в подпол и закрылись там. Все затихли напряженно; слышалось лишь тиканье запущенных ходиков, отстукивавших время без хозяев.
– Может, открыть лучше? – Антон обвел всех глазами. – Я схожу.
– Стой! Может, он уйдет, сынок… О, господи! Пронеси его… Молю…
Но тут солдат дважды ударом приклада сотряс крыльцо, а потом еще. Звякнула щеколда, дверь распахнулась, бухнувшись. Загромыхали сапоги по половицам. Взошли на порог грузновато.
Все в избе застыли.
– О! – с удивлением издал серый, точно выдравшийся весь из пепла и свинца, громовержец, только вперся на затоптанный порог. Во всем своем солдатском облачении.
Он не ожидал, наверное, увидеть полный дом жильцов. Дом, который был заперт и в который он вломился запросто. Это было для него диковинно.
И, входя, с надменностью туда-сюда зашарил истуканьим своим взглядом; и, промаршировав затем на кухню, заглянул бесцеремонно в чугунки, на полки и под лавку и понюхал еще воздух по-собачьи – выяснял, должно быть, что там лежит плохо, что прибрать-то к рукам можно; и, разочарованный, подавил в себе холодную усмешку образованно догадливого человека: Анна даже руки распростерла – загораживала от него ли, от его худого ли глаза детушек, которые елозя по полу, играли в куклы самодельные, тряпичные и, играя, разговаривая с ними, на манер больших, тоже бережно и ласково всячески остерегали их от чужих солдат и самолетов. Вот такое было у них детство незавидное. Загнанное, беззащитно-ломкое.
Антон, что колол топором полено – на лучину для растопки печки, бросил сипло:
– Что камраду надо?
Вырвалось невольно у него. Немец развернулся и по-русски отчеканил сразу:
– А что нужно мне, то я и возьму. – И нелюбезно ткнул сидевшего на корточках Антона автоматом в грудь: – Ты кто тут есть? Может, партизан? Признавайся! Партизан?
Братья Кашины уж немало попадали в переплет.
– Партизан!? Какой я партизан!? Разве же не видно? – И Антон продолжал колоть лучину.
– Я не вижу, – громовержец напирал.
– Мое! Мое! – Анна, кинувшись к сыну на выручку и закрывая собой его, прижимала руки к сердцу, чтоб понятнее извергу было. – У меня, у матери, есть дети маленькие, не разбойники; и у вас, наверное, есть тоже маленькие дети, да? Вы-то их жалеете, камрад?
– О, да! – сказал вломившийся. – Ja. Ja. Жаль… – недобро ухмыльнулся.
С громыханием укатился снова, даже не прикрыв за собою дверь.
– Этя ктё? Этя ктё? – прижимаясь к плечу Большой Марьи, как в горячке, спрашивал у ней Кирилл.
– Спи, спи, солнышко мое, – убаюкивала мать его. – Дяденька пришел и уже ушел. Спи спокойно, не пугайся, грибок мой.
– Мамуленька, а немец нас опять не забелеет? – спрашивала Танечка.
– Не приведи бог, ангел, что ты! – ужаснулась, вздрагивая, Анна. – Фу! Это… с ума сойдешь… Партизан!
Анна, все еще как-то сжавшись вся, точно ожидая постоянно нависшего удара, готового всегда сорваться, беспокойно ерзала по избе и заглядывала на улицу в окна: она совсем еще не отошла от захолонувшего в сердце ужаса при виде вломившегося сюда живодера, стоявшего в ее глазах, да при одной только мысли о том, что могло здесь произойти сейчас, вот только что.
– Там, Антон, надо бы опять дверь закрыть покрепче – на пробой или подпереть… Коли снова торгнутся, задребезжит – хоть услышим это, так оповестимся загодя… Девки, вылезайте из подпола!..
Как же дешево, не ставя ни во что, ценят эти ироды вооруженные любую человеческую жизнь: можно ею поплатиться за один лишь взгляд или слово, брошенное необдуманно, или даже просто так – из-за прихоти такой, блажи дикой, необузданной. До чего ж нелегко было ей, маломощной матери, и чего ж ей только стоило сначала выносить в животе своем, а потом вскормить, поднять и его, Антона и как, оказывается, непростительно легко и быстро она могла его потерять, лишиться, разуму вопреки: дело-то всего минутное или даже проще. Это не укладывалось в голове ее, сознание протестовало.
Анне вспомнилось: принесли его из роддома, а он отчего-то грудь не берет, не сосет; нацедит она ему молока – то и сосет сквозь соску, чмокает; встает она рано утром к печке – малыш на плече у нее лежит. Скосит она взгляд свой на него – посмотрит: один глазочек у него открыт, а другой прикрыт, – не спит уже, значит. Сдуру-то она уж и дымом печным его окуривала. Дурность изгоняла. От невежества, конечно. Темноты людской. Бескультурье было. Раньше все так – в один голос – говорили, что надо ребенка заколдованного обязательно очистить от дурности дымом. Вот как она затопит печь, дым потянется в трубу, так она и ставит его, поддерживая, туда, – с благословления нашептывателей. Безответственных. И потом носила его так же, как носила и других детей до этого, под насест куриный. По тем же наущениям. Темечко у него не зарастало что-то долго. Так боялась, что проткнется невзначай.
Анна с ним и к бабкам хаживала – прежде с медициной было плохо, неустроенно. И одна бабка-божительница немедля вынесла ему суровый приговор – что у ней никак не жилец на белом свете: только до восьми лет дотянет… А другая пророчица, старушенция приятная, чистая, с острыми, шустрыми глазами, как развернула одеяльце и пеленки, нежно подняла его под матицу, так и проговорила: «Голубушка, да он у тебя во-о еще каким героем будет!» Тем маленько Анну обнадежила и распрямила.
Потом, заговорив, Антон поначалу закартавил: четко не выговаривал, несмотря ни на что, букву «л». Ничто не помогало. Начались у матери новые волнения, беспокойства и сомнения. Анна спрашивала у него: «Может, ты пока не будешь ходить в школу? Больно мал ты по сравнению с другими школьниками: тебе семи годочков еще нет – шесть с половиной ровно». Но он упрямился (самостоятельность его заела с самого раннего возраста), не соглашался: «Нет, мне в шкое учше, интеесно». Ну, если «учше», так пусть «учше». Оставили его в школе. Зато учительница – хотя и по-доброму, видно, – отшучивалась перед красневшими родителями на родительском собрании – говорила, что у нее одни ученики с дефектной речью: кто «л» не произносит, кто «р», кто еще что – какой-нибудь звук, а кто заикается даже.
V
Между тем после того, как беглецы закрылись вновь, напряжение чуть спало, улеглось, и хотя там, за стенами, такими ненадежными, все не прекращалась какая-то пугающе длинная возня и перемещение масс отступавшего неприятеля, в избу вдруг вкатилось (надо полагать, само собой) легкое веселье; оно захватило всех врасплох, окутало, что туманком, как ни протирай глаза от удивления и не ищи вокруг известные или хоть какие-нибудь приметы. Оно благодатно расслабляло скованный, пооббитый бедами организм. Как будто не было теперь ни у кого всех мучительно выматывавших невзгод, томительного ожидания чего-то под страхом смерти, ноющей (у Саши) боли, мешавшей порою дышать, делать глубокие вдохи или просто двигать ногами.
Анна отошла немного:
– У меня аж дыхание сперло, – как все развеселились буйно.
Видимо, смешинки в рот попали. Не без этого. Наташа засмешила всех, подхватив:
– Ой, помню в нашей школе сельской, что открылась по соседству с нами, в доме раскулаченной семьи дяди Трофима, мы хором – всем классом – продекламировали стих (конечно, не нарочно, а так переврали – по-смешному): «В заду дыханье сперло». И учительница обалдело уставилась на нас, а мы – на нее. Немая сцена длилась. Нечего сказать, мы были оторвы – ой какие! Раз Нина Петровна нам велит: «Скворцова, Кашина – в угол!» Та встала. А я нахмурилась, брови сдвинула: «Не пойду в угол!» – «Тогда книжки отдай!» – «Не отдам». Подошел староста класса, я вцепилась в свои книжки. А перед учительницей, Ниной Петровной, вроде неудобно все же так – отдала ей две. Скворцова в углу хнычет: «Нина Петровна, отдайте книжки, дальше мы не будем…» А я – нет. Говорю: «Платили, платили деньги за книжки… Отдавайте тогда деньги». Нина Петровна вынимает по три рубля, отдает Скворцовой и мне. Говорю ей: «Зачем же деньги, отдавайте лучше книжки». Не отдает. Вот пришел отец домой с работы, а меня еще нет с ученья дома. Сюда, в школу, зашел. Учительница так, мол, и так. Отдала ему мои книжки. Ну, и всыпал он мне по первое число, что надолго запомнила.
Тогда в третьем классе учились вместе с нами, малявками, уже семнадцати-восемнадцатилетние. А учителя потом прислали к нам молодого и живого. Он хотел однажды наказать ученика, а тот, сидя за партой, как заорет на него: «Уйди, Гриша, от казенки!» И я приложилась: раз ему рукава оторвала. У пиджака. Повозиться с нами любил он в переменки. Мы на руках его висели – катались. Я-то ухватилась так неудачно – и рукав затрещал запросто. Учитель мне и говорит: «Ну, вот что, девонька, оторвала – теперь пришивай». – «Ну, говорю, была нужда: сам катал, сам и пришивай». Тогда пришила ему оторванный рукав наша добрая нянечка.
Вот какая я дура и баламутка была. И ведь есть-то дурра.
Затем вспомнили то, как все после тифа, выздоравливая, насилу учились ходить – ни у кого не слушались ноги. Антон еще бредил: «Ой, надо же: опять исчезли!» (Оказывается, камушки к зажигалкам – помешались ребята на них). Или вскакивал: «Ой, где же он? Только что здесь был…» – «Кто, Антоша?..» – «Да хлеб, тетя Поля принесла. Положила под мою подушку…» Ведь, как же, только и мечтали о еде (сидели и в окопах – мечтали эти полтора года: «Нет, после войны, когда настанет время хорошее, уже не будем ничего из вещей покупать, а только есть будем».
– Мам, скажи, – спросил Антон, – а что, папка наш батрачил до того, как он женился?
– Нет, сынок, – разуверила Анна, – он сроду не был батраком. Смолоду отец нашего отца, Данила Гаврилович, считался из порядочных. Был жестким, пьющим – страсть! Его, пьяного, обирала-обчищала вторая жена, мачеха Василия и Трофима…
– Это – бабка Степанида наша, что ль?!
– Ну, она тогда еще такой не была… И вот обирала его, а он приставал к детям – дескать, это они его обирали. Вот как. Умер он, когда Василию исполнилось одиннадцать лет. Он тоже, как и я, рос без родителей, считайте, – про это я вам говорила.
– А без матери с каких лет он остался? – спросила еще Наташа.
– С четырех. Тогда, значит, выгнанный Трофим с семейством своим поселился пока за плотиной у родственников и жил покамест там.
– А у Василия с мачехой, то есть бабкой Степанидой, кем она есть сейчас, после смерти его отца начались скандалы: обнов она ему не справляла. В юности он старался сам на себя заработать. Раз они схватились в рукопашную. Так, что мачеха сбежала из дому. Без дочери – Полины семилетней. Ну, та ночевала у своей товарки, Дарьи, несколько ночей, домой не приходила – не показывалась. А потом Василий работал на заводе и не уследил, когда она и Полю забрала к себе: однажды он приходит с работы, а сестры дома нет.
Они не возвращались к себе домой неделю-другую, и тогда Василий пригласил в избу брата Трофима с семьей. Трофим охотно согласился, переехал к Василию. Но и с Трофимом все разладилось вскоре. На Виденье привел Василий абрамковского Цыгана. Стали выпивать вместе с Трофимом. Керосиновая лампа стояла на краю стола. Василий вскоре невзначай зацепил рукой лампу – она упала на пол и разбилась. Вскочил тут Трофим – горячий был, как и папенька: «А-а, ты такой-сякой, приводишь тут всяких мужиков…» Давай делиться. И спешно тогда Трофим начал строиться рядом. Строился толково, очень основательно…
– Все потом прибрали к рукам, – сказала Дуня, констатируя.
– Когда же революция свершилась (стало о ней слышно) и дошла и к нам, Степаниде вдруг занадобилось – она в суд советский обратилась, подала бумагу, – рассказывала Анна далее.
– На кого же? На папку?
– Стало быть. Значит, на раздел с ним жилья – этой бывшей мужниной избы, из какой в бега пустилась. Выкрутасничала баба – ой! И тот суд, значит, ей одну только кухню присудил – лишь то, что на Полю, ее дочку от Гаврилы полагалось здесь, но не на нее саму, как владелицу-хозяйку, пришедшую, значит, на все готовое сюда, к мужу. Вот как, значит, обернулось. Она, известно, просчиталась: разыграла себя такой обиженной (она разыгрывать умела) перед обществом, перед властью и думала, наверно, что первым номером пойдет, а получилось – сама себя наказала, высекла. После этого-то они с Полей уже стали в кухне жить. Отгородились стенкой от Василия. А вскоре – в двадцать третьем году – Василий за меня посватался, и я ему дала свое согласие, вошла в его неновую разделенную избу – две передние комнаты без печки еще. Здесь семнадцать-то лет и прожила я с ним – добро наживала. Вот где моя родина, мое кровное гнездо. А меня хотят изгнать и загнать куда-то, господи! Твоя воля, господи! – И призналась Анна после того, как перекрестилась, – как-то жалобно-стыдливо: – Сейчас меня что-то тянет в церковь, как в кино, видать, других или как читать книжки приманчивые. Соскучила я. С детства меня туда тянуло. И боюсь до дрожи грозу, например. Наш-то дедушка религиозный был. Ой! Когда гроза, например, собиралась, он дома обязательно клал круглый хлеб на стол и заставлял всех креститься. Примета такая: и окна все закрещивал – крестил. Чтобы, значит, гроза не навредила. И сейчас на улице небывало великая гроза, потому и я сейчас крещусь, крещусь и дрожу. Ох, только обошлось бы все. Век молиться буду, клянусь.
VI
– Мам, а мам, – попросила опять Наташа, отвлекая, или привлекая ее внимание, – ты лучше расскажи нам о самом интересном – как вы с папкой познакомились. А?
– Доченька, а я, кажись, уже рассказывала вам под бомбежками. И почудилось будто покраснела чуточку Анна, или стушевалась несколько.
– Ну, никак не полностью. Так дорасскажи. Нам интересно это знать. Все равно сидим… Закаменеть ведь можно.
Анна начала:
– За год до замужества я ехала в телеге по Заказнику, где была дедова земля, и моя лошадка вдруг чего-то испугалась, взбрыкнула и понеслась по кустарнику, бездорожью напролом. Я вся потерялась вмиг, и вожжи из моих рук выпали… Только вдруг парень спереди схватил кобылку за узду и оглобли. Скомандова по-мужски: «Ну, не балуй! Не дури!» Она даже вздыбилась, попятилась, затанцевала. Был это Василий, ловкий, сильный, хоть и не великан вовсе, с мелкими чертами лица. В округе все драчуны его боялись, слушались всегда.
– Мы-то уже помним, – сказал Антон, – как к нему (под окна) приходили такие и клянчили: «Дядя Вася, отдай финку, я больше не буду…»
– А он в ту пору лес валил, возил, пилил, колол и продавал на рынке – один на паре лошадей. Ну, потом, когда я уже согласилась быть его женой, он обрадовался очень: он был стеснительный и совестливый и счел, что из-за его худой – бунтарской – славы уж никто из невестившихся девушек не пойдет за него замуж. И родители-то всех невест будут против. Нет, мои бабушка и дедушка тоже, как и я, изъявили свое согласие. Дедушка по-здравому, по-жизненному рассудил: «Счастье в ее руках – она сумеет с ним совладать. Она будет заместо матери для младших сестер своих». Так предугадано и стало. Сестры, как к матери заглядывали ко мне: «Анна, надо это сшить, или скроить; Анна, надо это сделать, помоги». Потом свои дети – вы – пошли. Один за другим. Люльку мне тетка Нюша дала – с отцепом. Двое на таком отцепе качались, двое – на жердине, какую Василий приладил, а трое потом (как и жердинка эта прикончилась) – в кроватке, собранной им же, отцом. Ты, Наташа, качала ее ногой – сама полетела в перековырку и кровать с Верой в перековырку. Думали, что Вера будет горбатой. По врачам сколько ходили, ой!
И не видала жизни я. Приданого у меня было мало, а у Василия – и того меньше. Гол сокол. Дедушка тогда еще сказал со смешком: «О-о, у нашей родни много везде знакомых; пойдет по ним Анна – по кусочку наберет, проживет». А Василий тут же и добавил: «И мне уж кусочек достанется-перепадет». Поедет он, бывало, в лес, навозит деревьев, нащепает дранку, продаст ее, и, глядишь, приобретем что-нибудь. И хозяйственный Трофим даже удивлялся на него, брата: «Вот какой молодой хозяин-то! Толковый!» Тот норовом угодил в отца: жену гонял, гонял детей. Опускался в водку, стекла бил. А Василий, если и выпьет, случалось, то не шумит, уляжется прямо на полу тихо-спокойно, не нужно за ним ухаживать – бузить не будет, все будет хорошо. Ну, а руки золотые. Ой! Все, что ни задумает, то и сделает, смастерит. И печку топил, и хлеб пек, и коров доил – когда я заболела. И говорил после: «Все буду делать, но коров доить больше не буду. Нет, хуже всего – корову доить». Конечно, руки мужские – не женские. Корова чувствует. Да сноровка нужна. И подход к той же скотине. Ласка, терпение.
С разговором этим Анна в точности забылась, где находится, и дрожать почти перестала. Глаза у ней чисто засветились, заблуждал на лице легкий румянец. Любо-дорого было ее слушать.
– А потом бабка Степанида с тетей Полей построились напротив? – спросил Антон.
– Да, в тридцать пятом, или тридцать шестом уже году. Папка ваш дал им отступного – выплату за кухню; они и наглядели сруб, перевезли его сюда.
– Да, попозже, мам, немножко.
– Может быть, сынок, не спорю. Всего ведь не упомнишь подлинно: в памяти мешается.
– Потому как знаю то, что мы ученики, ходившие в эту школу именно – то есть в дом этого дяди Трофима сосланного – еще бегали сюда, к стройке, на переменках и еще месили ногами глину, раствор, для печки тети Полиной. Много было глины.
– Ну-ну!
– Зато и оделяла нас тетя Поля довисевшими спелыми, черными сливами, такими вкусными, каких я сроду не ел. У нас-то в огороде, они не успевали дозревать: дозреть им было некогда, – все правильно.
Кто-то рассмеялся на Антоновы слова.
– А ты помнишь, сынок, – разговорилась заинтересованно Анна, – что вы с ней же, тетей Полей, тогда вообще дружились так, что не разлей водой, и ты за ней таскался по укосам лет что-то с пяти – все природой восторгался? Тебе и матери тогда не нужно было. И она, бывало, пихала тебе булочку или гостинчик, или сахарину, тогда как ее болтавшийся уже сынок, Толя, покашивался на тебя неодобрительно; совала она это и сквозь нашу отдушину-прорез в бревенчатой стене, какой сообщались мы друг с другом семьями, если что затребуется. Бревно было просто выпелено, и затычкой-бруском деревянным затыкалось, и вот, как то, так взаймы передавала хлеб и соль, и масло льняное, когда оно было, и что-нибудь там еще, что нужно. Не-не, не скажу, Поля и Василий на редкость ладили во всем, во всех делах; он ей помогал и план вспахать, и она его слушалась и почитала очень.
Я так думаю, что, наверно, тетя Поля со своей ворчливой, шамкающей Степанидой давно уже дома, приехадчи; наверно, на теплой печке лежит – греется и ждет – не дождется нас. Как судьба нас разметала! Даже и не верится… До сих пор мне не верится. Нет, это не со мной… не с нами…
VII
А тем временем на воле громоздко-слышно двигались войска чужие.
Лежа на соломенной подстилке, побледневший, сникший Саша, казалось, еще болезненней морщился от этих доносившихся звуков: сколько он теперь ни отдыхал, полеживая, у него все так же, если не хуже, болели бока, легкие и ноги распухшие, что он стискивал даже зубы, когда вставал и ходил. Что значит: восемь ночей февральских, пронзительных поспали в той конюшне на елках, у самой двери дырастой. Там, должно, и прохватило особенно его. А лечить-то нечем, негде и некому. Как же дальше идти теперь? Ой, все сложно и все тяжело.
И никто тогда даже представить себе не мог, что впоследствии обнаружится у него, Александра. Спустя десять лет, его по призванию на службу в Советскую Армию вскорости демобилизуют, как непригодного к ней: остались у него от этих дней рубцы на легких. Вот какая крепкая натура: хоть и с зарубками внутри, но не сломилась совсем, выдюжила все-таки.