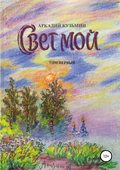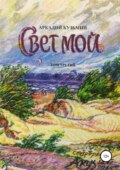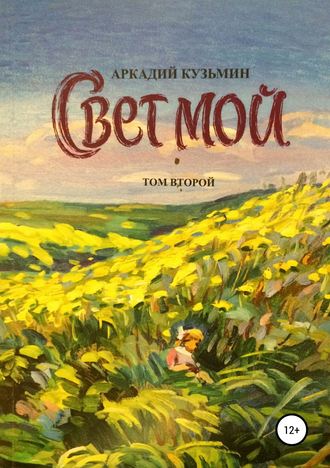
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 2
Так все незаметно лезло и накатывалось на ум Анны.
В перемещательном движении людской колонны все было однообразно. И погода не менялась оттого, что пробрызнул день. Небо не было голубым. А снег тем не менее точно светился весь изнутри нежнейшим голубовато-синим свечением, наполнявшим воздух, что создавало необычайную иллюзию пространства, его глубины и там, где ничего похожего вовсе не было. В холодной пелене беснующе-упругого пространства, калившего лица, безостановочно качались, двигаясь колонной, взгорбленные и взбеленные плечи, спины выселяемых; порой тупорылые немецкие автомашины, обдавая газом, и темные узкие фургоны оттесняли их в кювет, набитый сыпуче уплотнившимся снегом с характерным ровным блеском. Однако мало-помалу ходьба на расчищенном и накатанном большаке разогрела кровь; оттого, наверное, Анна капельку взбодрилась и – хоть слабо, все же обнадежилась той верой, что и это должно ими превозмочь. Полюшка права: многое уже хлебнули – и покамест выжили, не окачурились… Даже вроде отступилась от нее, – Анна вслушалась, – да, отступилась от нее заунывная, вихрившаяся и было досаждавшая ей, музыка метельная. Но, возможно, Анна и взбодрилась потому, что им предстояло вскорости, она подумала, пройти деревню Медведево, в которой она, вероятно, сможет получить, расспросив кого-нибудь, какую-нибудь весть о сыне, – она теперь думала о нем больше и первее, чем о муже своем. Может, они как раз следуют за ним – где-нибудь сойдутся-скрестятся их пути, надеялась она.
Ей уж рисовалось зримо то, как они в Медведево входили, под деревьевые своды, и как высыпали к ним из полузаколоченных из навстревоженные бабы, старики; набожно те крестились, ближе подходя, чтоб узнать:
– Откель вы, горемычные? Чьи ж вы будете?
– Мы – ромашинские.
– Из Ромашино?! Ей-ей! Значит, наша очередь теперь за вами: тоже заоблавят, заскребут и нас…
–Они всех повыгоняют. Приготовьтесь в этому заранее.
– Двумя днями раньше тоже гнали – дальних…
– А вчера не погоняли мальцев наших?
– Родненькие, видели мы, чай: провели мальчонков, мужичков. Это – ваши, стало быть?
– Слышишь, Полюшка?..
– Чувствую…
– Мужчинки, те будто б сторонились ребятишек – как бы они, недоросли, не были для них обузой.
– Верно, схоже. Мужички-то – сами себе отставные – больно берегут себя. А куда же их погнали, вы не знаете? Мы ведь матери ихние..
– Нет, простите, милые; не сказал никто, сердешные.
«Да, не зря я думаю, что он там, кругом один, без товарищей…» – почти вслух проговорила себе Анна.
И опять усилился в ее ушах вой ветряной. Он усилился вместе с напряженным гулом телеграфных проводов – они, выселенцы, только что миновали знакомо полосатый перекрещенный столб и шлагбаум переезда с темно-зелеными снегозащитными елями и коричневатой железнодорожной будкой. Все было тут порушено, повержено.
И опять, Анну озадачили Саша и Антон своим загадочным полунамеком – переговором на ходу. Что такое они скрывали от нее наверняка?
Вот они-то, вопреки всему, было видно, не кручинились от этой участи своей, а по-веселому старались только умно экономить силушки. Так, на спуске они снова подсадили Верочку на санки, взяв ее от Анны и отстороня Наташу, сами встали на полозья и поскольку все спускались почти бегом, не удерживаясь на наклоне, – так и съехали на санках своим ходом вниз. Чем очень довольны были: потешались оттого, что придумана будто бы игра.
Но Антон, разом посерьезнев перед новым – большим – спуском, опять начал:
– Саш, а то, что здесь… ты не забыл, надеюсь?
Саша, память напрягший, спросил:
– Подскажи-ка мне, что?
– Ты не помнишь разве?!
– Ни-и, нипочем.
– Ах, постой; я спутал, извини: в этот раз, это ведь, мы были без тебя… Да, извини меня…
– А кто был? Когда?
– Ну, Валерка, Толька, я – втроем. На лошадке нашей. На Гнедой.
– И что было? – пытал брат настойчиво. – Хоть намекни. Бляха медная…
– То же самое, что началось уже везде. Разве тебе не понятно?
– А-а-а… Поймал!
– Вон Наташа лучше про все скажет…
– Нет, и я сам представляю хорошо… Не будем…
А Наташа в это время молчаливо тянула санки за веревку, не встревала в их переговор. Тем сильней пугалась чего-то Анна:
– Где Валера был, Антон? Вы о чем, скажите мне, прошу… Все-таки я – ваша мать…
И Антон вроде бы не уклонился от ее вопроса, но ее заверил, что они не станут больше ее беспокоить; он проговорил затем почти по-взрослому, как и подобало сыну, ставшему в семье за старшего по мужской-то линии:
– Мам, ты не волнуйся понапрасну, право; просто я же говорил: мы толкуем о своих делах давнишних, ты поверь. – И нацелил зорко пристальные глаз на то бесприметное, сглаженное белой насыпью, и одновременно жуткой место у развился, чуть пониже ее…
XVII
Точно: втроем они – Толик и ссорившиеся с ним все чаще и между тем, несмотря на всю непримиримость, неразлучные с ним (по нужде и обстоятельствам) Валера и Антон – по октябрьскому мягко заснеженному первопутку (благо и пока еще колхозная Гнедая принадлежала и, стало быть, могла служить им в хозяйстве) приехали на розвальнях сюда, в лесок, за дровами. Чтобы выжить в немецкой оккупации, нужно было начинать с чего-то жить, хотя все окружающее, вместе с самим воздухом, казалось, стало уж совсем иным, чем прежде, – будто бы насмешливым, обманчивым, заведомо призрачным; хотя с прежней красочностью никли к земле пучки увядшей травы и кусты под снежным налетом, а над сонно стывшим перелеском сказочно вились, опускаясь, новые снежные пушинки; хотя умная с запалом лошадь по-прежнему легко катила их и широкие полозья дровней, оставляя за собой блестящие полозницы, приятно шелестели по твердому снегу; хотя всем им нравилось так ехать, полусидя на охапке подстеленной соломы и понукая изредка лошадку.
Неисправимый Толик (для него все было трын-трава, хоть кол на голове его теши), кинув окурок, разглагольствовал самонадеянно:
– Эх, пожить бы так годков, может, двадцать!…
– Ну, и что бы ты сделал? – с неприязненностью зацепил его тут Антон.
– Что? Многое: кой-что моя первейшая мечта – шикарный дом отгрохать, огородить его со всех сторон, чтобы не было к нему подступа ни для кого, и ворота поставить, да такие, чтобы, знаешь, можно было прямо к самому дому подъезжать на автомашине.
Братья Антон и Валера засмеялись.
Дудки! Сивый бред! Можешь не надеяться на это – скоро немцев все-таки турнут, турнут отсюда в зад коленкой!
– Черта с два!
– Да-да!
– Они – с могучей техникой; отлажена она у них на ять; они только потому и прут безостановочно, если знать хотите..
– Ну, еще посмотрим…
– А с Гнедой, я говорю, жить нам можно преотлично. Не тужить… Ну, вы поглядите ж, сколько мы дровишек наложили в дровни… Для себя же… Сами будем пользоваться этим, а не кто-нибудь еще… Фантастика…
Да и смолк Толя вдруг – оттого, что на подъеме проходившего стороной большака, за прореженной лесной комой, за железной дорогой, еще не действовавшей, зафырчал мотор автомашины и что она, выбеленная, малозаметная, взобравшись, тотчас резко стала почему-то. Приблизительно с километр белое расстояние отделяло ребят от машины, снежок легкий крапал, и сквозь тонкие штрихи ветвей было смутно видно, что из нее механически повыскочили живчики – тонкие темные фигурки немцев!
Незамедлительно затем раздались хлопки-выстрелы: бах! бах! бах! Но с чего бы вдруг? И там, вдали, будто кто-то споткнулся и упал. Или это показалось только?
Жуть взяла…
А назавтра братья, уже проезжая на дровнях мимо этой-то развилки с большаком, с содроганьем увидали, что на приснеженной горке лежал навзничь почернелый, закостенелый труп в знакомой шинели серой. Подняты колени, точно боец этот (пленный или окруженец) еще делал последнюю попытку подняться навстречу смерти; и отвесно к глухо затянутому небу поставлены грузные обнаженные руки с крепко сжатыми кулаками – выходило, он, и мертвый, слал проклятье вторгшимся убийцам.
Анне никак не понравился ответ среднего сына, определенно уклонившегося от какого-нибудь объяснения ей того, о чем они, он и Саша, уже дважды заводили странный – с недомолвками – разговор между собой; она оставила в себе надежду все же выяснить у них поласковей, что то означало, чтобы ей решить, нужно ль вмешиваться, рассудить все по-своему. Покрикивать на них, ребят, с тем, чтобы держать их, что называется в узде послушания, ей совсем не нужно было, нет, они и сами с полуслова понимали все, слушались ее с бесспорным, чистым, детским почитанием. Равно как, или больше, почитали и отца. У родителей они не росли ослушниками, не были разболтаны – этим дорожили. Прилаживались, чтоб нести ответственность.
Еще ладно, радовалась Анна, что поныне хоть она, одна родительница, была вместе с ними, детьми, и что они не потерялись, как бывает, друг от друга, – вместе-то начетней как-никак все вынесли, если, конечно, суждено им будет вынести, несмотря ни на что. И суть даже не в том, разумеется, что их посемейно, обступя, выгонял куда-то конвой уж немолодых – тотальных – немецких солдат, в кепках и что конвойные еще покрикивали, подгоняя, пытаясь еще нагнать страх на людей, а в том, что это выселение казалось всем страшней всего-всего; этого еще никто-никто не видел, не знал и не испытал подлиным образом. Одно знала Анна верно: многие из них, зацапанных в неволюшку, могли скорей поверить в гибель самых близких, родных людей, чем поверить в то, чтобы быть выселенными с Родины в какую-то постылую неметчину, и скорей уж могли погибнуть сами – от рук ли карателей, под советскими ли бомбами, снарядами, чем расстаться навек с домом, где родились, жили столько.
На новом дорожном спуске братья Кашины вновь, приладившись на полозья санок, покатились стоя вниз; по наклону сами скатились, управляемые, – к вящему неудовольствию шагавших спереди; из-за боязни быть подбитыми сзади передние невольно озирались, торопливо сторонились, пропуская, вследствие чего сбивались с взятого темпа хода, а потому и забранились на легкомысленных затейников катания. И были, конечно же, правы. Это скатыванье всем мешало все-таки.
– Анна, поуйми веселеньких своих – распустились шибко, ишь! – засипев , красно выголился весь тоже указующий ныне Семен Голихин, кто, помнится еще, умолительней других кликунов на последнем колхозном собрании, когда уже все работы в колхозе свернулись, упрашивал ее поставить именно ее самых исполнительных, смирных и надежных ребят на пастьбу коров… С грустью она поуняла сейчас естественную ребячью прыткость – также потому, чтобы Антон, Саша и Вера, бегая, не запарились, не простудились ненароком.
Но, по той же справедливости, несчастье резче обнажало суть в шагавших на каторгу взрослых людях, порою косных, неисправимых ни при каких чрезвычайных обстоятельствах, даже и несносно противных, ворчливых по сущим пустякам. Да, люди в общем-то редко возвышались. Хотя б в великодушии. На костер, наверное, пойдут такими кочерыжками. Только их не беспокойной ничем, не тревожьте ради бога. На большое – чуть приподняться над обыденщиной, привычками – часто духа у них не хватает, либо нет ума, не светит он. Заневолен. Или бережется для чего-то. Эгоистично.
А потом большак, мало защищаемый от ветра перелеском – вырубком, на протяжении, может, верст двух-трех неуклонно повышался, и, так как усиливалась непогода и ветер напористей, напевая и гудя, наскакивал и бил метелью шаг за шагом и стало тяжелей тянуть еще с собой и за собой малых и какой ни есть необходимый скарб.
Тем настойчивее занимала и поддерживала Анну неотвязная дума о том, чтобы в деревне Медведево, через которую их, по-видимому, пропихнут, не прозевать и порасспросить тамошних старожилов о Валере и Толе – куда тех погнали дальше. Такое неотложное желание, как оно явилось, несло ее над заносною дорогой.
Однако, неожиданно колонна, почему-то взял левей Медведево, повернула на старый, вовсе заметенный тракт – сюда, в не проездную целину, втерехалась.
Наносы наглухо прижали все следы; кругом только выла и гудела разноголосо метель, швыряясь встречь колючим снегом; он, пересыпаясь, что песок, шуршал сухо. По забучим заносам люди брели почти вслепую, плохо видя, лишь угадывая друг друга; брели все вывоженные в снегу – с головы до пят. Да, нелегко было пробиваться по такому зимнему бездорожью. А тащить навьюченные санки становилось совсем жарко, тяжеленько. И вот не щадящая никого метель выла, подвывала, танцуя, а детки, привязанные сидячими к санкам, – Танечка и Славик, и другие у кого, – тоже подвывали все сильней, все жалостней из этой метельной белой карусели: ножки болят, ручки болят. Не понимали они, конечно, того, что мерзли без движения, хотя и были закутаны в одеяла. И Верочка, которую Анна тащила за руку, тоже плакала: уже замучалась, устала очень, бедненькая. Снег был сыпуч – беда.
– Ну, потерпи еще немножко, потерпи же, девочка, – говорила Анна ей. – Надо себя пересилить. Как во время той болезни – тифа, помнишь? Ведь очухалась!… Помнишь?
– А-а-а… – тоненько пропищала Верочка, – я помню: ко мне песня про Катюшу припиявилась; и я все пела в тифу: «Расцветали яблони и груши». А ты ругала меня: «У-у, нелюбязь! Уймись! Глаза мои не глядели бы…» – И засмеялась.
– Думала: прискочат шелудивые черти… пела-то ты как в трубу на демонстрации. На всякую беду страху не напасешься. – Анна так заотчаялась из-за того, что обошли стороной Медведево, и сама тащилась еле-еле, как больная. Кроме усталости, сказывалось еще и систематическое недоедание: она все экономила из еды на себе – экономила ради здоровья детей. И внушала себе теперь: «Как споткнешься, так не встанешь, ни за что не встанешь уж».
Такова была действительность, от нее-то никуда не спрячешься. И не уйдешь. Не подсунешь за себя кого-нибудь другого, если бы кто и хотел подсунуться.
XVIII
– О, если б он только видел эти мытарства…
– Кто, мамуленька? – Наташа обернулась, отозвалась.
– Кто?! Отец ваш, доченька. Может, вправду, он уже погиб… Сложил голову… И напрасно я лелею мечту увидать его… Что везде твориться. Болит мое сердце. – На Анну опять нашла меланхолия, ее угнетало происходящее.
– Мама, не пророчь, не хнычь, пожалуйста, заранее, – оборвала дочь.
– Ну, как ты можешь, мам, так говорить! – возмутился и Антон – поражаюсь я…
– Я, сынок, могу… Я теперь все могу… – Анна всхлипнула разок-другой: накатило на нее.
Известно, уже многие лишились жизни. И лишились ее в том числе по вине предателей. Непонятно только, кем же Силин был – пребывал теперь при них, выселенцах? (Он попал ей на глаза). В каком чине-звании? Полицаем отставным? Вроде бы повеселел, сейчас он даже – был не очень каменно-сумрачным. Да, погибли уже многие, а он вот живехонек, радешенек, он, кто зарабатывал себе перед врагом чужой кровью это призрачное призвание, которое ему набредилось: «Ты ведь господин, не так ли?» Ничего ему не делается. Как же так?! Бог терпелив?! Или еще воздаст, воздаст должное и ему за все его клятвопреступные труды? Анна почему-то сильно сомневалась в этом.
Она, всхлипывая, полезла рукой в наружный карман шубы, стала доставать носовой платок – просто платяной доскуток; и тут нечаянно выронила из него знакомо исписанный тетрадный листок, сложенный угольничком натрое. Ветер подхватил, покатил листок по гладкой горбылине поля. И она, оставив Верочку, опрометью накинулась из колонны ловить его. Все случилось в мгновение ока. Всполошились все. Ай-ай!
–Xalt! Zuzuck! – Конвойный, оглянувшись туда, сорвал с плеч карабин и успел выстрелить. Но он выстрелил уже после того как Анна упала, опрокинутая ветровым порывом.
Антон и тетя Поля одновременно рванулись в нему, крича отчаянно:
– Xalt! Dort-papiz! papiz! Документы! – И Поля его чуть не разорвала в гневе.
Что-то он сообразил – и, изменив первоначальное решение, опустил свою послушную игрушку:
– Ynt! Komm her! (Хорошо. Иди сюда!)
Антон сразу не помня себя, подкатился к матери, поднял ее. Затем изловил трепещущий листок, зацепившийся за устойчивый в снежном плену, ершистый и дрожащий куст поповника, противостоявшего наскоку ветра и снега. И сказал, введя ее опять в колонну:
– Что же, мамушка, пугаешь нас? Под пули сунулась? Тебя не зацепило, я надеюсь?
– Оплошала, оплошала, дети, я, голова садовая – и с виноватой улыбкой прижимала к груди, как бесценную драгоценность, пойманный листок. – Последнее отцовское письмо с фронта… Страшно потерять…
Письмо от мужа было для нее словно охранной грамотой – для нее и ее детей.
– Подальше убери! Во внутренний карман.
И все, помаленьку отходя, над ней смилостивились. Хорошо, что обошлось.
Опять прозвучало:
– Pyc, Schnell! – угрожающе, скрипуче.
Надо было, ясно, поторапливаться. Не давать чертям никакого повода…
С обеих сторон возник сизый Медведевский лес, величественно теснивший зимнюю дорогу. Иные медно-желто-красные стволы сосен, прикрапленных посиненным снежком, были в обхват толщиной. И здесь, вблизи большака, на самом виду, на крепком нижнем суку одной из них висел повешенный – молодой забродевший мужчина в гражданской одежде и без шапки – с болтавшейся на груди в ширину плеч фанеркой с черной надписью о том, что это казнен партизан.
Немецкие оккупанты были прославленными мастерами по части подобного умиротворительства советского населения; в изуверствах они могли любому – каждому дать сто очков вперед. Никому не уступали. Всюду они злодействовали. А в прилесье лютовали еще больше: чаще жгли деревни, расстреливали и вешали жителей – за связь с партизанами, сочувствие им, саботаж и многое еще. И оттого всем выселенцам было очень худо, худо на душе. Это зрелище казненного настолько удручающе подействовало на женщин, что, хотя внезапно стало легче идти, некое нервное движение разом охватило идущих и словно пригнуло их еще ниже.
Все матери собою торопливо укрывали маленьких, чтобы те не видели повешенного, не пугались.
Вера снова вскарабкалась на санки. Наташа обернулась на нее сердито. Не согнала.
Большак все глубже, глубже запетлял поворотами в восхитительно пахшем смолой и хвоей и резко-неприятно конским пометом лесу, от которого, однако, веяло тревожностью вместе в его шумливостью и терзаньем при непогоде. Нынче повсюду хозяйничала немчура ненасытная.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
Это продолжалось так, еще продолжалось, значит, в явной жизни. Ой! За порогом дома, как в угон теперь повально стар и млад погнали, все в глазах еще темней колыхалось и качалось вместе с вязким шагом; было очень зыбко, совсем безнадежно как-то, потому что это было изувечней всего прежнего, что, только натужась неимоверно, вынесли покамест. Вот оно! Под совсем негодными некстати – очень вялыми – ногами снег скользил, хрустел, податливый, тяжелый, один бесконечный снег везде-везде; день действительно ведь ужасный – хуже не придумаешь назло. Нечего сказать, уготовила-таки судьба немилая. Никому неведомо, что же еще дальше предстояло пережить. Угоняемые шли насилу, истощенные. А всесветная пурга, налетная, завиваясь, сатанински пела и свистела, шествию подсвистывала тонко. Ну, неладная! Она будто забавлялась над несчастными, трагически попавшими в бедствие людьми.
И больше ничего: неслышно было, главное, хотя б утешительного разговора наших пушек фронтовых. Они молчали.
Как досадно!
Анна Кашина лишь помнила: стыл то на ветру февральский день, никакой иной, и ненавистный зачумленный немец напоследок гнал всех их, бывших колхозников, из дома под метлу; а уж точное, конкретное число, которое нынче пошло, она, хоть убей ее на месте, ни за что не помнила, начисто забыла вроде. Она точно помнила его, но вдруг позабыла почему-то. Февраль, кажется, пятнадцатого, в Сретенье, свои усы колючие растопырил – взял и нагнал мороз; а после, хотя и сбавил, вновь подразыгрался, заметелил – о-о! Нет, видно, окончательно голова затмилась в аду этой беспроглядной, ровно темь бездонного колодца, фашистской оккупации, уже длившейся здесь, под самым Ржевом, невозможно долго – много больше года – с печального октября 41-го: стало не до живу, не до исчислений дней идущих, только умереть. Одно желание. Но, как говорят, живешь – скрипишь, не помрешь без смерти. Пока она не придет. А возможно, что на почве голода даже память провалилась, подвела-таки ее, Анну, совсем ведь еще не старую, сорокадвухлетнюю, да больную, ослабевшую мать небольшенненьких еще шестерых детей. И похоже (правда оказалась беспощадно горькой все-таки), у ней, обыкновенно, заурядной женщины, не хватало уже необходимых сил, чтобы все же выдержать мытарства до конца, выдержать, не сдаться ненароком. Из-за этого ее отчасти почему-то мучил жгучий стыд. И он не затухал ничуть, загудел где-то внутри ее назойливо.
Ну, вот, значит, дожили они, страдальцы, дожили-то и они, до такого выселения!.. Не обошлось… И для начала – вынесения окончательного приговора – сгоняли всех в середину их деревни Ромашино, к немецкой комендатуре.
Анну колотило. Странно у ней веки дергались. Ей хотелось плакать от бессилия. Но слез тоже не осталось – верно, уже дочиста все выплакала. И сейчас она, вышагивая пока вровень со всеми выселенцами, также немощными, негодящимися ныне ходоками, хоть и еле поспевая в шаг, в заскорузлых валенках, лишь только видела перед собой, что змейками пуржило встречь синюю поземку, ощутимую, почти одушевленную; в поземке этой вопреки всему воинственно жила вовек неугомонная и какая-то холодная, тонкая, обжигающая сейчас песнь, не иначе. Такой явственно-отчетливой и стройной песнь как бы калилась в Аннином сознании, преследовала неотступно, с каждым новым трудным шагом. Боже, думала, отчаивалась Анна (но не за себя – за маленьких отчаивалась), ведь вконец все рушилось. Самое последнее, что еще хоть сколько-нибудь помогало ей надеяться на что-то и могло в конце-концов спасти. Верней, рушилось, поправилась она по ходу сбивчивых отныне мыслей, для невинных детушек, гонимых так же, как и все уцелевшие на сегодняшний позорный час односельчане, вражьими, жестоко-въедливыми – как точащая здоровье ржа – солдатами, пропахшими насквозь окопным потом и коростой. Теми, кто вначале-то готовился в прогулочном почти порядке все пройти у нас и только руки протянуть и все загрести себе, а население, живущее вокруг, ликвидировать. Перебабахать.
Да, живые люди береглись (и волоклись) под дулами устрашающе косящих автоматов, с чем ведь развлекались до самозабвения вовсю развоевавшиеся отборные и сильные, и смелые собой да презренно жалкие немецкие солдаты; не могли они, захватчики, все наиграться, понатешиться – уж столько слепо, дико сгубленных лет подряд – и еще окрикивали подневольных несуразно, даже нервно:
– Рус, schnell! Schnell! Schnell! Пошёль! – Что свидетельствовало очень превосходным образом о критической натянутости их хорошего немецкого терпения, которое же просто лопалось, едва только где-то пахло чужой кровью человеческой, свежей кровью, должною быть пролитой.
Это надо бы давно всем-всем везде понять – и безропотно повиноваться вмиг, без оглядки. Они уже были так науськаны, натасканы, настроены, были рады, счастливы выполнить любой уничтожительный приказ; и, безусловно, нечего с них, безмозглых сошек, взять и спрашивать еще с большим пристрастием.
Вот какое лихо, времечко какое подступило! Думал ли об этом когда кто-нибудь? Никто.
Все быстрей-быстрей куда-то им давай, катись в преисподнюю. Не то, видишь ли, из-за мелочной возни с тобой, пока ты жив, не навернулся, рисковали они попросту опоздать и упустить свое кровное, обещанное и положенное им вполне законно и заслуженно за их тяжкие солдатские труды, возмочь которые не каждому дано, отнюдь. Или уже, может, их могучая военная империя крушилась, буксовала вхолостую? Ибо все глупей, неразумней суетились отчего-то эти подгонялы пришлые, безликие, многоопытные старые вояки, уже потускневшие заметно, словно котелки походные, нечищеные, и вояки молодые, еще зыркоглазые, до всего голодные, – с заученной готовностью травить, давить, стрелять. Что, действительно, взять с них, истуканов? Шиш?
Они упивались тем, что могли обращаться и обращались худо, бесчеловечно с беспонятливыми существами русскими, будь то военнопленные или цивильные, взрослые или малые и что привычно пинали людей также необычайно уместным по назначению словечком «Schnell», наравне, разумеется, с незаменимым – с железной хваткой – словом «Kaput», совершенно не нуждавшимся нигде в переводе и повторе. Упивались вслед за славным, громкими военными делами, которые вели весьма производительно. На все глаза. Производительней кого-нибудь. Много ими было наворочено без удержу, без роздыху, при содействии и поощрении верховном, мракобесном. На весь мир людской. Чистить – не отчиститься вовек.
Но ведь сколько лиходеи ни долбали, и окрик лишь сильней ожесточал гонимых – слух раз и навсегда отказывался это принимать и послушно привыкать к повиновению.
В оборонительной, навязанной немецкими фашистами Советскому Союзу войне, правила нашим народом истина великая, неистребимая, незагасимая ничем, никакой усиленной репрессией с оглушительными подзатыльниками; как и в период любого европейского нашествия на Русь, стержень этой истины тем больше распрямлялся, чем большее давление оказывал на наш народ агрессор, потерявший уже всякий предел жестокости своей.
– Ой-ей-ей! Где-то недалеченько, должно, загрузли наши воины-спасители – не дошли до нас, нам не аукают…
Никто даже не поддакнул Анне. Всех захолодило, сжало.
II
В сердце впечатлительно-беспокойной и хлопотливой Анны (если бы еще, конечно, дети не связывали ее по рукам), без затишья на какой-нибудь момент, все истерзалось, изболелось острой, неостудимой болью с тех пор как настал тот мутный день 14-го октября, Покров, когда сюда валом хлынули-нахлынули эти незваные наглые и отупелые серо-зеленые шинели и мундиры.
Анна со своими шла среди своих. А пурга, не отставая, пела между тем, сквозящая. Рядком.
Вдруг Анна резко вздрогнула: безжалостней пронзил метельный вой, вернув ее к сегодняшним губительным событиям. Он, к несчастью, нисколько не стихал – взлетал, кружа, набегами; травил, бесчувственный, вконец затравленную душу.
Колючий мелкий снег заносил колесно-шинные и прочие дорожные следы. И легко, играючи метель перехлестывала струйками и ровняла высокие, в рост, слежавшиеся валы снега – из снеговых брусков, сложенных для прикрытия с обеих сторон дороги. Изощренные оккупанты заставляли ежедневно местных жителей расчищать все дороги от заносов – старались держать в наилучшем состоянии эти особые артерии для быстрейшего перемещения своих войск внутри больного, завоевываемого ими государства.
– Мамочка, ты боишься, да? – пролепетала Верочка участливо.
– Что, дочур?
– Да ты ведь дрожишь. Как и я дрожу. Вся-вся-вся.
– Держись крепче, ласточка, чтоб не потеряться нам в этих муках.
– Тоже я боюсь. И держусь что есть мочи за тебя – не отпускаю. Видишь?
– Ну и ладно, ладно, ангел мой, что так с тобой идем. Не бойся: я тебя не брошу.
– И я тебя – тоже. Правда-правда!
– Верю, доченька. Все, договорились. Хорошо.
– А куда нас, мамочка, ведут? – продолжала Верочка, захлебываясь ветром.
– Они говорят: в саму Германию, дочур.
– Что, туда, откуда немцы накатились к нам?
– Да, туда, туда, моя касаточка. Иди, иди, не путайся. Смотри себе под ноги.
– А Германия – далеко? Да?
– Небось, идти нам – не дойти. И не видать.
– Мамочка, я не хочу в Германию. Ну ни за что! Одни фашисты там. И немцы. Не могу терпеть их. Их и старосту еще. Предателя.
– Ну, вольному – воля, доченька, – заметил кто-то позади с горькою усмешкою.
– А давай мы, мам, убежим, взовьемся и убежим, – говорила мечтательно Вера. – Тихо, тихо, и никто из немцев не увидит нас. Увидишь…
– Верушка, уймись с языком, – вроде б спохватилась Анна. – Мы так пропадем – собьемся с шага. Помолчи маленько. – Она думала.
Анна знала теперь главное – что был предел всему; с автоматом не поспоришь – будет поздно, крышка. Вовсе ж не случайно бледнолицые гонители, касаясь существа затеянного ими выселения и, наверное, сочтя нелишне всех оповестить, с пугающей деловитостью предупредили сегодня жителей, что они немедля расстреляют тех, кто станет отставать или, чего доброго, вздумает бежать; точно той же карой они и пригрозили в случае, если бы кто попытался уклониться от выселения; они вовсе не шутили, не пугали никого, а говорили все, как есть, обольщаясь беспредельной властью над живущими – единственно по своему умиротворению. Все-таки пока они, гонители, заказывали музыку, – помнила она, старалась помнить – для себя. Чтоб не подкачать. И она заклинала себя поберечься, хоть немного, чтоб не отставать от всех. Теперь это, разумеется, заботило ее. Начинало доходить до ее сознания со всей суровой очевидностью. И жизненной необходимостью.
А в воспаленных бессонницей глазах Анны возникала, словно в знакомом обморочно-тянучем тифу, возникала и строилась, подгоняя ее, однако, само собою, какая-то нереально безобразная чушь: это темно мерцавшее в ходьбе колыханье верениц согбенных спин, и ей, ясно слышавшей и спереди, и сзади очень напряженный, словно похоронный, скрипучий людской марш с участием посерьезневших даже младенцев, временами чудилось, что все это мерзкое творилось будто бы не с нею, а с кем-то еще, а она лишь чувствовала и свидетельствовала все в такой реальной степени – до убедительнейшей живости. И причиной этого, по-видимому, были ее повышенная впечатлительность и обеспокоенность. Но потому как чей-то грубовато желчный и одновременно вкрадчивый голос, выделяясь из сонма гудевших где-то в пространстве голосов, поминутно издевательски куражился над ней – встревал, перебивая ее, всех, и иронизировал над ней по-идиотски, – можно было твердо заключить, сказать себе: «А, пожалуй, это въявь нас, как бычков в заклание, ведут…»
Анну занимало, развлекая даже, пение пурги и то, что под это бесконечное пение она думала, а также голоса, раздававшиеся в голове у нее.
Кто-то все наговаривал ей вкрадчиво: «Уж ты, Макаровна, как ни привязывай на санках ради лишней подстраховки свою Танечку малую, только в холодину все-таки и можешь не сберечь ее; этакую прорву ребятишек для чего-то (на мученье?) нарожала, дура чистая, набитая, необразованная, – не предвидела, безумная, что заново дойдет издалека и засмердит зловеще зловоние всепожирающей войны; вот уже оторван от тебя и всех родных – чередом за мужем – и курчавый старший сын Валерий, вдогонку которого ты еще напутствуешь самыми нежнейшими и нужными, еще недосказанными словами материнскими, дабы он услышал их. Или говорят фартоватые немецкие начальники, гоня тебя на сладкие германские хлеба, ненасытная твоя утроба…» То в уме ее выплескивалось как-то наобум еще, вполне вероятно, оттого, что там досконально все перекипело под влиянием умопомрачающих событий, одним махом опрокинувших весь свет, и что она, искательно сейчас философствуя сама с собой (навыкла больше под бомбежками-обстрелами), вела еще какую-то вторую – созерцательную – жизнь, то есть смотрела на самое себя и на птенцов своих, и на всех-то окружающих, словно бы со стороны сверху. Но тут выделялся вроде б силинский голос – по-прежнему еще звенел злобой, налитый, бессовестный, иудин. И как будто и сам Силин, краснорожий пес с клюквенными глазками, дрыгался и лыбился перед нею. И поэтому прояснялось нечто для нее, обретало контуры действительности, той, в которой люди шествовали подневольно, не сами по себе.