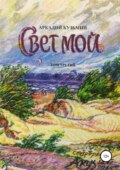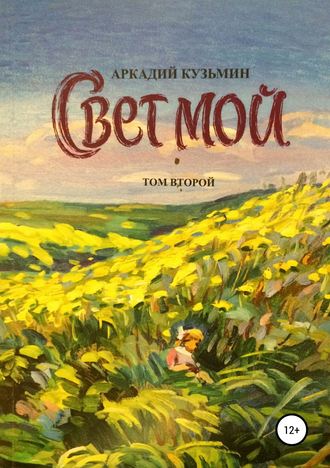
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 2
Треволнений не было. Им все понравилось. И так продолжалось сколько-то дней.
IX
Довольные Ефим и Настя, выкупавшись и пообедав, и спасаясь от зноя, только что вернулись в прохладную комнату Гитиных и прилегли (он – на скрипучую раскладушку, а она – на высокую старомодную кровать), и взялись за недочитанные книги, как в белокрашенную дверь кто-то постучал. Настя досадливо, прикрывшись простынью, чертыхнулась:
– Господи, опять начинается!… Устала я от них! Да, войдите!
Поскребшись плечом о дверной косяк и качнувшись, вшагнул за порог Илья Игнатьевич, хозяин, гулявший эти выходные дни и посему не знавший, куда же ему деть столько свободного времени, – ведь кроме коллекционирования дефицитных художественных изданий он больше и ничем особенным не занимался дома: потерял к этому вкус. Лишь систематически возился с ловкостью заправского повара у кирпичной плиты во времянке (был им в прошлом) – готовил какое-нибудь кушанье.
По обыкновению он был раздет до пояса, – торс поджарый, мускулистый, загорелый до черноты; с красным скуластым лицом и отяжелевшими веками, он заискивающе улыбался, поскольку столь нетвердо держался на ногах. И сразу же, прямо у порога, опустился на табуретку, чтобы не упасть, – от греха подальше. А затем уж, виновато осклабившись, попросил:
– Можно мне поскучать вместе с вами? – И тяжело прикрыл глаза.
– Извольте, Илья Игнатьевич! – садясь на раскладушке, сказал Ефим с каким-то готовым вызовом, так как и Настя взглядом молила его: займись им, пожалуйста!
– Сегодня Катя собрала монатки и ушла куда-то. – Илья Игнатьевич поднял свои густоресничные веки. – Насовсем, кажись.
Шестнадцатилетняя Катя, его дочь, стала неуправляемо-капризной, вспыльчивой, что порох; она надрывно, с явным драматизмом, плача, носилась туда-сюда по дому и в окрестностях, точно забывая без конца по пути что-то очень важное. Моментально, влетая в комнату, перерывала весь комод или шкаф: искала что-нибудь потерянное, так необходимое ей, – то паспорт, то справку о прохождении производственной практики, то авторучку, то учебник какой-нибудь; доставала, чтобы тут же надеть на себя кое-как, впопыхах, лучшее платье или кофту, хоть и мамину – неважно. При этом истерично, не стесняясь никого, всхлипывала, страшно обиженная на свою судьбу, – что ей приходилось-таки еще учиться в школе, заканчивать десятый класс. Странноватые, необъяснимые поступки! Из-за чего и ее родителей нынче немало лихорадило – настолько, что те и не пытались утаивать такое неблагополучие, происходящее с их дочерью, от нежелательного постороннего глаза. Напротив, они словно преохотно делились этим бедствием со всеми: дескать, полюбуйтесь на сии капризы, перед которыми мы бессильны; мы-то абсолютно ничего от вас не скрываем, не намерены скрывать: что есть, то есть на самом деле.
– Вот характерец! – заудивлялась Настя, выпрямившись на подушке. – Ей бы парнем быть! А какому ковбою она, такая сумасшедшая, нужна? Никуда-то она не денется, попомните, Илья Игнатьевич. И Вы не расстраивайтесь понапрасну…
– А я спокоен. Совершенно! – И уже поразилась Настя его удивительному откровению в спокойствии, глядя на него, иронически улыбнулась:
– Что же, у нее завелся кто-то? Дружит с кем-то?
– Да имеется тут один, не без этого, – проговорил Илья Игнатьевич.
– Это кто же?
– Зимин, сынок тех, чей дом на горе.
– Боже! Да я видела его. В рубашечке пестрой? Простецкий?..
– Во, во!
– Да парень-то, видела, совсем еще мальчишечка глупый, серенький; только еще лохмы отрастил, как большой, и всего-то в нем мужского. И даже он росточком пониже ее. Что она – безглазая? Ей надо же мужчину, чтоб она по нем перестрадала вся, перегорела вся, а это ведь ничто для нее ровным счетом. Так ведь?
– Как-то Катя не ночевала дома, – сказал Илья Игнатьевич. – Я пошел к Коле. Утром. Вхожу к нему на кухню, а он сидит за столом и лопает картошку со сковородки. Сам, верно, жидок, а лопает, что бугай. Аж вспотел. «А Катя где?» – спросил я строго. «Не знаю», – ответил он. «Но она же с тобой была иль ты запамятовал ненароком?» «Была», – промямлил он. «Так где же она?» – «Не знаю. Я пошел домой, а Катя осталась там, в парке»… – «Вот ты уминаешь тут жратву, а она сидит там, голодная. Так у тебя-то, вертихвост безжалостный, совесть есть?» – «А я, дядя Илья, не просил, чтобы она приходила туда», – промямлил он свое. Нечего спросить с идиота этого. Только бы она не принесла кого в подоле… нам, родителям… матери…
– Нет, прежде всего, она себе принесет, – убежденно говорила Настя. – И, может, это ее научит чему-нибудь. Мне Риту, как мать, жалко. Ей тяжелей всего. Послушаешь – она с Катей разговаривает каждый раз как с подружкой – несолидно; сейчас они поссорятся между собой – сейчас же и помирятся; Рита чересчур отходчива, и Кате это только на руку: сполна она пользуется этим.
– Да, и Рите разок попало от меня за такое-то отношение, – признал Илья Игнатьевич. – Бил я Катю за вранье, так Рита дочку пожалела – стала защищать ее. Но той и битье уже ничуточки не помогает, ой!
Внезапно в комнату вошла также и черноволосая заплаканная Рита в пестреньком халате. Она присела на стул, запричитала со всхлипом:
– Катя школу совсем бросила, мне сказали. Взяла паспорт и сбежала куда-то в Ялту.
– Послушайте, Рита, да никуда она не денется, – зауспокаивала теперь Настя и ее, Риту. – Покрутится, покрутится – и вернется! Увидите…
С отчаянием Рита винила во всем беззаботность, недогляд мужа. Он пришел со стройки домой – поел, попил-напился, и все тут его домашние заботы; все заботное лежит на ней, как хозяйки очага, хотя она также на службе – работает в санатории не меньше его…
Ефим, ровно истукан, не мог сейчас ни посоветовать, ни вмешаться никак (что прежде он любил) в процесс выяснения дальнейших действий родительских – он испытывал неловкость оттого, что лишь сочувствовал всем персонам случившейся драмы семейной.
Казалось, что Гитины теперь как-то искусственно создавали проблему, в существовании которой почему-то хотели уверить всех, жалуясь на нечто неподвластное им. И вот пока они, супруги, незаглазно препирались, сюда вдруг вихрем вомчалась, объявившись, сама виновница семейного переполоха. Она, угловатая, резкая, не проронив ни слова, со злостью зашвырнула в ящик комода какие-то бумаги, с треском задвинула опять ящик на место. И ее родители даже не успели рта открыть, чтобы подступиться к ней с вопросом, как она взорвалась, что заведенная фурия:
– Надоели вы все мне! Надоели! О-о! – И ударила дверью. Застучала каблучками туфель, сбегая по ступенькам крыльца.
Все молчали подавленно. Рита вздохнула лишь обреченно. А Настя подумала про себя некстати: «Вот и перебрались мы от нерадивых хозяюшек»…
Как-то Ефим, сидя на институтской лекции, задумался о чем-то. Малорослая педагогиня со старой закваской, влюбленная в поэзию, увидав такое, затопала ногами и закричала на него, взрослого, так, что он в первый миг ничего не мог понять. Что: его непослушание взбесило ее? Неощущаемость времени – того, что все уже иные – выросли?
О чем же пустяшном тогда Ефим задумался?
Сейчас-то он понимал: вместо топанья и крика целесообразней решить, что делать дальше им двоим – ему и Насте.
X
Опять жара доставала. Во дворе, как веял ветерок, играя листочками, шевелились фиолетовые тени под кронами черешни и абрикосов, болтались между их стволов на проводах яркие полотенца и купальники.
Ефим засел на мягкий побуревший диван, под навес времянки, и, пока Настя внутри ее дремала, хаотично зарисовывал всякую всячину.
Воробьи с истошным чириканьем возились в ветвях и на замшелой черепичной крыше, наскакивая друг на дружку, и на земле, купались в пыли; они чирикали не однообразно, а словно как «вопрос-ответ», и то торопливо, то размеренно. А, взлетая, с такой силой отталкивались от сетки ограждений и проводов, что покачивало их. Здесь у них была явно игровая площадка. Шумливей же всех вели себя взрослые птенцы, взъерошенные, пищащие, скачущие повсеместно. Машущие крыльями; они требовали еду от воробьихи: раскрывали рты и обступали ее со всех сторон, не давая ей проходу. И были не такие уж пугливые (когда вся стая взлетала на кусты, они еще вольно прыгали по дорожкам).
Вообще все воробьи были задиристо-наглы – пытались что-нибудь ухватить из миски собачьей и склевать – под самым носом Марсика, маленькой белой, с черными пятнами, собачки, спрятавшейся сейчас где-то под крыльцом. Либо пытались они вселиться в ласточкино гнездо. Но ласточки, летавшие парами, вереща и влетая под карниз дома, под которым они налепили гнезда, с лету атаковывали непрошенных гостей и отваживали их.
Марсик, песик умный и обидчивый, забавный, с согнуто висящими ушами, потешно – по лисьи – всегда засматривал всем в глаза, повиливая хвостом. Ластился. И чесался. Ложился на спину, подняв лапки кверху: значит, давай почеши. Без толку он не лаял. Лишь лаял на незнакомых, на бегущего ввечеру ежа, на кота приблудного, на тетю неприятную.
В соседнем дворе, за малинником, слышен был увлеченный женский переговор, связанный с шитьем.
– Что ж, начали кройку?
– Вот глаз – ватерпас!
– Кто смел, тот и съел.
– Ну, ткань-то простая?
– Лен такой. Не гладится. Нет, ткань не простая; вот я постирала – и мне кажется: она полиняла.
– Да, вроде бы выцвела немножко.
– На однотонной все карманы, все швы очень заметны будут. Вот так пришьется. Машинка сделает петли. Отстегнул погон – и гладь. Будем, будем так делать, ты не волнуйся; на твоей машинке хорошо сделаю, поверь.
– Моя машинка погано делает.
– Не сделает погано, ручаюсь.
– А на этой машинке тоже петли можно?
– Можно. На моей машинке – только настроила, включила, она – ды-ды-ды-ды-ды – все пробила, прорезала.
– Этому материалу сносу не было.
– Он стоил какие-то рубли…
– Да. И рубашки мужчинам шили…
– Вот пришиваем до конца встык… Воротник будет вшивной. Сейчас посмотрим, как будет… Вера, у нас халат будет длинный. Сейчас кажу, на сколько он прибавится; пять сантиметров сюда, пять туда добавятся.
– Ага.
– Вот семьдесят пять… Видишь: какой?
– Это нормально.
– Если не будет отделки…
– Ну, с отделкой было бы лучше. Подождем тогда.
– Итак: одна, вторая, третья, четвертая… А это будет карман.
– Ну и все.
– Если поднажмешь… Зачем воротник? Надо рюшечку сделать… Чуть-чуть закруглить… Ура: получается! Что и требовалось доказать…
– Ну, все размечено. Давай и сделаем.
– Будем смотреть…
– С того конца нельзя вырезать. Где же нам взять?
– Потом разметим. Зелень должна быть с краю. Перед нельзя вырезать. Зад – тоже.
– Красивый будет халат. А папаня говорит: длинный не надо.
– Кляп с ним, с его указами! Мужья у нас – отставники. У меня мой суженый что есть, что нет – не сказывается; он-то может от голода умереть, хотя в холодильнике всегда полно еды. Ну, молодость не без глупости, старость не без дурости. Нет обязанности. Сын Виктор что мне говорит: «Вышел на двести метров за гарнизон – уже холостой».
– Ну, примерно так. Не успеют появиться здесь новички девицы, как угоднички уже лапают. По пляжу гуляют на разведке – отмечают: если она загорелая – отпадает: она уже давно пасется тут; если светленькая еще – годится: только что приехала; если неровно загорела – не годится: местная.
– Тетя, смотри! Смотри! – вскричала вышедшая за калитку у крыльца девочка-вьюнок Вика. – Марсик, делай, как следует! Тетя Рита, и ты смотри, как я его дрессирую. Марсик! Марсик! Нет, не слушается. – Она бросала наземь кусочки колбасы и смеялась: набежавшие желтые утята проворно кидались и схватывали их, а дворняжка медлила. Один утенок в схватке упал на спину и болтал лапками в воздухе – не мог перевернуться на живот. И тогда Рита подошла к нему и ногой перевернула его.
Утка-мать сама ничего не старалась съесть от утят.
– Драмаед ты! Я ж тебе бросаю, Марсик! – говорила Вика.
– Не драмаед, а дармаед, – поправила ее тетя Рита.
– Нет, драмаед! Дурак!
– Как она говорит!
– Драмаед! Драмаед!
– О, как вы шумите! – Выглянула за дверь бабка Варя в очках, держа перед собой журнал в руках. – Вот отошлю вас в Штильное.
– Ах, Штильное, Штильное! – запрыгала девочка. – Там коровки и лошадки есть!
– Позвольте… – подошел к крыльцу Ефим. – Штильное находится западнее Евпатории? Отсюда добраться сложно?
– Ой, проще пареной репы. У меня там сестра двоюродная живет.
– Меня попросили туда заехать… Там что… Можно отдохнуть?
– Богатое, чудное село. На самом берегу. Все есть. Вам понравится. Поезжайте. Я дам адрес. Привет передадите.
XI
Ефим определялся сам с собой: стоит ли теперь заглянуть и туда, в Штильное? Ведь сама Ниннель Никандровна, царственная и великодушная историчка, давняя подруга его тети, уважительно попросила его взглянуть компетентно, способный ли тамошний юноша (о нем написали ей) к тому, чтобы художничать и посвятить себя этому? И что Ефима окончательно сподвигло к решению пуститься по воле волн, он сам не знал и уже не слышал внутреннего голоса ни за, ни против. Он не копался в себе, не доискивался до тайных причин; но втайне предполагал, что это может понравиться Насте, ставшей, видимо, для него мотором перемен. Что ж, назвался груздем – полезай в кузов. Верно. И причем он и сам уже завелся, ровно малый: «И лошадок, может, порисую»…
И когда он позвал Настю поехать на недельку в Штильное, и она с радостью согласилась, сегодняшний день для него уже был в прошлом – он распрощался с ним, перелистнул его страничку.
Признаться, Ефим не жаждал заниматься дешевым благотворительством, каковое он и не мог дать никому (при своей шаткости, неуверенности в завтрашнем дне); что-то претило ему раскрывать внутренние объятия кому-то и проявлять радушие чему-то незнаемому, а познать что-то таковое он не спешил.
Уже было, было, что Ефим благотворительствовал – учил ребят рисовать в некой малочисленной студии, откуда один ученик-ремесленник, начинающий художник, как мнил себя, неожиданно, раз и другой наезжал к нему с показом своих работ. В этом провинциальном юноше странно уживалась робость и упорное непонимание чего-то важного для наполнения творческого поиска, не было готовности к цельной для этого работе. Он хотел учиться на художника, но для этого у него, по мнению Ефима, не было данных; их нужно было отчаянно развивать, для чего много, серьезно работать над собой, а не быть просто убежденным человеком, непонимающим всей правды жестокости искусства, мстящего мастеру за незнание его истоков. Нельзя желать жизни за счет искусства, не создавая ничего значительного, заниматься лишь упрощенчеством. Ефим ревновал к нему профанов, испытывал к ним враждебность. Может быть, потому, что сам познал многие несправедливости: одни – в период эвакуации ребенком в сорок первом году, а другие – в послеодесский период, когда расстался с юностью, с матерью и со старшей сестрой.
И познания действительности не было утешением, требовало стойких усилий и убеждений. Кому что дано.
Ввечеру, у моря, пляжные знакомые словно оживлением и малозначащими словами заполняли образовавшуюся пустоту перед тем, как распрощаться. Надя, журча голоском, успела похвастаться всем, как она теперь научилась кормить козочек. И теперь совсем-совсем это не страшно. Татьяна Васильевна успела рассказать Насте что-то забавное, а также недостойное из опыта школьного, о нелепой смерти мужа при пожаре на даче. А успешный в делах Константин был убежден, что на него обычно накатывают, как заклятие (так и жди), три происшествия в связке. В июне, например, он угодил на трехколесном мотоцикле в придорожную грязную канаву – пожалел кошку, перебегавшую перед ним дорогу; пока пыжился-натуживался, вытаскивая коляску, повредил позвоночник, да и нашел в грязюге, среди сине светившихся незабудок, дорогущие наручные часы, кем-то оброненные здесь. Видимо, он не первым «гостил» в этом кювете.
Бронзовело небо и море в лучах опускавшегося солнца.
XII
И все опять устроилось по-южному сходным образом.
Днем поезд ввез Настю и Ефима в Евпаторию (неуютно-пыльный, показалось, город кипел многолюдьем, детьми), а отсюда они покатили, обгоняя посевные зеленые поляны к Западу, в сторону поселка Штильное – в пикапе «Госсевинспекции». Благожелательно-словоохотливый шофер Никанор, взявший их подвезти, ехал как раз сюда по приказу своего шефа – для того, чтобы договориться о возможности ремонта этой поизносившейся до дырок беговушки: местные были хорошие мастера-ремонтники; ехать же с этим делом в даль дальнюю – на Ижевский завод – было бы сверхубыточно. Зачем переплачивать зря?
Затем Никанор приподнято-радосто сообщил о том, что на-днях его породистая сука-дог, имеющая родословную и взятая в свое время дочкой из клуба собаководства, ощенилась: она принесла восьмерых щенят – совсем-совсем маленьких. Щеняткам постлали помягче подстилку под кроватью. Одного щенка – решено – обязательно подарят приятелю: тот охотник. И у него погибла чудесная собака. И то, что дальше Никанор еще наговорил, пока ехали, много лестного о тамошних жителях и умельцах, о завале всех продуктов животноводства – молока, сливок, сметаны, мяса, яичек – не знают, куда все деть, и стоит все это копейки, и то, что он подвез Настю и Ефима прямо по предложенному им самим адресу, но оказалось, что как раз по нужному адресу, названному скаредной севастопольчанкой, – все это совершенно обнадежило их. Им было очень интересно побывать в сельской местности на просторах полей, на которых Настя и загадала погулять – может быть, в вечерние часы, когда спадет жара.
Вообщем, все предполагало узнать здесь что-то новое. Неожиданное.
Вечерело.
Ефима и Настю определила хозяйка Шарых за умеренную плату в первую южную комнату большого дома. Крупная, с царственной осанкой Полина, имевшая сына-юношу и дочь подростка, умевшая властвовать, командовала в доме. Домашними заботами не утруждал себя хозяин Михаил Михайлович, туз, фигура мощная, – даже не вникал в такие мелочи: ему хватало больших совхозных дел, поскольку он замещал директора.
Мать Полины, кареглазая, с внешностью гречанки Анфиса Юрьевна, без малого семидесятилетняя женщина, в белом платочке и пестросиреневом платье, тяжело свесив крупные руки с отполированной временем кожей, прошла из огорода мимо крыльца:
– Калитку открою. Сейчас же Краснулька, корова, придет. Время, значит.
Открыла. И присела на боковую скамейку: теперь можно и вздохнуть спокойно – ее большой трудовой день, начавшийся, считай, с зарей, почти окончился. Она вздохнула про себя.
– Вы не встречаете буренку в поле? – спросил удивленно Ефим. – Никуда она не забредет?
– Нехай! – Махнула Анфиса Юрьевна рукой. – Говорила же я Вере, внучке; она заартачилась, не пошла. Характерец – о-о, какой! Что у папочки. Папочкина дочка. (Точно: одиннадцатилетняя Вера не пила коровье молоко и поэтому скандалила оттого, что ее посылали за Краснулькой вечером. Она явно не собиралась по взрослении работать в совхозе, подобно и брату своему). А несутся коровы с пастбища домой, как настеганные, чтобы еще подкормиться повкуснее чем. И случается, что забредут куда-нибудь и потравят совхозный посев, что ж.
– И что?
– Оштрафуют, стало быть, законно.
У Краснульки, дававшей по три ведра молока, – она была из какой-то молоконосной породы, как и другие коровы, – кроме утренней и вечерней доек также и днем одно, надаивали ныне два; ныне она не стала отдавать молоко днем после того, как отелилась. Правда, по первости она сама еще приходила в обед и требовательно мычала перед калиткой: дескать, откройте – пришла покормить теленка. Тот сначала много молока пил. По-прежнему много пил его и школьник Слава, бабушкин внук, кого именно она, Анфиса, вынянчила и любила больше всех – за его ласковость к ней: приложится он – и сразу почти пуста трехлитровая банка. Собственно, только ради поправки его здоровья и завели в свое время корову и пчел – он через молоко и мед выходился, перестал быть хворым. И чем только он в малолетстве ни болел. А теперь стал богатырем, красавцем.
Из дома выполз заспанный голотелый (лишь в трусах полосатых) полнобрюхий и краснолицый Михаил, зять ее, подсел на скамейку, а за ним – и темноволосая Полина, говоря:
– Ага, вот и Краснулька идет.
В калитку ступила как раз с улицы, цокая копытами, пятнистая корова и тут же остановилась в нерешительности. И Полина уже взорвалась:
– Михаил, уйди! Видишь: она боится тебя!
Тот, послушно встав, посторонился в огород, и Краснулька спокойно прошла к сараю.
– Это она и впрямь боится меня – не знает, верно, до сих пор, что я хозяин дома, – пошутил Михаил. – Вот мне коровья благодарность за корм, что я ей достаю, гроблю свое здоровье на водке из-за этого, а она… Надо ж пить… Кто же мне его даст без этого?
– Да, она к иным мужчинам не очень хорошо относится, – подтвердила жена. – Особенно к таким водкохлебам. Когда же вы уйметесь только?
– Так с чего ж, говорю, и натуживаюсь я …
Никто не поддержал его шутейного настроения.
Анфиса Юрьевна молча, будто с презрением, слушала эти никчемушные препирательства зятя с дочерью и неулыбчивыми зрячими темно-карими, как камушки-окатышки, глазами глядела неведомо куда в пространство.
А оттуда выкатился, как угорелый, ступив за калитку, чернявый и потерто-комичный Иван Иванович, совхозный шофер, и сообщил с лихой веселостью:
– Слышь, Миша, Полина! У меня сегодня трагедия. Во-первых, бык подох; во-вторых, свинья заболела; в-третьих, жена из дома выгоняет за … распутство; в-четвертых, директор с машины-молоковоза снимает напрочь, лишает хорошего места. Тошнота одна и только.
XIII
Жизнь у Анфисы спервоначала выдалась мачехой.
Девятилетней она, как и старший брат Саня и младшая сестренка Тося, лишились матери, скончавшейся скоропостижно. И женившийся вскоре вторично отец определил их на собственный прокорм – отдал в батрачество местному помещику, владевшему двухстами десятинами земли и державшему большой скотный двор, полный домашних животных и всяческой птицы. Разновозрастные батраки у помещика кормились совместно за общим столом. У каждого работника спрашивали, кто что будет есть; обеденный стол заставляли всякими яствами – всем, что было съестного в доме; бабка ходила вокруг стола и всем наливала, подливала и подкладывала еду из отдельных сосудов (а сама потом уже обедала). Объедки и остатки сливались скотине.
Надеть и обуть в то время было нечего. Зимой, бывало, обматывали ноги тряпками и в тряпках ходили за водой. Анфиса в десять лет таскала (шутка ли!) по два тяжеленных ведра с водой. Хозяин иногда перед уборкой хоромов и мытьем полов разбрасывал монетки – для проверки честности наемщиков. Если монетки находили и не присваивали, а выкладывали куда-нибудь на видное место, то таких работников не рассчитывали раньше оговоренного срока (сезона); в противном же случае человеку говорили: «Знаете, мы отказываемся от ваших услуг». Зато и за работу спрашивали строго – всем доставалось дел.
Анфиса пробатрачила до пятнадцати лет.
Она осталась навек неверующей. Бога не было для нее, коли они, дети, сызмальства так мучались, беззащитные, в помещичье-монархической стране, где богатели в удали лишь богатые, трясли своими мошнами. На зависть и нынешним копировщикам того образа жизни, воспевалам того недооцененного и невинно погубленного строя. Всю жизнь она, Анфиса, через это переживала за всех меньших детей, если их кто-то обижал. Но и после революции и своего замужества она воспитывала своих детей в терпении, в послушании: «Ты – меньшая: терпи»! Вот отсвет!
И еще нестерпимое лихо военное, обрушившееся многолетним насилием орд немецких, легко прошмыгнувших степной Крым и выплеснувших желчь на наших просторах, и их охочих прислужников, прихлебателей-захребетников, – и как только все вынесли те, кто выжил-таки, не сдался, на кого все обрушилось! Небывалое!
Тогда трехдетная семья Анфисы жила в Долинном, в десятке километрах от Евпатории. Мужа Егора мобилизовали на фронт сразу же. И когда пришли немцы, в селе стали опять появляться некоторые мужики-призывники, якобы отпущенные из плена. Анфиса, не выдержав, заспешила, чтобы свежих вестей поспрошать, к односельчанину Рябенькому Харитону, счастливчику, только что вернувшемуся домой невредимым из окопов, закончившему так быстро (не успел стрельнуть) свою войну.
– Харитон, скажи мне, разве война уже закончилась или что, если отпускают фронтовиков? – спросила она в кухне Рябеньких, робея перед могущими быть невиданными обстоятельствами, обеспокоенная за судьбу всех поселян не только в округе, но и дальше, дальше, в предстоящие дни и ночи. Ее-то справедливый, закаленный Егорушка во всем поступал с верою-правдою и служил Отечеству сполна и исправно; он не мог быть отступником, предателем.
– Или что, – недобро ухмыльнулся военнообязанный бугай, попавший сызнова под крылышко жены. Плотно рассевшись за столом и трапезничая, он стал откровенно исповедоваться перед Анфисой, недотепой, дрожавшей от негодования, непонимания и несправедливости. – Меня размобилизовали быстро… Эва, буду я воевать тебе! Да зачем же тетя Фиса?! Очнись! Нас, таких, как я, сдавшихся немцу в плен, германцы выстроили длиннющей шеренгой, кое-кого прикончили, потом дали всем в руки по буханке целой хлеба, по куску сала – во-о! – с мой кулак величиной. И – адью! Покедова! – отпустили по хатам… Чуешь! Жить-то можно… Больно не тушуйся зря… Но дальше будут сухи орехи – если не одумается твой Егор и не вернется…
У Анфисы ум за разум зашел. Затаился в закутке за шмат сала мужик? Удовольствовался тем? Перестал защищать нас, безоружных – и рад-радешенек тому?! Так, что же, теперь Егорушке нужно воевать и за этих троих сельчан, дезертиров, уклонившихся от жребия защитников? Да и прежде он слыл вихлявым малым. Так и впечатлился ей Харитон с этим прижатым к груди спасительным куском сала, когда она вспоминала о разговоре с ним.
Своего Егора она уже не дождалась никогда.
Оккупанствовали, лютуя, немцы наравне с румынами. Жителей вовсе не считали за людей: раздевались догола, ходили голые, купались в тазах, гоготали, – был период их эйфории от начальных побед над этой азиатской русской расой, с которой им позволено было делать все, что угодно; хотя румыны и меньше лютовали, но по цыганским привычкам тащили все, что видели перед собой и что руки могли взять. Проблем с этим у них не было. Вот они, понаехав с повозками, зашли в дом (а в нем две семьи родственные – женщины с детьми), повыгнали всех вон, на мороз. Взяли машинку швейную, подушки, свитера, кофты и еще кое-что, и ушли. У соседей тоже все позабирали, погрузили на подводу и уехали. Причем сказали молодухе: «Ты, жинка молчи, что сейчас я буду делать». Подходит к ней, хватает снизу за свитер, что на ней. Дети ревут. Она тоже обмерла. А это он свитер с нее стаскивает. Ну, стащил. Напялил на себя. Пошел себе дальше, бубня довольно себе под нос.
Причем то, что румыны по сути цыгане, один румын сам объяснил Анфисе. Как-то староста послал ее на лошади за сеном в стожок. Она поехала. Недалече было. Да увязался за нею румын какой-то. Тоже на лошади. Она тогда сбежала. Сказала старосте: «Не посылай меня больше за сеном – пускай мужики едут». И лошадь сам приведи – я бросила»… Прошло немного времени. Мужчин уже всех немцы позамели. И опять она поехала за сеном. И видит: опять вроде б тот румын ее преследует. Встала она на расстоянии от него. Пускай, думает, наберет сена и отъедет; тогда и она подъедет, накидает сена. Тот кричит ей: «Жинка, иди, бери; не бойся – я не румын, а серб». Она не тронулась с места, лишь подумала: «Знаем мы, какие вы сербы»… Тогда он подошел, взял и ее лошадь, сена нагрузил воз и подвез к ней. И рассказал, что он серб, но вышло так, что живет в Румынии и что все румыны, считай, цыгане. Даже соседи, бывает, своруют друг у друга поросенка, зажарят и угощают жаркоем друг друга. Или что-нибудь еще подобное.
У Анфисы лук был в углу – целый угол; набрала его, когда наши бойцы уходили, – с неубранного поля. Так немцы все луковые посылки в Германию посылали. Притом немец нагрузит луком посылку, сосчитает хозяйских детей: «Ein, zwai, drai» – и три кусочка сахару даст в награду детишкам. Очень мило. А все остальное они самолетами вывозили. Даже галечные пляжи. Как скворцы стаями тянулись эти самолеты над морем.
А однажды по вечерне, слышат, румыны подъехали на подводах, а Ольга с матерью сидела под столом и при свете фонаря «летучая мышь» читали советскую газету с портретом Сталина (где-то они достали ее). Румыны застучали в дверь, но им не открыли; все затаились, как мыши. Те поехали дальше. Им открыла соседка – мать троих ребятишек; она обмерла, увидав румына с топором и ножом. А тот велел лишь воды вскипятить котел. Она успокоилась, когда румын подошел к повозке и отрубил там большой кусок мяса. Затопили печь, сварили мясо. Румынские солдаты сами поели, посадили за стол хозяйку с детьми и их накормили. И уехали. Никого не тронули.
В начале 1943 года Анфиса и соседка Нюша удумали по затишке сходить на рынок в Евпаторию за кое-какой нужной им мелочевкой. В оккупированном Крыму при различных расчетах в ходу были советские деньги. Население неохотно принимало оккупационные немецкие марки. Таких марок, однако, у Анфисы накопилось 60, поменьше – у Нюши. В Евпатории их, несколько баб, и сцапал немецкий патруль. Наши же – полицаи, ходившие под началом немца с бляхой полумесяцем на груди, привезли задержанных в комендатуру. Возле нее стоял с карабином (охранял ее) татарин. Сидевший за столом в комендатуре немецкий офицер с такой же бляхой на груди спросил по-немецки:
– Почему Вы ходите в городе без документов? – Переводчица это перевела.
– Староста сказал: местным никакие справки не нужны, – ответила, дрожа, Анфиса.
– А зачем вы пришли в город? – спросил въедливый немец.
– Чтоб купить крупу, маслица, нитки…
Офицер и востребовал выкуп: штраф по 300 рублей!
Анфиса, ахнув, но, сообразив, взмолилась:
– Ой, пан, отпустите меня на полчасика, пока Нюша побудет у вас; шестисот рублей у нас нету, а в Евпатории мой дядя, старик, живет; я вмиг добегу до него – и принесу вам денежки, поверьте, пан… – Нюша, ясно, завыла: она оставила дома троих малышек на пригляд старушки. Да и Полине Анфисиной было лишь шестнадцать… Взвоешь…
Ну, домчалась она, Анфиса, до дядиного дома; дядя Саня и его зять Мартын, возивший самого коменданта немецкого, дали ей рубли советские. Обругали: немцам же надо оплачивать службу полицаям; те и ловят глупошатаек, обирают, финансируются этак. И ведь часовой – татарин советовал им: лучше откупиться с миром. Не рисковать. Не то засадят в холодную на ночь, а наутро погонят на погрузку пляжного гравия в фуры. И уже вряд ли вернешься к семье… Пропадешь…