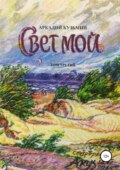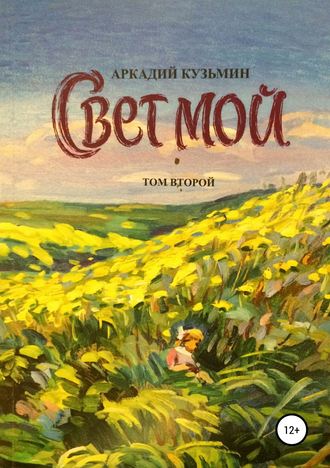
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 2
Племя чертово, губительное!
Здесь шутить гитлеровские солдаты были не намерены, отнюдь; из учтивых женских обольстителей они мигом превратились в отвратительных людей, кем им долженствовало быть по назначению и предписаниям и кем они были, в сущности. Или даже выше. Они не признавали в таких отношениях полутонов. Зачем? Им все позволено. И, бесновато вскрикивая и привычно обзывая свиньями пещерников, всех подряд, они под угрозой смерти начали обыскивать буквально всех – с тех, кто находился вблизи места, где скользнув, фантастически исчезла зажигалка, словно растворившись. Поднимали семьи, почти стаскивая с досок; перетряхивая вещи, тряпки, еловые лапки, служившие подстилкой, пропускали через все ощупывавшие руки и затем загоняли проверенных в один угол. Вон же никого не выпускали. Обыск продолжался больше часа. Бункер гудел растревоженно.
– Поджигалка ваша не нужна нам, что обшаривать нас с детками, камрад? – сказала Анна немцу, пропускавшему ее сквозь немытые свои грабли; сказала она, не смиряясь перед страшной нелогичностью и категоричностью в поступках громил, принесших несчастье людям. – Она завалилась где-то. Надо получше поискать. Что же мучить всех!
Анна, попав с семьей в немецкую оккупацию, уже преизбыточно узнала о способностях этих заграбастых рук убийц с именными для хвастливых западников колечками на пальцах: они привычно-деловито пуляли на нашей территории во всех и во все. Им лишь бы взять себе чужое, ничего не упустить.
Причем эти ворюги, колошматя наш народ ни за что, разыгрывали из себя невинно-оскорбленных воинов – только оттого, что кто-то еще смел сопротивляться их насилию. Неслыханно!
Он, каратель, бездушен, однолик. Он и в нынешние дни бесчинствует на континентах под гимн: «Разделяй и властвуй!» Пока правит вседозволенность для сильных мира сего, его покровителей.
Лживый англосаксонско-натовский альянс, напав на непокорных сербов, душил их, гнал изгоями с их Родины, и с мясом разодрал всю солнечную Югославию (и немцы тоже поучаствовали в том); он, альянс, разбомбил Ирак и Ливию, наслал на Сирию боевиков, подготовил майданный хаос на Украине. Словом, ткнул мировое сообщество в войну, устроив ее в духе немецких нацистов, показательно-наказательной, в подбрюшье у России. Об этом блокадница Анисья Павловна некогда образно судила: «Да ковбои еще хотят в стойло нас загнать и дернуть по башке копытом…»
Натовцев, известно, не судили за рубежом, а признали преступниками жертвы. Впрочем, ныне мир приучен к тому, что есть спрос на всякое фиглярство и в политике, а не только на сцене, – но умение оболгать и обдурить успешно; он-то ведь в чистую заглотил постановочный репортаж о якобы успешной высадке американских астронавтов на Луну. Как будет и с очередным, уже спортивным, поклепом на нас, русских, еще одного летуна-толеранта, сующего под нос нам фигу со словами: «Да вы только понюхайте, как чудесно эта бумажка пахнет!»
Анна помнила: тогда в конском бункере, с русскими бабами и детьми сводила счеты немецкая солдатня, грозила смертью, видимо разочарованная неприбыльностью их боевого подвига. Они ничего здесь, на Руси, не поимели, а уже получали пинок под зад вместо обещанного в Москве. Они вокруг все разрушили, разломали и дом Анны, прикончили неугодных…
Но все-то уже знали хорошенько, что нацисты так прибирали под пяту себе все европейские нации и народности подряд и не было у них недостатка в выборе сокрушительных средств для такого прибирательства. Сказать им было нечего никому. Но они, выворачиваясь для чего-то, смешали дипломатию с демагогией и лжесвидетеством. За что, собственно, они воюют, проливают кровь миллионов невинных мирных людей – сказать они не могли. И только управдывались неуклюже.
Впрочем, нынче самооправдатели такие уж и этого не делают: попросту считают себя правыми.
У каждого – свой прицел.
Только что воззвала Анна к совести мучителей – совести отброшенной, они, посовещавшись, наконец, вынесли хорошее, какое можно пожелать себе, сказали они, решение, а именно: что если к пяти часам утра не отыщется их вещь солдатская, то все русские, какие здесь есть, будут заживо сожжены. Kaput.
Мстительно они добавили:
– Was man Sel, das wird manernten. – Что посеешь, то и пожнешь.
– Das mag richtig sein. – Возможно, что это правильно.
И ушли, отругиваясь. Благородно негодующие. Честь затронута.
В запоздалом гневе все честили проклятущих девок, заваривших бучу; те лишь вызывающе-строптиво зубоскалили в ответ, еще сомневаясь в исполнении солдатами угрозы да надеясь, главное, как-то умаслить их. Их ум работал в одном направлении. Вроде и Семен Голихин, выведенный этим из себя, выругался грозно, основательно; однако испугался он опять сильней всего за личное благополучие, что так неожиданно подверглось испытанию. Ведь главным для него было то, что был он жив-цел, был при своей семье, при своих особых интересах – и все было ладно; его уделом был покой, девиз которого: «сиди и живи». В любой ситуации. И точно так же он вспылил бы тут, если бы он вдруг узнал, что сейчас отсюда уходит кто-то партизанить – и тем самым ставит под угрозу его жизнь, его личное благополучие, плывшее себе без особых помех, заторов (ведь и за это немцы тоже не помиловали б никого).
Всем уж было не до сна: в желтоватых разводьях светивших и едко дымивших свечек и лучинок общими усилиями искали злополучную зажигалку, ползая по настилу и тщательнейшее перебирая остатки соломы, сена, еловые ветки и заглядывая в каждую щелочку, каждый уголочек. Женщины богопоклонно молились вслух:
– Господь, помоги нам, рабам божьим! Спаси нас и помилуй!..
К полуночи нашли ее, завалившуюся блестящую железочку-игрушку.
Стало можно спать спокойнее. Легли.
XXIV
Нагруженный сон стряхнула Анна с глаз тяжелых – распахнулся перед нею рассветный уж денек. Сквозь-то дождевого бисера, загустившего воздух, увидела она колонну шествуемых под конвоем немцев ребятишек. Вгляделась: в ней – Валерка, он беспомощно на нее оглядывался, а других лиц ребят она не разглядела.
Анна все время о нем думала.
И вот Валера шел, уходил от нее по какому-то плоско расплескавшемуся в тумане заливу, и она спешила к сыну по стоячей воде, но ног своих, к радости, не замочила, нет. Однако ее встревожило уже то, что нечто подобное о нем ей приснилось уж второй раз: все ли ладно с ним? У него? Почему он приснился опять? Знать, неспроста так идут какие-то скрытные токи – мысли от него, сердешного… Отстраненного от нас… Мы-то тут, покамест, вместе как-никак.
Валера рос особенным.
Всегда выходило, что при всех возникавших семейных перипетиях, недоразумениях и конфликтах, мелких житейских, сиюминутных или острых, больших, деликатных, Анна чаще старалась подладиться под Валерия, или, точней, приладиться к нему, по возможности щадя его столь ранимо-чувствительное самолюбие, – уж такой упрямствовавший по любому поводу (и защищавшийся ожесточенно) выдался у него характер, предельно обидчивый и хрупкий в соприкосновении с многими разными характерами, доставлявший уже ему самому ненужные, глупые, мальчишеские страдания, причину которых он еще не мог объяснить себе по младости своей. Это требовало хоть какого-то материнского снисхождения к нему. Он с самого малолетства – такой небойкий, нелюдимый и неразговорчивый, особенно сторонившийся назойливо-привязчивых, шумливых чужих людей, – чаще хмурил бровки. Как засядет-запрячется за так надежную на людях спину матери – и уже не даст ей поговорить-то, не то что наговориться, ни с кем: ни с такими же молодухами, ни с прежними товарками, ни с родственницами. Будет тянуть – просить: «Мам, а мам, я чайку, чайку хочу». С избранного места без нее не стронется первым – ни-ни. Если же кто из баб любезно-ласково и предложит ему чайку, то ответит робко, нахохлившись, как птица на суку дерева: «Нет, я дома чаю хочу – из своей синей кружечки… Вы-то понимаете?..»
И кормила Анна грудью Валерия дольше, чем три полагавшиеся, как считалось в народе, поста (пост Великий, пост Спожинки – это в августе, потом опять пост Великий) – даже груди у ней заболели.
Позже повелось иначе. Анна пойдет в поле на работу – молоко перегорит; ребенок (девочка или мальчик), естественно, грудь не берет. Стала каши варить. И не сцеживалась. Раньше этой моды не было: научно никто не предсказывал пользы и необходимости того.
Валерий был светловолосым. Волосы кудрявились. В школе сверстники его прозвали курчавым; из-за этого же остригли его наголо – потому как он не любил, что называли его на девчоночий манер.
Совершенно другой по своему складу была Наташа: росла оторвой на всю деревню. Только отвернешься от нее, а она уже чью-нибудь сердитую корову гладит, наговаривает что-то ей, либо лошадь за хвост тянет. Кто-нибудь уже кричит: «Анна, Анна, погляди, что твоя озорница вытворяет!.. Схвати ее…» Но Анна видит все и встать-то с завалинки не может от страха, не то, чтобы быстро подбежать к малышке, чтоб схватить ее в невредимости… Ладно – смирные животные или просто терпели всякие проказы детские: не поддали ни рогами, ни копытами ни разу, а могли ведь без всякого повода… Но то ведь животные были, а вот тут, под конвоем вражин…
Да, и впрямь случилось с Валерой такое, что не могло не быть.
Было, что бесы-фрицы, покрикивая, опять и опять волокли их торопко – их, сгорбленно-пригнутых мальцов (вместе же с мужиками) – они шагали-скрипели, месили снег, сквозь заровнено-белое поле, выточенное бисером снежинок, загустивших воздух, все открытое пространство вокруг.
Вдруг он, Валера, сошел на обочину и сел в самый снег, глядя на всех гонимых жалостливо и затравленно, что щеночек какой. И вроде бы мать старалась поспеть к нему – она рядышком заноровилась шагать. Вопрошала тихо: «Что ты! Что ты, сынок! Не моги не мочь!»
«Да, – подумал он с печалью, – а если мои ноги не идут – они не слушаются, отказали напрочь; я-то застыл после гиблого перехода, захотел попить – и попил водицы ледяной… Оттого-то ноги отнялись – да и только. Не могу дальше идти…» Он как будто слышал голос матери: «Ну, еще попробуй, мой сынок! Умоляю!.. Уходи! Вставай!»
Почти заслоняя Валерия от Анниного рвущегося взгляда, двигал на него, бессильного, требластый и щетинистый (до синевы) заматерелый конвоир. Прямо-таки дикой растопыркой с карабином. Двухметрового, наверно, роста. Мягкий, взметавшийся снег сапожищами глубил, дырявил. По-немецки, разумеется, он спросил, возвышаясь над Валерой, что такое с ним, поинтересовался хоть. Еще вроде бы по-человечески поступил. Валерий глаза вверх взметнул, сказал ровно (тоже по-немецки), что у него болят ноги (жестом показал на них) и что поэтому идти дальше он не может. Все. Конец.
– W-a-a-as?! – грозой зашелся растопыренный немец, зашипел (дескать, это что еще за новости такие!) и, задев его в детское плечо прикладом карабины, строго-настрого приказал ему опять встать в строй. Да поживей.
Валерий подчинился и, рывком поднявшись, закачавшись, затесался вновь почти в голову колонны, подхваченный и поддержанный многими протянувшимися до него руками, но был все же что надломанный цветок. Ноги у него по-прежнему не шли самостоятельно. Не слушались его.
Очень скоро сполз он снова в середину той мальчишеско-мужицкой лагерной процессии. Колыхались, колыхались одни спины в белой мгле. И опять он вытолкался из колонны с тем, чтобы, верно, больше не мешать своим товарищам и не осложнять им еще длинный путь, и сел в полный снег обочины.
Судорожно снег глотал, захватывая его в пригоршню. Рукой голой, покраснелой, ровно лапка у гусенка. Сильно-нездорово кашлял. И уж не глядел на обомлевшую мать, не успевавшую к нему. Он лишь чувствовал ее присутствие.
Она, мама, отчаянно роняя провалившийся голос, слезно умоляла его привстать скорей. Не злить архаровцев. Она будто спешила к нему для того, чтобы хоть успеть закрыть его собой – распростертым крылом материнским, кровным. А он, голубь несмышленый, глупенький, скашивал на нее по-детски широко печальные глаза и только видел, нисколько не пасуя ни перед чем, как с замедлением точно совершались вокруг действия людей и даже опускались наземь лопоухие снежинки. Тающие на голых руках.
Наступило у него какое-то безразличие ко всему.
В голове его колотилась мысль: «Брысь, брысь, эта тварь поющая «Deutschland, Deutschland, uber alles!» И я еще должен спину гнуть на них, что ли?! Ничуть не бывало! Не хочу! Проще же простого, как оказывается, все. Вот стоишь, хоть и на коленях, и думаешь: нет, это не со мною происходит – и не я совсем стою здесь, на самом краю, с которого можно сгинуть вот-вот. Да не может быть! Ведь я люблю маму, жизнь. Этого не может быть! Но я больше не могу, прости…
А уж моментально – что? – на Валерия надвинулся прямой, усеченный вдоль унтер-офицер, старший конвоиров, и нахмуренно спросил в свою очередь, warum он, лагерник, сидит. В таких перегонах лагерникам запрещалось отдыхать и жаловаться на болезни. Боже упаси! Но Валерий этим пренебрег: совсем безбоязненно, не зная страха, как и в предыдущий раз, он сказал, что он krank – болят ноги. Тогда молча дернул унтер-офицер своим плечом, скидывая на руки себе черный автомат; хотел он, безусловно, без излишних разговоров полоснуть сидящего больного, только и всего. По привычке, заведенной у нацистов. Ни себе, так и не людям. Вот и все. Он даже из себя не вышел, не залаял.
Только, к счастью, прежде, чем палач изловчился с автоматом своим, позади возник нарастающий шум – и с гиканьем, что заставило его с неудовольствием посторониться, даже отскочить, чтоб не быть задавленным, едва он обернулся – прямо на него неслось под крики на дровнях в белом густом пару нагнавшее колонну конное воинство немецкое. Передние большие и полупустые розвальни притормозились подле. И сидевшая в них важная фигура под шубой немногословно, кивнув на Валерия, о чем-то переговорила с остолбенелым унтер-офицером. И тот затем приказал Валерию немедленно сесть в розвальни. Валерий, дотащившись-дотянувшись, влез в них, и лошади опять рванули с места быстро, замелькав копытами, вскидывая охлопья снега. Понеслись, спасая человека, сына матери.
Повезло!
Это были, конечно же, австрийцы, которые тотчас проявили чувство сострадания к попавшему в беду русскому мальчонке. И в этом отношении справедливо сразу ж и пошла в нашем народе молва о присущей подневольным австрийцам гуманности и потому-то даже возникли сочувствие и симпатии к ним. Взаимные. Чего не скажешь о других немецких служаках – не немцев: увы, тем – и ничем! – другие, за редким исключением, не отличались заметно от поведения на Востоке у нас самих немцев. Что есть, то есть.
Сердце Анны учащенно билось. Она его чувствовала.
«Значит, меня родные стены уже зовут, по мне скучают, – мелькнула мысль в ее сознании. – И откуда? Где же это я? С детьми? Если мы еще не дома, то пора, пора нам возвращаться! Уж откладывать нам больше нечего».
– Я вас не спешу, – потайно нашептывал ей кто-то. – Не спешу. Поспи.
И знакомая чем-то молодоглазая старушечка ласково твердила ей, обозначаясь в пепельной предрассветной мгле:
– Ничего, родная, образумится еще. Не тужи, родная.
«Что же, сплю я?!» – И она встряхнулась и совсем проснулась.
О Валерии вновь подумала. Что там с ним? Жив ли он? Душа у ней болела так невыносимо!
XXV
Не только Анну – всех сидельцев в бункере била мелкая дрожь при воспоминании вечерней угрозы гитлеровцев. И поэтому-то спозаранку никто уже не спал, когда троица воинственно настроенных солдат, которые расправой пригрозили – и, наверное, не ради только красного словца, не с тем, чтобы только припугнуть, точно заявились в бункер, чтобы либо получить назад свою бесценную безделицу, либо в точности-таки, без всяких разглагольств, покончить с этим сбродом невоспитанным. В наказание. Они пунктуальны в том. Они ради волеисполнения завоевателей пришли – перед тем, как им, последним, выехать отсюда, из леска. Потому они особенно опасны были. Как, пожалуй, никогда. После еще Сталинграда, надо знать… Не зря предупреждал Федор вчера.
И когда, жалко извиняясь за вчерашнее, Галька-переводчица им вернула зажигалку, они вновь не церемонились, не поблагодарили – по-всякому пообзывали напоследок девок, женщин и детей. И то было ладно: хоть они не тронули, не растерзали никого; по крайней мере, все избегли смерти неминучей, злой, еще раз прошедшей впритык мимо. Уф! Не сразу дрожь унялась…
После этого Анна и дала себе зарок выбраться домой на завтра же. Нельзя было дальше медлить, хоть и тяжело решиться на такое. Чему уж быть…
Может, это было у ней на роду написано, что ей было тяжело всегда, сколько она ни жила, но иного она уже не ждала от жизни, и что вследствие этого она всегда хотела найти как-то всякий выход из всего (хотя сейчас она ничуть не тешила себя легкостью и безопасностью обратного пути домой, а больше думала о трудностях); а может, это было в ней от Василия, передалось ей от него – какое-то высшее чувство, которое ее сейчас поторапливало и придавало ей и ее детям, державшим совет вместе, уверенность в необходимости затеянного ими предприятия. И это важное чувство уже завладело и руководило ими полностью.
А ведь истерзалась и истосковалась здесь она уже досыта, даже только еще здесь, еще не на чужбине – ее-то она не вынесла бы просто.
Солнце горело все сильней, не скупясь; воробьи качали тонкие простертые веточки деревьев, деятельно перепархивая с одной на другую и пощелкивая с азартом. А дел дома накопилось уйма, уйма. И Анна присказывала вслух с отчаянием:
– Какой день! Какой нынче день! – словно бы в укор себе и всем.
И немецкие обозы, сказывали карповские бабы, уже потянулись к югу, верно, к Вязьме, – немцы отступали, слава богу; и мороз ослабился, мог совсем сломаться, отпустить дороги грунтовые – и тогда по ним ни пройти и ни проехать, жди – сиди; и конина, и мука уже кончились – муки осталось столько, чтоб испечь в дорогу каждому по полторы, по две лепешки лишь.
Уж заваривали, точно чай, вместо заварки, прямо в кружки крошки хлебные, сухарные; разделив на части, Анна насыпала из мешочков горстки крошек этих на ладошки; заварив их в кипятке, пили этот хлебный чай, или суп, с удовольствием – было очень вкусно. Крошки тоже были сладки: пахло хлебушком незаменимым – ведь ничего приятнее и аппетитнее хлеба для ребят в детстве не было. Именно упругого ноздреватого хлеба, еще теплого, с закалиной… Такой хлеб прежде почти каждая хозяйка выпекала в своей печке. Анне приходилось его печь буквально через день… Добывать же здесь теперь какие-то продукты для того, чтобы еще продлить и поддержать свое существование, не удавалось, так как было невозможно, а не то, что не везло добытчикам – ребятам. А дома как-никак еще остались, хоть и небольшие, запасы зеленой квашеной капусты, картофельные сушеные очистки, зарытого картофеля, зарытой ржи.
И, значит, нужно было поскорей в свои края подаваться. Подаваться глухими проселочными дорогами, пока их не развезло и чтобы поэтому было бы меньше встреч с отступающими по большаку немецкими частями…
Анна внутренне удовлетворилась лишь тогда, когда она с детьми до этого домыслилась и довершилась – что надо, не откладывая, выйти завтра раным-рано, с тем, чтобы успеть засветло пройти как можно большее расстояние. Вместе с тем и очень чудно было то, что советчики оставили в покое их, не присоединившись к ним: была большая вероятность беспрепятственней меньшому количеству людей проскочить меж немцами.
Правда, кто-то из баб неугомонных еще хотел повлиять – и Анну задержать, да Голихин воспротивился:
– Че тебе? Больше других надо? Не лезь – сиди, помалкивай.
Пойми его…
Время полетело вдруг незаметно быстро. Нужно было еще много всего сделать. Укрепляли санки, подзашили одежонку, белье, валенки, штопанные-перештопанные варежки; все просушили хорошенько, распихали в узелки семейное добро. И в заключение испекли на бочке из остатков муки лепешки на дорожку…
И последним вечером ей, Анне, не давал уснуть капризничавший маленький ребенок Дуни Самохиной, Витя, – все время ревел, захлебываясь. И она подумала невольно: вот он вырастет большим поймет ли, осознает ли он, что это когда-то было с его матерью, с ним, со всеми нами, что когда-то его носила, нянчила, уговаривала мать, как только умела уговаривать, и наговаривала слова ласковые, единственные? Поймут ли это дети?
А кто-то в темноте старчески ворчал:
– Вот лягушонок. Будет ночь болмотать. Старуха, как навозный жук. Все жужжит с ним.
– Да, малец воет, как воздушная тревога: у-у-у! Клятой! Ишь поддает.
XXVI
Еще едва-едва светало.
Наташа, тряхнув в печном свете (печь уже горела) скобочкой темных волос, посмотрелась в осколок зеркальца – хороша, ничего не скажешь: грим навела превосходный – сама себя не узнает. Она для того, чтобы выглядеть постарше и отталкивающе внешне (это тоже не последнюю роль играло), не только специально не умывалась сегодня, но и еще измазалась перед выходом сажей и углями. Вся разрисовалась. Под глазами же у ней естественно синели тени от систематического недоедания, как и у всех, а глаза выдавал характерный неестественный блеск, то известно было. Затем она, оставшись довольной своим таким обличьем, помогла загримироваться лучше и истончавшей как-то моложеватой тете Дуне, и потом насупленной, застывшей сердцем Ире, двоюродной сестре, и также второй, младшей, – язвительной шестнадцатилетней Тамаре, все знавшей, но не желавшей слушаться доброго совета в том, чтобы воспользоваться – ради большей безопасности – также этой хитростью перед врагом, с которым нужно было теперь держать ухо особенно востро. Тамара поддалась, послушавшись, лишь тогда, когда прицыкнул на нее четырнадцатилетний брат Григорий, походивший своей властностью угрюмой на отца Николая; Анна, как ни суетились, поразилась тут случайно, сравнивая для себя: господи, у сына и такое же резковатое, с желваками, лицо, и также глаза у него беспричинно молнии вокруг метают! Растут, растут дети без отцов. Образуются у них свои понятия. И мы удивляемся. И она в каком-то замешательстве даже подогнала дочь:
– Наташа, полно путаться! Заканчивай! Бери-ка Танечку, пошли… – С легким, пробивавшимся ознобом и дрожанием голоса – от предстоящего. Не только у нее одной, она заметила уже. Понятное волнение.
Распрощавшись с односельчанами, которые собрались сидеть неизвестно сколько в бункере, они выбрались вон и распределились сразу, кто пойдет за кем, и еще пересчитались для надежности. Было их всего семнадцать человек. Пятеро саней. За семьей Анны и Дуни вела свою семью и семью своей сестры Большая Марья. И была еще Устинья Любезная с двадцатилетней дочкой Ксенией.
Нынче зима была глубокоснежной, с настоящим настом. Был хороший ядреный утренник. Подморозило за ночь коркой, и гулкий коркообразный снег не проваливался под ногами и полозьями санок. Так что вначале было достаточно легко идти, даже хорошо. На одиннадцатые-то сутки после выселения. Слепил снег, бодрил свежо искрившийся воздух: пахло ранней весной! Все взошли на пригорок довольно резво, как после длинной спячки в глухой берлоге; были и свежи, восхитительны впечатления от этих минут– что от чистой и студеной родниковой воды, которой напились в жаркий летний полдень.
Так дивно было на душе, что вышли наконец из своего убежища – покинули его; вновь дивились осторожности людей, оставшихся в нем – именно под влиянием страха: верилось в свою удачу…
Итак, начиналось пока гладко и удачливо. Правда, поход осложнялся, как внезапно оказалось, выбором проселочных дорог, занесенных и заброшенных, а потому едва заметных, различимых – о них даже не у кого было и спросить сейчас, не то, что прежде (нигде не встречались жители); выбирали по наитию, не ведая, куда какая заведет, в основном придерживаясь направления, подсказанного следующим военнопленным-ездовым, а ведь очень важно было не зайти в конце-концов в тупик и не делать понапрасну лишние крюки туда-сюда; главное, ведь время, силы нужно было сберегать, с учетом тех неблагоприятных обстоятельств, которые еще могли, не дай-то бог, и задержать в пути (прикидывать-то нужно все).
Непредвиденные осложнения возникли также с переходом большака. Самым первым же. По нему назад уже черная лавина отступающих немецких войск катилась – катилась почти в бешенном галопе, смешиваясь и крошась, как лед в реке во время ледохода. Да куда ж свернешь от них? Нет! Нет! Надо перейти большак, во что бы то ни стало. Побыстрей. Радость была больше огорчения. Наконец-то немцы побегли! Фронтовые части. Еще силища изрядная, свирепая.
Это зрелище скорее было ненормальным, чем забавным. Оснащенные вооружением немецкие войска с обозами откатывали к юго-западу, занимая вширь весь почти большак, а по кромке им навстречу двигалась открыто группка выселенцев с малышами, что немало удивляло отступающих, повидавших всякое в России. И, испуганно воззрившись, словно на чуму, некоторые гитлеровцы из числа наиболее досужих ярых – останавливали караван неустрашимых русских женщин и детей; спрашивали строго, для порядка, кто они, куда идут.
– Rus, wohin? Wohin? – И торопились, не скрывая этого.
– Мы – Nach Hause, – покорно отвечала им Наташа, неся Таню на руках и так наглядно выдавая ее за дочку свою, на всякий случай подстраховываясь.
– Wohin?
– Dort, – неопределенно-наугад кивали в сторону. Главное тут – следовало лишнюю минуту выиграть; тоже свой мотив в такой словоохотливости, перемешанной с видимой правдивостью.
Уж не партизаны ль? Да какое! (Немцы почему-то во всех русских партизан подозревали). Одни женщины и дети. Разве то не видно?
И отступавших солдат порой еще смешила невообразимая чумазость этих встреченных бог весть где русских жителей: они, посмеиваясь, и не задерживаясь более, чем можно, проходили спешно дальше. Очень запыхавшиеся. Уже пот катил по корявым их лицам. Так беглецы перепорхнули вскоре на другую сторону дороги, только обозначился разрыв среди лавины солдат… Под самыми ногами солдатни, лошадей перепорхнули… Левей взяли.
Полупробежкой отдалились прочь от этой трассы. Употели.
Все теплей в спины грело возвышавшееся в голубовато-дымчатой завесе солнце, и катастрофично размягчался снег повсюду; скоро снег стал рассыпаться, набухать водой; потемнели, оседая, сдутые места пригорков, обнажились голою землей. Становилось вязко – все трудней идти. А еще неясная дорога где-то кончилась, точно в снег ушла, растворилась, – не обнаруживалось под ногами ее стойкое основание. И поэтому-то, потолокшись зря, выселенцы вместо того, чтобы снова выйти кружно в безопасную для них зону, подальше от большого тракта, выпялились на подчищенный пустой Рыковский большак, лежащий западнее Папинского, – по нему направились на деревню Рыково.
Видимо, усталость уже сказывалась и брала свое: идти по накатанному и расчищенному большаку было несравненно легче и спорчей, чем почти по целине; да притом с надеждой шли: авось из этих мест немецкие войска уже отхлынули…
Только подойдя поближе к присевшим крайним избам Рыково, беглецы поняли, что некоторым образом заблуждались, так как здесь увидели немецких патрулей. Делать было нечего, деться уже некуда, не скроешься: большак прямехонький – просматривался вдоль, с ходу не свернешь; потому и шествовали дальше, не сворачивая, как ни в чем не бывало. Авось выкрутимся, думали. Не в первый раз. Однако только что дошли до самых патрулей, как те мигом окружили их и сказали, что сейчас же к коменданту поведут. Это беглецам могло стоить дорого. Испугались все.
И тогда Наташа умоляюще спросила по-немецки (вовремя сообразила), можно ли назад им тогда вернуться.
– Selbstverstandlich! – Разумеется! Zurück! – С какой-то радостью солдаты, чем-то размягченные, согласились отпустить назад: видно, очень не хотелось им возиться с русскими сейчас, когда приятнее всего было стоять на солнце, подставляя лица под его палящие лучи небесные.
Обрадованные же тем, что снова на свободу вырвались, выселенцы, развернувшись, быстро-быстро дунули обратно, может быть, с полкилометра, а потом махнули в целик, в поле, подаваясь на восток, на далекую, видневшуюся на отшибе, деревушку. Она служила верным ориентиром.
Вдоль деревень, перелесков, огородов, строений еще белели нетронуто чистые сугробы, не изъезженные, как бывало раньше, лыжами и санками (теперь некому здесь было их изъезживать), и беженцы иногда погружались в них, сугробы эти, чуть ли не по пояс и ползали в них, порой под горестными взглядами одиноких женщин, и помогали выползти друг другу и также санки вытащить.
Опять валенки намокли, потяжелели, отчего опять, к несчастью, заломили ноги у Антона и у Саши.
То, как они шли, или ползали, проваливались в снег, Антону представлялось в какие-то моменты как бы в перевернутом состоянии: он и сам шел, полз и видел себя и всех как бы сверху, и потому порой местность с наваленным всюду снегом, почти непреодолимом для них теперь, казалась какой-то взгорбленной вдруг.
XXVII
– Мама, – спрашивал Славик, сидя на медленно, рывками, ползущих санках, – мы наш дом потиляли?
А и верно!
– Мы с тобой еще найдем его, сынок; найдем обязательно, мой котинька, ты только посиди еще на саночках немножко, – успокаивала раскраснело-запыхавшаяся Дуня, усиленно работая ногами и пробиваясь в снежных насыпях.
– Ну, ладно, поиси. А то очень я устал. Ох!
– Совсем, что ль, устал?
– Насовсем-совсем устал. – И ребенок глубоко вздохнул. – Слысись вот?
– Не говори, мой котинька. Устали все мы. Уже еле двигаемся.
– Что ж, лиха беда начало. – И вздохнула Анна на сестру: – Погоди, Дуняша: покраснелость у тебя… Ба, да ты никак отморозила щеку?!
– Ах, чтоб меня! Ну, лихорадка! – Дуня расцвела как маковка, однако. – Умудрилась при тепле-то… Точно: бесчувствительна щека.
– Ну, не знаю. У тебя же левая щека была в тени морозной, паром, что ты выдыхала, обдавалась – знать, ее и прихватило. Ты потри снежком ее, потри.
Так совершали среди бела дня безумный, если вдуматься, рейд во вражеском тылу почти два десятка человек, предводительствуемых Анной.
И они на собственном примере этом убеждались вновь и вновь в живучести народной выручки, столь верно согласующейся с духом русской присказки о том, что «язык до Киева доведет». Изредка попадавшиеся бабы преохотно, сочувственно подсказывали им, куда выведет эта дорога, где сподручнее пройти – поменьше занесло, побольше, значит, проходимо, и где немцев нет. Это тоже радовало, помогало.
К той отрешенно-обезлюденной деревне, называвшейся Слободкой, подошли уже ввечеру. Отороченные позеленелыми кольями и плетенкой, за сугробами и приусадебными насаждениями хоронились вдоль улицы в два ряда – здесь, там – немногие избы. И печальное безмолвствие встретило вошедших.