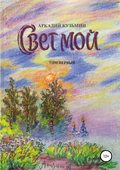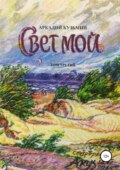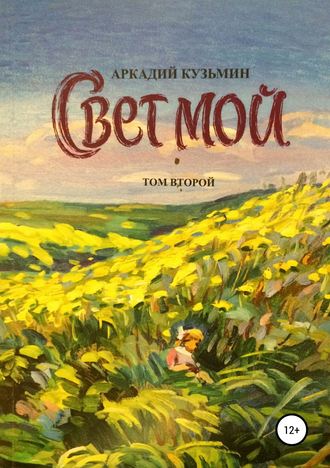
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 2
Ей не хватало, значит, выдержки, хладнокровия – все в ней поднялось; ей не хватало еще необходимого жизненного опыта, да это и не нужно было ей скрывать. Будет она, как может, утешать и уговаривать мать еще надеяться на что-то…
Все было очень просто. Антон, войдя в избу, застал их плачущими в уголке. Все повторялось вновь. Мать повернула к нему свое несчастное лицо и сказала убитым голосом:
– Сынок, ваш отец без вести пропал… Вот извещение… О, горе! О-о!
И он не закричал, как и в июльский голубой день – день провода отца на фронт, будто в нем что заморозилось опять и оттого он еще больше почувствовал себя виноватым перед ним, перед всеми.
Что существенное мог он сказать нынче матери, чтоб ее утешить? Ничто.
«Наш отец, – подумал он, – перед наукой благоговел, любил что-нибудь конструировать, любил возиться с инструментами, любил напевать «ты добычи не добьешься, черный ворон, я не твой». И как… жуткой болью пронзает мои жилы: пропал без вести?! Разве это можно?!»
– Нет, помните, летучую мышь, запорхавшую ночью в нашей кухне? – всхлипывала горько Анна. – Это была предвестница его гибели. Наверняка. Он еще тогда, наверное, погиб. Я-то предчувствовала. Себе места не находила… Вот и серенький паучок сегодня сполз ко мне – напророчил мне дурное известие… Мое сердце чуяло…
Антон же, даже видя и испытывая все бесконечные ужасы этой войны, представлял себе отца не иначе, как павшим где-то в каком-то сражении, а не пропавшим без вести. Но оттого не меньше чувствовал себя беспомощным. Сколько не горюй, не восполнима утрата и горе неутишимо, и только дело помогло бы людям пережить то, что их постигло.
Для Анны, хотя она тоже не верила до конца, что Василий погиб, распалась какая-то стойкая связь со временем, поэтому порой она с трудом понимала, что происходило вокруг нее. Она словно видела повсюду льдистые глаза действительности, как у того фашистского конвоира на скользком и холодном февральском большаке.
Отчего ж все сделалось так? Страдали они, люди, по убитым, искали их следы, могилки и сами исстрадались (ой!), из могил воротились и еще ходили с осколками и пулями в теле и ранами, и страдали их дети, а они страдали еще из-за них. Было ясно: невосполнима утрата и горе неутешимо, и только дело, дело – вечный излечиватель всех людей – помогло бы пережить то, что их постигло; было ясно, что не накликала беда, а все, что было людьми сделано и где-то на заводе отточен и приделан винтик, сработало чисто, как срабатывает боек, вставленный в механизм снаряда. Кто же виноват в том?
В детстве у Анны была одна такая игра: найди то, чего не знаю сам. Но военщики-то, известно, ищут в войнах поживу в обмен на смерть миллионов бедняг. И это-то посягновение на их священную жизнь и глумление над ними, мечущихся между загоном и буржуазным законом, вечно паразитирующий класс богачей еще с пафосом именует «демократически свободным выбором»! Такие есть фарисейские выверты.
А вслед за тем с сожалением и разочарованием, узнала и Маша печальное: что также и от нее отвратилась всплеснувшаяся было в ней надежда перед неизбежной своей кончинушкой повидаться с мужем Константином, воевавшим в полном по сю пору здравии, заговоренном ее любовью. Почтовая переписка у ней с ним возобновилась вновь благодаря тому, что ему дала знать о ней, ее теперешнем местонахождении, ее находившаяся в эвакуации в тылу сестра Зоя, которая переписывалась с ним в течение этих полутора лет. Напоследок Маше не повезло на самую малость; в письме своем из действующей армии он ладным мелким почерком – точно строчкой прошивал – уведомлял ее с грустью о том, что не сможет приехать к ней ни на день, ни на час, дабы свидеться с нею; командиры его не отпускают: каждый солдат на учете – тяжеленные бои в разгаре, и нужно не только не отступать теперь, а только наступать и наступать, чтобы высвободить больше советских семей из фашистской неволи. Такая на них, солдатах, задача возложена.
И уже не имели для нее никакого прежнего смысла и значения ни его приветы, здравствующие, посылаемые всем, и ни его слова утешения, обращенные к ней, своей подруге: все это отмерло, прошло через нее куда-то дальше. Словно в бездонную пропасть пало… Осыпалось легохонько… И был иной простор для нее и вокруг нее – непостижимый, вероятно, для других, еще живущих – со своими интересами.
Да, в мире никак не бывает того так, как что-то иной раз кажется или желается нам; все ведь делается – производится не по божьему велению, а людьми самими – и порой с невиданными усилиями и терпением, и смирением перед долгом и обязанностями. Сколько ж и как трепетно все ждали часа своего освобождения! Ожидание его не затухало в сознании людей ни на мгновение. Но оно пришло все-таки. Наперекор всему. И к другим еще придет рано или поздно. Не ко всем одновременно. Многие-то уже не дождутся его. Или дождутся, подобно Маше, лишь для того, чтобы измучившись, представиться в более спокойной обстановке. И то ладно: утешение большое. Кому как повезет; кого как судьба призреет, осчастливит.
Маша нередко, лежа в своем полузабывчиво-дремливом закутке, где она видела теперь перед собой, или в своем сознании, видела зримо бесконечно тянущиеся театрализованные кружения – действия каких-то лиц во всем том, чем и она жила и дышала до этого и что было очень похоже на действительность, только уже мало ее затрагивавшую, – Маша, в минуты, когда возле нее никого не оказывалось и действие толпы затихало, ловила-перехватывала крамольно-любопытствующие и какие-то почти полоумные взгляды бабки Степаниды, нацеленные на нее с печи, куда со старушечьим кряхтеньем и надтреснутым пришептыванием-ворчанием вполголоса бабка забиралась и где – на пригретом кирпичном своде – отлеживалась дольше и чаще кошки: грела свои дряблые кости. И Маше было непонятно, зачем еще та жила и цеплялась так усиленно за жизнь, извратив своим существованием самое ее понятие. Она-то теперь знала с радостью почти, что этого с ней уже не случится. И так, видно, лучше, лучше.
Иногда же будто с сочувствующим любопытством на нее заглядывали исподлобья снизу, оборачиваясь, и эти театрально, казалось ей, хороводившиеся в полутьме ее сознания лица, и они не осуждали ее за отступничество от них – у каждого свое предназначение.
Отстукивали и отстукивали время ходики. С чуть слышным, говорившим об их изношенности, скрипом.
VIII
Прошло больше месяца. С погодой неустойчивой. Уж был апрель.
Что почти невероятно, но для всех естественно, сызнова к делам колхозным приступали; для начала же вновь образованным правлением планировалось яровую рожь посеять, чтобы заложить основу получения хотя бы небольшого урожая зерна, – из семян, выделенных для этой цели государством и доставленных для распределения в освобожденные деревни. Кто как будет пахать и сеять в полях, когда в хозяйстве на шестьдесят примерно семейств не осталось ни единой животинки, кроме кошек, не то, что рабочей лошади, никто еще не знал; но люди ничему уже не удивлялись – они принимали все, как есть, должным образом и верили, что так именно и нужно.
Семенная рожь была прислана сюда откуда-то из-за Волги – с Калининского направления; но ее почему-то не довезли до самого Ржева – доставили только до станции Есиповская, что в верстах десяти от него. По-видимому, попросту не было в городе подготовленного складского помещения для приемки и сохранения ценных семян. Нечем было также подвезти их на место назначения. Ведь не один колхоз Ромашино бедствовал так – на все колхозы в округе разнаряживался семенной фонд. Так что трем десяткам женщин и подростков, собравшимся с исправными, без дырок, крепкими мешками и едой на обед, около крыльца избы Бекреевой Катерины предстоял совсем нелегкий путь на эту станцию Есиповская, – за рожью для очень важного нынешнего посева.
Едва еще серело туманное, дождливо-промокшее утро. В глубине крыльца приглушенно журчал несколько приподнятый, как будто подбадривавший сам себя голос Миронова, председателя, который командовал сбором людей. И Антон и Саша пришли сюда также с мешками вместе с тетей Дуней и тетей Пелагеей.
Грязь хлюпала, чавкала под ногами десятков людей, которые с зерном за плечами плелись гуськом, придерживаясь железной дороги, где легче было идти – посуше было. Вблизи Кашиных и Пелагеи шедший Семен Голихин зарассуждал, что не каждому привычно вскинуть трех-четырехпудовый мешок зерна на плечи и нести – это очень тяжело. Вот Василий Кашин это мог. Он все мог, – пускал Голихин туман. И Саше и Антону это было приятно и неприятно – слышать такие лицемерные слова. Для чего же только они были сказаны сейчас?
И Пелагея, слушая его невнимательно, промежду прочим, не понимала, к чему он клонит: может, хочет реабилитировать себя в их глазах?
Тяжело было нести какой-нибудь пуд ржи, но братья Кашины не хотели отставать ни от кого. Хуже всего было то, что когда они, либо кто-нибудь еще, спускали мешок с грузом куда-нибудь посуше, чтобы чуть передохнуть, потом было сложно поднять опять на плечи: кряхтя и отдуваясь, словно старички, помогали друг другу. Запыхались, тащились в основном молчком: экономили силы и в уме считали шаги – сколько кто пройдет без передышки (вон до того подъема, или до той ольхи). Однако тараторила Лидка Шутова: все уши прожужжала, покрикивала она даже, чтобы дали ей дорогу.
– Все, матушка: кончилась ваша власть – теперь наша власть, – не выдержав, осадила ее Пелагея. – Вы думаете: мы уже забыли что-нибудь?
Где-то Пелагея умом своим понимала ясно, что людям этим, типа Лидки-тараторки, Семена Голихина – все нипочем: они всегда будут на поверхности болтаться – слишком они бессовестны, чтобы быть скромными, не толкаться. Вон Семен опять наговаривает кому-то, что лучше, видно, город восстанавливать: там ответственней и опять же надежней – зарплату выдают, а тут еще неизвестно что будет, что получишь в итоге. Что у него контакт с местными бабенками не налаживается, или он просто хочет быть там, где, по его понятиям, может быть теплей, надежней для него? Всегда искал он выгоду во всем.
Прыг-скок с пригорка на пригорок, шмыг в низину, под разрушенный мосток; опять на железнодорожную насыпь, по искореженным шпалам ноги несут. Худенькая, как девочка-подросток в неказистом и вылиняло-голубоватом платьице, среднерусская местность, не то поля, не то болота, не то кустарниковые заросли в просверках воды, воронка в воронке, – сколькими ж кровями ты здесь полита для того, чтобы снова свободной стать! Целых девять месяцев здесь фронт гудел. Так что идти с рожью за плечами много легче, чем проползти на животе под градом пуль.
Там, где были нетронуты натянутые провода на столбах, они тревожно гудели над головой. Чибис откуда-то взялся – летал зигзагами, кружил, кричал пронзительно-резко: «Чьи вы? Чьи вы? Чьи вы?».
IX
И Анна, главная Машина сиделка и душеспасительница, или, верней, успокоительница, точно знала, чувствовала, что Маша уж не вытянет – умрет, и Маша сама. Заведомо определенно. Все ясно знали это, но полускрывая как бы от себя или попросту не думая (стараясь не думать) о том, потому как Маша была еще живой человек, только прикованный болезнью к постели, и грех, наверное, было уже думать о ней, как о мертвой, несуществующей, какой она станет скоро, в ближайшие дни. Все-то понимали, что был еще тяжелый период такой – даже в городе еще не наладилось медицинское обслуживание мало-помалу вылезавшего из щелей и собиравшегося сюда, на руины, населения: еще не было ни клиник, ни больниц, ни госпиталей, ни даже врачей; так что, если кого зацепило и не убило бомбой, снарядом или пулей, и кто вследствие ранения либо продолжительного голодания стал неизлечимо болен, тому приходилось неизбежно умирать самому, умирать порой медленно, мучительно. Конец был известный.
Наследие войны рядом с людьми жило, ходило и терлось о них, и осаживало их бесцеремонно время от времени: «Стоп-стоп-стоп! Подожди-ка, тормози; становись на перекличку – ты и ты! Вот сюда, мил-человек, шагни».
Было неразъемно в жизни это изнуряюще-оглушивающее состояние. Да только, к нашему стыду, оно не отложилось полноправно-живописно в послевоенных отечественных повестях; всех больше победное интересует, одни взлеты, так сказать, а такие ненормальные явления, через которые пришлось пройти народу, увы, чаще всего выпадают из поля нашего зрения, либо не оправданно замаскировываются в литературе. Мы боимся чего-то: как бы чего не вышло – не нужно, дескать, писать о тяжелом, безысходном, ворошить прошлое, лучше чем-нибудь позакрутистей поразить читателя; нам не пристало плакаться, коли победили мы. И, по-моему, напрасно. Смерть тоже присутствующий фрагмент нашей жизни, заря угасания; она к каждому живущему приходит рано или поздно – от нее не спрячешься, не заречешься.
Дуня и врача водила из Чачкина. Но тот только руками развел после последнего осмотра Маши: спасти ее невозможно, был его приговор.
Маша болела неизлечимой болезнью долго: уже полтора месяца (уж апрель с жавороночьими трелями поджинал свежие свои деньки) провалялась она за лежанкой в избе Поли, находясь среди родных сестер, старавшихся хлопотами о ней облегчить ее последние страдания. Все было оттого, что она была ранена немцем, стрелявшим в нее и Юру малолетнего, в руку и что потом другим была избита насмерть, и что у нее от голода к тому же водянка образовалась – она распухла вся. Руки у ней были как стеклянные, налиты. А выкачать воду из тела невозможно в подобных случаях, будь и больничный режим, – тело снова ею наполняется.
У нее на теле уже образовались пролежни от долгого неподвижного лежания. Ей – молодой – настолько надоело лежать пластом и долго умирать. А ее кто-нибудь еще постоянно переворачивал (она сама перевернуться не могла – была не в силах). У постели ее чаще дежурила, что говорится, Анна – еще потому, что все остальные расходились с утра по работам: в колхозе началась копка земли под посев вручную. Засыпали перво-наперво язвы на ней (воронки). И Маша умоляюще просила, делая от усилия паузы:
– Анна, у вас, я вижу, много кошек развелось; убей одну – свари мне, я так хочу мяса съесть; хочу поесть его, чтобы и смерть ко мне пришла поскорей – не церемонилась, избавила меня от мучений, а вас – от пустой обслуги меня. развалилась тут… принцесса… Довольно: пожила! Поимела радость жизни…
Маша потому это совсем уверенно знала (и принимала смерть совсем, смирясь с нею), что однажды, уже будучи здесь, то ли ей приснилось отчетливо (и запало в сознание), то ли кто сказал над ней, то ли это она сама – ее душа, знать, устремилась, сказала так, отягощенная долгими ее сборами и приготовлениями туда, откуда, как бы ни говорили служители церквей, еще никто не выходил обратно и не возносился на небо, но она услышала сказанные ей слова: «Нет, это не ты меня ведешь, а я тебя веду, матушка моя. Что, разве не хочешь, что ли? Боишься?» И засмеялась неожиданно грубо, но вполне приветливо.
– Нет, хочу, хочу я, – почти обрадованно воскликнула тогда в ответ Маша, оттого, что побоялась она того, что та, говорившая, уйдет одна без нее, не дождавшись ее. Вдвоем-то идти куда как сподручнее. Даже туда.
Анна, которая уже приносила ей тарелку мясного бульона (выпросила у кого-то), пробовала отшутиться – обратить в шутку серьезное. Она взглянула на Мурку, сидевшую на полу, – она и погладить себя не только чужим, но и своим не давала, – сказала:
– Что ты, Машенька! У кошек ведь свое предназначение: сейчас столько крыс, должно, разведется в окопах, в подпольях – только поворачивайся…
А ведь было недалеко время – какой неподражаемо цветущей и веселой Маша была. Бывало, еще невестой, выбирая жениха, она знала:
– По крайней мере, выйдя замуж за простого мужика, буду знать, что он скорее, чем образованный, приласкает.
Горько сознавать, но, видно, она всегда ощущала потребность в материнской и отцовской ласке, которую она не успела узнать сполна по причине безвременной кончины матери и отца, если прежде всего о ласке думала перед замужеством.
И сейчас она еще держалась:
– И мне ничегошеньки не жаль. Верно, верно. Не скорбите вы по мне. Не нужно…
Замуж Маша нечаянно вышла за основательного и вместе с тем обходительного Константина – хоть и портной, но он больше других кавалеров пришелся ей чем-то по душе; собственного жилья в городе, где бы можно было им приткнуться, ни у нее, ни у него не было, и они несколько лет подряд снимали за сносную плату комнату, обзаводились уже добром.
Перемена ею места жительства с началом бомбежек и затем фашистская оккупация и другие причины оборвали между ними переписку после того, как Константин был призван в армию. До самых последних дней она надеялась на то, что он еще жив, и молила судьбу о том, чтоб он остался в живых: чтобы не рос их сын круглым сиротой; затем, когда он дал знать о себе, она ожила, главным образом потому, что теперь хотела того, чтобы он после ее смерти, по возвращении из армии домой, женился на дочери ржевской хозяйки, все-таки тогда у Юры, может быть и мать, хоть и неродная, но вполне надежная будет.
Маша говорила – в перерывах между вздохами, которые ей уже тоже надоело делать (но сердце пока билось для чего-то – может, оно думало, что она нечаянно одумается и свое еще возьмет?):
– Хорошо, я спокойна, что умираю свободной, среди вас, родных сеструшек. И ты, Анна, как, по-прежнему, мать, стоишь в моем изголовье. Вы, я знаю теперь, сына не оставите одного, беспомощного, что котенка. О чем прошу: так передайте мой наказ Константину – чтобы он взял себе в жены Настю. Простите, что я обузой вам стала. Вы уж потерпите-ка еще маленько.
Поплакали. Сестры ее утешали:
– Да что ты, Маша, такое говоришь… И тебе не совестно? Молчи…
– Нет, напрасные только надежды, – чего себя тешить несбыточным? Да и не для чего, поймите. Жаль, конечно, что бог не дал мне свидеться с другими… Я не заслужила, знать. Грешна: не веровала, не молилась на иконы ни в церквах, ни дома. Радость жизни я любила, свою молодость. И не раскаиваюсь в том. Как пропойца. Бабы, не горюйте вы по мне – силы в себе поддержите: ребятишек-то вон сколько под крылом у вас. Аминь, как говорится.
Она медленно, неотвратимо угасала с каждым днем. Словно в разверзающуюся пропасть падала. Все ниже, ниже. Словно бы в замедленном или повторяющемся сне.
Наконец пробил ее последний час. Это было ночью: ходики вытикивали – Анна посветила в их обозначенный черной краской циферблат фонариком, – четвертый час. Маша избывала и сказала с облегчением вслух самой себе:
– Ну, красавица, тебе пора. И так уж задержалась тут… в гостях…
Уходила она из жизни просто, без страха и сожаления. Лишь пошевелив губами, чтоб позвать неслышно, попросила продежурившую ночь у ее постели Анну никого не будить, а только подвести к ней сынищку, чтобы с ним проститься, и метко и хладнокровно произнесла, что она умирает, умирает в полном сознании.
Мысль ее работала четко.
Она стала прощаться с заспанным Юрой, точно еще не понимавшим, что от него хотят, утешала его ласково, урча слабеющим голосом.
Анна сопела носом, слушая Машу, – больную это раздражало; она попросила напоследок не задерживать ее, уважить. Потом прервала себя:
– Ты, Аннушка, не отягощайся так из-за меня. Мне будет легче уйти. Обещаешь? Я так уже устала страдать, вам надоедать, отсвечивать тут.
– Ну, не буду, Машенька; ну не буду я… Постараюсь…
– Итак, пошли туда, – сказала Маша кому-то видимому для нее. – Я готова. – И ей казалось: она легко встала, оперлась на ноги и пошла вслед за той цветущей женщиной, которая приветливо и неотвязчиво манила ее куда-то.
X
Под этот ночной шепот доходил к концу накатившийся сон у Антона – как в полузабытьи, что он слышал шепот, вздохи и даже понимал их значение. Вот какой был сон.
Он будто только что вышел из избы, и сбоку его, проглядывая в этом полусумрачье, дрожал всем оголенным, но цепким стволом, израненный снарядом куст – дрожал сам ствол и дрожали его рукастые ветки с растопыренными сучьями-пальцами.
«Не бойся, не дрожи, – сказал ему резонно Антон. – Я тоже тут сижу».
Негромко, но заполнено слышалась какая-то насыщенная трубная музыка, состоящая из широких и понятных на слух мазков, которыми прямо на глазах и лепилось это небо, этот дрожавший куст, эта мшистая трава, вмиг стиралось все, расплываясь, – и лепилось снова – чисто, просто и значительно.
Как же так? Теперь он этому поудивился. Он даже поспешно стал тереть-протирать глаза, сел в постели.
И для него еще пела-выпевала какая-то очень дивная трубная, хватающая за сердце, музыка (она еще не кончилась) – в минуту, в которую Маша умирала с облегчением. Один мазок, другой мазок, третий, а за ним четвертый, пятый и шестой – бесконечно звуки наносили вечность, успокаивали, умоляли в чем-то.
Ее былая сказочно-цветущая красота и молодые в избытке чувства, ее горловой напруженный голос и весело плясавшая улыбка, приводившие Антона, когда он видел ее, в смущение, сейчас противоречили тому, что было, было вопреки всему. До чего ж нелепо! Как несправедливо все на свете! Все навыворот. Зарождение новых чувств – и разрушение сформировавшейся уже жизни – физическая смерть. Да, смерть не разбирала, кого себе забирала; старых она не трогала, а молодых, пожалуйста, гребла. Раз – и кончено. Только б жить теперь, когда выжили под пятой фашистов. А тут умирать приходится. За что? Из-за собственных ее часов вандал-фашист убил ее…
Все сильнее, сильнее захлипала Анна. Плакала она и от очевидной несправедливости, явившейся к ним, – что приходится ее хоронить, ее, молодую, прежде себя.
Почти все в постелях задвигались, заворочались, и никто в доме уже не спал.
Умерла Маша – истончилась, стала вся как спичка. Опала. Куда только делась, высочилась силушка из нее?!
В этот день похорон – еще апрельский день – совсем все схмурилось. Насовывало дождик. Словно растолоченный мелко-мелко и густо плыл сильный запах земли, весны.
Гроб для покойной сколотил дядя Петя Нюшин. Могилу копали Наташа и Дуня, на горке, на втором деревенском кладбище (до городского уж было не дойти), – за бывшим ее родительским домом, только через речку, откуда до нее и Анны однажды донесся материнский зов с того света. Мать настойчиво звала к себе Анну, часто преследовала ее, а вот вперед ушла, откликнулась все-таки Маша. За могилу не нужно было платить никому, ни в какую кладбищенскую кассу, потому что ничего этого здесь не было.
Перед тем, как предать покойницу земле, Анна запричитала словно для себя:
– Повстречалась смертушка – и не предупредила. Скосила, как косой. Первая ты проторила дорожку туда. – И подумала: – «Разве первая? А Василий? Я все верю, что ль, в возвращение его? Но слова из стиха не выкинешь…»
Уже ногти у покойной посинели, поджаты губы, натянулись. Опять послышался тонкий-тонкий, ни на что непохожий, жалующийся вроде голос – опять начала причитать Анна:
– И на кого ж ты покинула нас, сестричка родненькая, за что ты так на нас разгневалась – рассердилась? Ведь одного я уже проводила… – Это она плакала и по Василию.
Временами находило на нее затмение – она путалась, как сказать: «на кого ж ты покинула нас?» или «на кого ж ты покинул нас?» Она хоронила Машу, но не меньше думала так же о Василии. О нем.
– Ой, зарастут пути-дороженьки,
По которым ходили твои ноженьки.
Не откроешь ты свои очи ясные
И не скажешь словечка ласкового.
Не утешишь больше своих сеструшек
И сыночка дорогого, малого.
Лучше б уступила мне свое местушко…
Так надо было, видно, причитать – себя вместо умершей предлагать; но Анна говорила пред покойницей только правду сущую, стучавшую ей в сердце и воспламенявшую ее.
«Вот тебе и приснившаяся тогда молодайка, та, которая раньше меня в печь легла вместе с двумя девчурками, – разгадала она давний сон. – И эти дочурочки ее – ведь это два ее дива-желания: чтобы во второй раз муж ее женился, чтобы, значит, мать была у сына. А-а… Сколько здесь иносказания… Мне бы лечь заместо… Край «как нужно»…
Также тонко стали подвывать Пелагея, Дуня; чаще и устойчивей послышались всхлипывания женщин, в том числе – и даже троицы из особой категории премноголюбопытствующих в совершении чего-нибудь подобного и близкого. Есть всегда досужие любители такого. Пустоты не терпит мир. Так устроено.
И летуче расходились, голубились над покоем Маши, над ее челом недвижным полыньи небес, обвевали землю молодой чарующей прозрачностью. Отрываясь чистыми щепотками, вился, опадал снежок с легко скользивших в беззвучной тишине подсинелых облаков; лепясь в землю обнаженно-черную, повисая на кустах, на свернувшейся траве летошней, он бесследно тут же стаивал, потому что погревало также солнышко апрельское, поплескиваясь на полях, деревьях, крышах, лицах; желтенькая мать-и-мачеха там-сям, повысыпав, проглядывала еще сиро, с робостью.
Был благословенен этот миг, необыкновенный, тонко красочный, единственный. И Антон увидал, безошибочно прочел во всю глубину холодящую дух красоту и чему-то устыдился вдруг, как мальчонкой устыжался он красивых глаз покойной тети, ее голоса певучего, грудного: власть красоты его поймала, повлекла с собой неудержимо. С неловкою оглядкой на мирскую суету людей, тебе близких и родных, обездоленных. Знал теперь он в точности: загоревшись духом творчества, он уже ринулся в безумную погоню без усталости. Сказать иначе, этот миг, прочувствованный им, означал рождение в нем художника. Из его бесчисленных начал – еще одно. Из неведомо-осмысленного.
Снежок тихо опускался, крапал, снежок таял. Скоро кончился.
Были скромные поминки по ушедшей: на них были только самые близкие; тетя Нюша, крестная, принесла какой-то мучицы, и Анна сварила из нее похлебку, и все по-тихому немножко посидели за накрытым скатертью пустым столом.
XI
Вскоре очень неожиданным было появление на пороге Полиной избы рослого нашего офицера с погонами (капитана) с полувиноватым и загадочным выражением на лице с дрогнувшими скулами. Тряпка выпала из рук Анны.
– Ой! – лишь вскрикнула она, захлупала веками.
Это был ее брат Николай, очень изменившийся за то время, как она его не видела.
– Ну, как вы тут? Сносно? Нашел я вас!
– Да вот, как видишь, брат, – они расцеловались.
Он присел на стул сам, не дожидаясь приглашения, и, сидя, все время переменял положение своих ног, как будто они у него деревенели, затекли. Да и передвигался он, Анна заметила, нетвердо, с осторожностью, что было странно для нее. Она, не дожидаючись, пока он, как следует, устроится на сиденье стула, принялась его расспрашивать о том, когда и где напоследок виделся он с Василием и что ему, Николаю, известно о нем, а он ничего существенного не мог сказать ей в утешение, хотя бы только подтвердить словами то, что Василий жив, здоров, воюет.
Анна словно разочаровалась в истине. Будто ей определенно подсунули не то, что она знала, помнила, видела, на что она рассчитывала в душе.
В дни немецкого нашествия бывало так: неважно, весной ли, в гололедицу ли, но лишь она ловила какой-нибудь слушок правдоподобный более или менее о будто бы виденных кем-нибудь вот-вот злоключениях Василия, нуждавшегося теперь в помощи, она, до испарины трясясь, выколачивая дробь зубами, ходила-бегала по всем окрестным селам – с замиранием сердца ей хотелось истинность в нем установить. Может быть, у видевших его либо слышавших что о нем как-то. И сколько раз тогда ее останавливали и допрашивали патрули немецкие; и она говорила без утайки всем, что ищет мужа своего – незачем ее задерживать. Только не нашла она ни человечка, кто бы мог хоть что-нибудь знать и сказать ей о Василии – что-нибудь определенное.
Однако перед нею тут уж был приехавший ее брат родной, фронтовик, кого призвали на фронт вместе с ее мужем и кто до момента формирования был около него, – и он-то тоже не мог ей сказать ничего определенного о нем! Анна огорчилась от этого. Брат немногосложно рассказал, что так удручающе подействовали на них, призванных под ружье (они точно в Калязине формировались), первые бомбежки Ржева: только после этого все они задумались и поняли, что никакие это не маневры временные – пахнет очень жарким делом, где ты пан или пропал. В три дня их всех раскидали по различным фронтовым частям. Складывалось тяжелей всего под Ленинградом, и многих, обув, одев, выдав оружие, отправляли туда. Василий именно туда попал. Там жутко как и сейчас. А его-то, Николая, кинули тем разом за Смоленск. Тоже было пекло подходящее, бои, сдерживание немцев.
– Извещение мы на него получили, – сказала Анна, всхлипнув жалостно. – О том, что пропал он без вести. А где, когда пропал – нет указаний. Сам догадывайся, что ль?
– Да, бывает так, что и нет очевидцев: сравняло с землей. Где могилу найти, когда, может, на воздух подняло все?
– Вот жалко: не застал уже ты Машеньку, схоронили за деревней, – тихонько, как при покойнице, пустив вновь слезу, сказала Анна. – Была вся белая, как коленкоровая.
– К сожалению… Я знаю то… – И с неловкостью он поправился на стуле.
– А ты как же, Колюшка, – на побывку только приехал или что?
– Нет, насовсем, Аннушка: врачи нашли, что я силушкой сдал. Им-то видней со стороны. Меня демобилизовали начисто.
– Вчистую, стало быть, отпущен? По ранению какому?
– Не по ранению, а по болезни.
И он рассказал, что у него получилось так на фронте: он был обут в валенках (известно: без калош), а было оттепельно, мокро, и он сильно ноги промочил. Когда они прибыли на место со своею частью, у него уже опухли ноги. Сильно. Так, что даже валенки мокрые с них не смогли снять. На его ногах их разрезали для этого. И вот ему дали теперь редчайшие документы. Стал он белобилетником, ненужным армии.
– Вот есть у нас в государстве такие врачи – хирурги, что у человека мертвого отрежут голову и приставят ему живую, и он будет еще жить, – еще витийствовал Николай, желая, по-видимому, этим самым показать, что он знает нечто такое, что другие не знают. – А я ведь что – живой покамест, и меня отослали домой, а лечить не стали – слишком дорогое, видать, это удовольствие для них. Врачей недохватает. Вот все учатся, а врачей все равно мало.
– Народ гнилой пошел. Нервный, – сказала Анна.
– Да. У меня желудок шалит. Как понервничаю – и все. Спокойной жизни нет. Вот что.
– Нету, – подтвердила Анна, – откуда она, спокойная жизнь? – Помолчала. – Ее, наверное, нет ни в мире, ни в Сибири, как говорится.
– Ох! Гнет нас, ломает.
– Не говори, Николушка. Не продыхнуть. Насилу-то бог дал – унесли мы от немца ноги при выселении. Лучше б сразу убить человека, чем его мучить так, как нас мучили. И, когда свирепствовал тиф, не знали, вылечимся ли или отправимся на тот свет, как другие болевшие им или заживо сгоревшие в полыме. – Потом Анна спохватилась, что должно, не то говорит при нем: все о смерти и о смерти – и побыстрей докончила: – Вон наш Сашка, мальчишка, был такой все-таки бутуз, что не ущипнешь. Как покати-горошек был. А теперь – какой?! Все мы захудали. Да работа эта – заступом вскапывать всю землю – слишком ведь тяжелая, а еды-то толковой нет никакой.