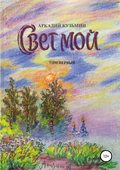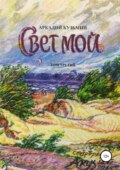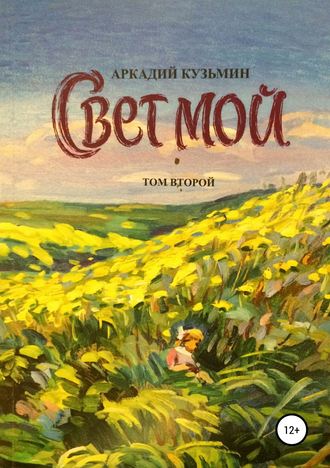
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 2
ХVI
Саша хоть и малый да удалый, взяв из чугунка картофелину, подхватил невозмутимо – в тон матери:
– Вот и хорошо, мам: мы зубы положим потом туда, на полочку, покуда нам не подадут чего-нибудь поесть. Любо-дорого. Глядишь, зубы не износятся до старости. – Счастливчик, он еще шутил!
Столом в землянке Кашиным служила откидная, пристроенная ребятами у самой стенки крышка стола – для сбережения полезного пространства подземелья, точно как в вагоне пассажирском; все за ним, естественно, не помещались сразу никогда – ели на коленях и по очереди.
– Да я что, не против; если можно так, отчего ж тогда не жить, зачем горюниться? Но вы ведь сами запросите с меня кусок…
– А ты не давай тогда, – дурачился Саша. – Пускай! Выносливее будем…
– Ну, глядите, дети, как хотите. На себя будете пенять.
– Все понятно, мам, – не выдержал игры Антон. – Сейчас мы пойдем в заказник, пошныряем там. Возьмем с собой санки, что ли.
Антон с Сашей охотнее всего нацелились туда потому, что там было у немцев обширное хозяйство и должны были быть продуктовые склады (Антон вспомнил снова тот картофельный погребок), – может, что они и бросили впопыхах – какую-нибудь картофелину или оставили конину.
– Ну, сходите. Обувь и одежка ваша высохли, позаскорузли. А Наташа, может, в город сходит и посмотрит, что к чему. Хотя какой город – название одно!
И, как всегда, Наташа прекрасными отцовскими распахнутыми глазами, взглянув на мать, точно заглянула в саму глубь ее души; Анна даже разволновалась от этого: она подумала о чем-то таком, что терзало ей душу.
Анна вновь подумала с гордостью о том, что если б не она, Наташа, то ей бы, Анне, не выдержать выселения, нет, не выдержать. Да, насколько прежде, до войны, она, казалось, была не очень надежна, даже совсем ненадежна (в доме за старшего, бывало, не случайно оставляли не ее, а Валерия), настолько теперь переменилась в лучшую сторону – стала лучшей помощницей матери. Это проверилось как нельзя лучше во время выселения. Анна к ней, ее советам уже прислушивалась точно. А где-то, в каких-то случаях, Анна заметила, Наташа и даже командовала ею. Это было как-то внове, странно. Но и с этим Анна смирилась – слушалась ее, когда был сразу видимый толк. Просто то взрослели дети у нее.
Уже вчера Антон и Саша шарили по ближайшим немецким блиндажам, однако ничего съестного в них не обнаружили. А в одном из них, принадлежавшем в овражке немецким артиллеристам, чуть не взлетели на воздух, – он оказался, как рассмотрели ребята получше, заминированным: тянулись проводки от минного устройства.
Не взлетели они потому лишь, что не вошли в него, а влезли через пустой оконный проем. После этого Володя и Саша обходили немецкие блиндажи поосторожнее.
Но сегодняшний поход братьев в заказник тоже ничего не дал практически – ничего существенного. Отсюда гитлеровцы, по-видимому, все-таки не драпали с поспешностью и потому повывезли все с собой; оставили они лишь то, что обременительно-тяжело было им тащить с собой в распутицу, – лишние снаряды, гильзы, порох – целые горы его в круглых шелковых мешочках, что стопкой закладывались при стрельбе в снарядные гильзы… Не удалось им также обнаружить и памятный картофельный погребок – он как будто сквозь землю провалился. Да и все-то кругом было перепахано неузнаваемо. Пошарив, нашли в кустах двое финских саней, а Саша подобрал исправный карабин, хозяйственно повесил его себе на плечо.
– Да брось ты эту гадость, – пытался Антон урезонить его. – Зачем он тебе?
– Как зачем?! – не колебался Саша. – Постреляем. Ведь патроны-то тоже есть. Горы!
В нем неистребимая страсть к собственному познанию всего того, что как стреляло, взрывалось, начинялось и отвинчивалось – на примере столь многих брошенных трофейных средств ведения войны – вспыхнула с особой новой силой; у него даже глаза горели жадно, восхищенно оттого, что все можно самому потрогать, самому взорвать. Бесполезно было образумливать его, ссылаясь только на опасность таких экспериментов: он посмеивался лишь и ликовал.
И эти авантюрные Сашины влечения удручали Антона своей непонятностью для него. Да неужто же мальчишечья натура того требовала настоятельно?
ХVII
Опять млел теплый мартовский день. Весна, не раздумывая, шла себе. На солнышко – просушиться – Кашины повытаскивали из землянки одеяла, скудные постели, одежду. И Таня в одиночку заигралась под первой яблоней: заговорившись сама с собой, как бывает у детей, она в подражание старшим (все-таки какие люди – обезьяны) мастерила какое-то убежище для себя и куклы – комка тряпок – и запрятывала ее туда. Кутала в другие тряпки.
Она была заигрывающимся ребенком, потому и не заметила вовремя той реальной, показалось вдруг ей, опасности, как с бывшей деревенской улицы свернул, направился сюда и подоспел высокий военный офицер в белом полушубке с ремнями, не успела она спрятаться ни в свое убежище и ни в настоящую свою землянку. Он был с красной звездочкой на шапке-ушанке, но Таня ее не видела так как очень испугалась: она подумала, что это опять немец. Пришел за ними. Что ему здесь надо? Хочет всех их забрать опять?
– А где твоя мама, детка? – громко спросил, приближаясь, военный.
Но Таня, не отвечая, а потом закричав, уже пустилась прочь от него; она бежала, крича и оглядываясь, а он, ничего не понимая, шел вслед за ней. И с немалым удивлением, остановившись затем, смотрел, как девочка спряталась от него, закрыв руками лицо, в юбку вышедшей в это время из землянки Наташи.
Она дрожала всем маленьким тельцем, и Наташа ее успокаивала как могла:
– Ну что ты, что ты, Танечка! Успокойся же: ведь это свои!.. Наш, советский дяденька. Не бойся, малая, теперь…
– Здравствуйте! – сказал советский командир. – Отчего же она испугалась так меня?
– Видите ли, она подумала, что это идет немец. Вот и все.
– Ну, вы, ради бога, извините уж меня. Дочка, извини. Я русский, дочка. Командир. Немцев мы прогнали дальше. Они больше не придут сюда.
Таня, повернувшись наконец к нему, только согласно кивнула головой, улыбнулась и просиявшие глаза от радости, что все обошлось, прикрыла. Но еще дрожала. Наверное, еще долго будет так пугаться и вздрагивать – наследие оккупации.
– А можно мне видеть вашу мать? Кто у вас тут старший?
– Мама у нас есть. Вы входите. – И Наташа предложила ему войти с ней в землянку, пахнувшую затхлостью после улицы.
Краска кинулась в лицо хлопочущей над чем-то Анны, едва советский офицер с ней поздоровался и извинился перед нею за свое вторжение сюда:
– Случилось что?
– Нет, не беспокойтесь, мать, – четко, по-военному, заверил и назвал ее даже матерью совсем не молодой военный. – Однако я пришел затем, чтобы вам сказать, что дольше жить в землянках, мать, нельзя. Советская власть кладет на то запрет – есть приказ.
– А я было подумала что-то… Так вы говорите: нельзя уже жить в землянках?
– Да.
– Почему?
– Да весна, от ней обвалы, сырость, мать; болезни могут быть – негоже так, бесчеловечно…
– Тогда, товарищ командир, вы посудите: как же жить-то нам, коли нет у нас собственной избы – ее порушил немец? Растащил по бревнышку…
– Вы перебирайтесь в избы уцелевшие. Тут такие еще есть.
– Да, частично сохранились. Верно.
– А ведь иные села дочиста сметены…
– И целые даже города. Взять хотя бы Ржев.
– Вот видите!
– Но понравится ли наше самоуправство законным владельцам, когда те вернутся домой и застанут нас у себя в доме? – резонно спросила, сомневаясь, Анна.
И военный легко разубедил ее, сказав с уверенной ноткой в голосе:
– Придется законным владельцам покамест потерпеть и пожить по нескольку семей в одной избе. Такой уж приказ. Потом все разберется и устроится.
Что там говорить, несравненно лучше б было перебраться из землянки в избу. Даже хотя бы те две вынужденные ночевки в Панинской избе позволяли теперь невольно делать сравнения в пользу избы, а не сырого и затхлого подземелья, где не хватало воздуха. И кому же не хочется жить в более нормальных условиях? Потому, поколебавшись отчасти, Анна только попросила командира своей властью лично определить ее семью в какой-нибудь дом. Чтобы не было никаких недоразумений.
– Да вон ту я уже осмотрел – она сейчас пустует, – выйдя из землянки, показал офицер на первую же отсюда – Лизаветину избу. – Занимайте.
Изба эта, довольно вместительная, была, собственно, лишь частично Лизаветиной, не вся. В ней когда-то жила тетка Семена Голихина, Прасковья Устинова, с взрослым племянником Степаном. Однако Степана, как железнодорожного работника, в тридцать седьмом году послали работать в Обовражье, так что она осталась в избе одна. Кухню она расчетливо продала новоселу кузнецу Ивану Гурьеву с тем, чтобы он обеспечивал ее старость, больше было некому (с Семеном она раздорилась). И занимала только просторную горницу. Перед самой же войной старуха умерла, успев между тем совершить продажу горницы соседке Лизавете, которая метила заполучить весь дом для своих подрастающих детей, поскольку у ней и стояла еще крепко рядом изба собственная. Поэтому никто из Лизаветиного семейства пока не жил в новокупленном доме, а вселились туда Шутовы, которые перебрались уж потом, когда вступили сюда немцы, в ставшее ничейным школьное помещение – бывший дом раскулаченного Трофима.
Анна прикинула: ни Лизавета, ни Шутовы пока не объявились. Может, действительно, перебраться, ежели приказывает сама власть… И Наташа ее поддержала. Закипела тотчас работа. Анна, управляясь вместе со своими, даже преобразилась на радостях, вслух спрашивала у детей:
– А все-таки: что ж с Полею произошло? Нет и нет ее. Где ж она запропастилась только? Ее сейчас нехватает.
Как будто Анну томили невысказанные думы совершенно о другом, подгоняемые сознанием подлинной свободы. Или ей было совестно за свое благополучие, когда у других его еще не было.
Аннины ребята нашли, натащили в дом Лизаветы необходимые фанерки и позаколачивали разбитые окна, затопили лежанку, поскоблили, помыли полы и уже кое-какие вещи и посуду сюда приволокли, когда заявилась, как снег на голову, сама Лизавета, что командир.
Она с семьей только что вернулась тоже домой – и вот застала врасплох Анну. Словно уличила ее в чем постыдном, нехорошем.
Простуженным скрипучим деревянным голосом загудела, будто в Иерихонову трубу:
– У-у, пронечистая сила! И тут успели… Небось, все порастащили из землянки и втюхались уже в избу… Вперлись опять на готовенькое… Нате вам, пожалуйста… Что, мы разве звали вас сюда?!
Анна стушевалась (она к тому же не выносила бабьей ругани и блажи, даже бабьих пересудов), пробовала так и сяк объясниться с ней:
– Не самовольно, Лизавета, мы пришли; командир велел, определил сюда. Говорил: вышел приказ такой – из землянок нужно выбираться. Мне-то что…
– А я командиров и начальников никак на мой дом не признаю – убирайтесь! – только прошипела та. – Совесть поимела бы! Словно черти поганые! С детями своими.
И пошла, пошла честить. Порасходилась.
И уже чихвостили также взрослые Лизаветины доченьки, прямо-таки остервеневшие. Налетели – даже и молотки с клещами схватили, запрятали: дескать, наши! Не трогайте их! Да и подоспевшие сюда Шутовы накинулись, кусались; чуть ли не врукопашную они полезли: у тех тоже своей крыши не было. Лизавета ж в ругани на них опиралась – они-то по духу своему были ближе ей, породнились с ней.
Накричавшись, Лизавета со своим племенем выкатилась вон из избы. И Наташа сказала, удручаясь:
– Уф! Что сверчок верещит – проверещал над ухом.
– А голос какой пронзительный, – подтвердила, также отдуваясь Анна, – оглохнешь. Все внутри у меня задребезжало сразу. Вот как могут люди…
– По-моему, у нее, как она увидела нас здесь, позеленело все внутри, не только сверху – такая противная стала баба.
– И один человек, а другим ничего будто не надо… Да, девкой она была как девка, помню; бабой стала – ведьмой стала, точно. Вот не вру. Кто-то еще говорил нам про нее, что со смирных девочек и бывают потом такие ведьмы-тещи.
Значит, судьба опять свела Анну с теми односельчанами, от которых она фактически сбежала неделю назад. Не думала она, что выйдет так. И, казалось бы, время теперь изменилось вовсе, – это и должны бы все люди понимать и уже не выставлять напоказ свой гонор. Однако неприязнь, родившаяся во время оккупации, еще продолжалась, видно, по-старому; просто была заложена в людях паскудность такая, что вовремя общей беды в них поднималось самое худшее и выпирало наружу. На виду своих же детей. И с ними-то приходилось (хочешь – не хочешь) жить бок о бок. Как подумаешь, так одно расстройство.
И Анна, несмотря на безвыходность своего бесправного положения, лишь подумала, ужаснувшись снова почувствованному: «Что наделала все-таки с людьми война, оккупация: так разобщились все – идут наверняка отголоски оттого!»
Что ж, бежать опять куда-то за расселяющим их командиром и жаловаться ему на соседей, чтобы он их разобрал и помирил? Где ж его искать? Да и зачем? Свои же уже век ее обижают. Так не проще ль будет отступиться от решения вселиться в Лизаветин дом? Подальше от греха. И чтоб не видать постоянно эту Лидку Шутову, кривящую свои губы. Главное, не встать, суметь не встать на одну доску вместе с ними, горлопанами. До сих пор ей это удавалось, как ни тяжело. И теперь должно то статься.
И Наташа, и Дуня также уступили – высказались в лад ей:
– Ты знаешь, мамуленька… Давай отвяжемся. Будет лучше. Себе дороже…
Это сейчас как-то поддержало Анну в равновесии и устойчивости ее мыслей.
ХVIII
Неведомо, как она все, что уже было, вынесла; но на нее – она постоянно видела – глядели шесть пар только родных детских глаз, и они-то прибавляли ей еще и еще немного сил, чтобы противостоять дикому насилию. Теперь, когда оно вроде отдалилось от семьи, она чаще стала слышать, чувствовать в себе недомогания, причем голова побаливала, как бывает перед какой-нибудь заведомо определенною болезнью, дающей знак о том.
А может, это было просто от усталости; ей требовалось просто отдохнуть от всего решительно, чтобы хоть немного разогнуться, оглядеться. Время-то какое было. Ей хотелось снова обрести покой, пожить вместе со своим Василием, чтобы никто не волен был забирать, убивать мужиков. Она, может быть, и отдохнула б, но нельзя было расслабиться, чтобы успеть что-то сделать для порядка в доме до того, как она с ним встретится, о чем она и должна скоро что-то узнать.
Парусом надувало и трепало на веревочке, зацепленной за сучки растопыренных яблонь, посаженных давно Василием, скатерть. И Анна, глядя на нее, думала о том, что хотела теперь жить и надеяться на все, на что надеется человек, попавший, несмотря на всеобщую погибель, на волю, в этот мир благодати, живущей чем-то своим помимо воли человеческой. Как та пурга, которая сопровождала их во время выселения и теперь все еще свистела в ее ушах, даже донимала временами.
Но совсем тошно, грустно Анне сделалось, только она оказалась вновь в своей как будто еще больше сузившейся – и пусть сырой, убого темной, но все-таки своей землянке, куда больше и никто не сунет длинный нос. Так вспыхнувший было пламенек радости потух. Выходит, что напрасно понадеялись выбраться в избу честь по чести.
И ей опять с горечью подумалось: «Вот когда мой мужик был дома, все охотно прибегали к его помощи, нуждались в нем, его руках; а сейчас нас совсем не жалуют соседские, кругом шпыняют… Уж скорей бы известили наши власти, где он, что же с ним. Дождусь ли?»
Да, вскоре отлегло от сердца под влиянием того, что штопавшая свою серую кофту Наташа запела романс – так, как обычно она пела – с накатывавшимся проникновением (в его словах таилось нечто неясно волнующее):
Цыганский быт и нравы стары
Как песни те, что мы поем
Под ропот струн, под звон гитары
Жизнь прожигая, зря живем.
Прощаюсь нынче с вами я цыгане
И к новой жизни ухожу от вас,
Не вспоминайте меня цыгане,
Прощай мой табор, пою в последний раз.
Эта прочувствованная Наташей песня сейчас предвещала что-то хорошее слушавшим ее, как и самой поющей. Анна посидела в некоей задумчивой меланхолии – и, не успела Наташа кончить петь, принялась снова готовить, хлопотать возле печки, вертеться туда-сюда.
– А что бы я играла, хотя бы на гитаре, – сказала потом мечтательно Наташа. – Я так всегда хотела… Э-эх!
– Денег, доченька, не было, чтоб купить тебе гитару, – очень нежно-мягко сказала Анна. – Ведь и отец хотел купить. Вон как молоко – помнишь? – вы продавали, когда корову мы держали, вместо того, чтобы пить молоко самим. Вот как. Ты тогда в третий класс уже ходила, Валерий – в первый. И вы носили молоко на место – одной хозяйке в город. Молоко-то раз продали, а за городом грязь (по ней и я, помню, еще хлябала в школу и из школы), да еще огромная свинья к вам привязалась. Вы как побежали от нее, деньги где-то и потеряли и бутыль трехлитровую разбили. После этого стала та хозяйка зашивать вам деньги в карман. Нет, не до гитар нам было, доченька, ты уж извини нас, родителей. Деньги мы не пропивали… И не проедали на конфетках…
– Мамочка, до что ты, родненькая, говоришь такое! – обиделась Наташа. – Для чего? Мы, дети, разве выбираем как себе родителей? Они у нас единственные, навсегда; нам очень любы, дороги они, и мы-то будем всегда благодарны вам за все, это-то я знаю уж… Это просто на меня что-то находит тем сильней, когда чего-то, чего хочешь, нет, что обязательно мне нужно как бы собой выложиться в чем-то, понимаешь. Вот и все. Потому и петь вдруг захочется…
– Я понимаю тебя, девочка, – хотела Анна кстати повести с ней задушевный материнский разговор (потому и в горле у нее запершило), который нужен был, как ею чувствовалось, им обеим в равной степени. – Я давно… – И, привлеченная тем, что кто-то посторонний, большой, придерживаясь руками за углы, сопя, приседая и вглядываясь, спустился к ним (да никто иной как Поля, Полюшка!), она оглянулась и уже, признав, воскликнула: – Ох, ты! Родная ты моя! Прибыла! Жива!
И они расцеловались.
– Еще плохо различаю с улицы, – в возбуждении начала Поля, осунувшаяся, но деловитая, как обычно; блестела, кажется, загорелым лицом и глазами, прослезившимися от радости встречи. – Все вы дома? Все у вас благополучно? Когда пришли?
Вот тотчас заговорили вперебой. Потом Поля села на подставленную табуретку, платок распустила с головы, пальто расстегнула – запарилась вся: спешила сюда, как увидела игравших на улице ребят. И разговор упорядочился сам собой.
– Ну, наконец-то и вы добрались до дому, – радовалась искренне Анна, – вскакивая. – А то что ж такое: мы третьего дня пришли к себе, а тебя все нет и нет – где-то заблудилась… А ведь намного раньше нашего из той конюшни удрала. Как же долго вы шли-ехали! Какая же задержка вышла? Ну, рассказывай!
– Нет, ты сначала… Ну!
ХIX
Поля со свойственным ей жаром рассказала Кашиным прежде всего о том, что тогда же она по уговору с ними долго прождала их на окраине деревни Карпово, пока не заледенела на пурге и не заподозрила недоброе; а Анна сообща с Наташей и Дуней поведали ей про то, как тогда они попали в самый скверный оборот, что их зацапали эсэсовцы, только сунулись они целым караваном с малыми – пятеро семей. Зато дальше Поле и нечем похвастать было: ее преследовали сплошь неудачи – она со своей матерью бегала и ползала от драпавших немцев везде, как только могла. Их чуть не пристрелили наскоро, но откупилась она кое-чем последним. Потом отсиделись тихо в закутке каком-то, зарывшись в хлам. И спасибо – подвезли потом, т.е. сейчас, сюда наши военные. А Кашиным, напротив, потом, как они рассказывали, повезло чуть-чуть, что они в том же своем первоначальном составе в количестве семнадцати человек вытащились из спасительной землянки и достигли дома в целости. За несколько дней. Достигли, хотя и по ним немцы стреляли тоже, не пугая, – наяву. Немцы были немцами.
Поля на это только приойкнула удивленно и покачала головой, глядя на возмужалую Анну как-то по-новому и находя ее какою-то особенно красивой. Она уже освоилась глазами с тесноватым подземельем Кашиных, слабо освещенным поступавшим светом сверху, лишь в оконце, точно в боковой люк; сидя на табуретке, она опять платок поправила, освободила от него скупыми, рассчитанным движениями больших загрубелых рук спутанные жесткие волосы, всю крупную голову, – было здесь нагрето, или она сама настолько разогрелась. Печной дух исходил от обмазанной раствором глины печки, замыкавшей убежище.
– Да? Ну! Ну! – вскинулась она с сильнейшим оживлением. – Они все-то к тебе, Анна, добавились, и ты их вела, так?
– Не могла ж я, Полюшка, их отбрить, отпихнуть от себя, как другие даже мужики.
– Ну, разумеется, нет! Об чем речь?…
– Мы спаслись, наверное, только благодаря своей настойчивости и независимости. Когда я еще в тот вечер попросила Семена Голихина взять нас с собой, он мне ответил хлестко, свысока: «Всех вас не ужалеть мне одному. Каждый должен о самом себе тут позаботиться». Вот и все. А меня такое зло взяло…
– Умница ты, Анна! Ишь, каким он дипломатом повернулся! Да, и на войне вот, оказывается, так бывает: кто речьми, а кто плечьми. Люди лучше проверяются.
– На меня же там, в землянке, даже бабы уже глаза выголяли, тявкали, – пожаловалась Анна. – Видать, лишь за то, что не спустила им бездушия, что неплохих ребят нарожала, что будто застила всем свет. Оборзели начисто. – И неожиданно прикрикнула, срываясь голосом: – Антон, Саша, перестаньте вы шуметь, спорить… Дайте нам поговорить! Я не понимаю: взрослые ж!..
Саша и Антон какой-то порох рассматривали – спорили меж собой.
– Тьфу, канальи бесстыжие! – ругнулась Поля. – Распустехи! Плохой тот кобель, который на своем дворе брешет, палки не знает.
– И хотя бы кто, когда клевали там меня, заложил, замолвил за меня, за нас словечко – нет, ни боже мой: все словно воды в рот набрали или язык слопали. Как и надо. Ой, спасибо тебе, Полинька, за понимающее твое сердце. Нам-то очень недоставало тебя там. Вспоминали.
– И все-таки сейчас мы дома, – сказала, точно напомнив об этом, Наташа.
– Не говори, – продолжала Анна. – Что мы пережили, что перенесли – непостижимо; нам как-никак повезло: даже до сих пор не верится, что живы. В свой ботинок и ночью наощупь влезешь ногой. Родина спасла нас. Не знаю, что бы с нами было, если бы мы оказались в эти тяжелые дни вдали от нее. Ведь за нее держались, как дети, за мать.
– Истинно, – сказала, помаргивая, Поля. – Я-то зачем еще пришла к вам тотчас – еще не разупаковалась, хотя, собственно, мне и разупаковывать-то нечего. Я пришла к вас с предложением: переходите-ка вы жить ко мне, в избу.
– К тебе?
– Да, а что? Изба ведь большая, все равно пустует… Перетаскивайтесь! Что же будете вы мытариться и дальше тут, в сырости? – Поля точно этим самым и давала понять наперед, что она снова берет на себя какую-то часть браздов Анниного правления семьей, облегчая тем самым долю Анны.
– Сегодня мы уже разок попробовали перетащиться – в Лизаветину избу, – призналась Анна, покраснев. – Один советский командир нас туда определил, пришел к нам и определил туда; сказал, что приказано нашей властью больше не жить населению в землянках. Да та распорядительница, сама Лизавета, некстати заявилась, выгнала нас. Уж она нас лаяла, лаяла… Лаяла, лаяла за что-то. И такие мы и сякие. Захапали все…
– Ну? – привставшая было Поля, для того, чтобы идти, присела снова, заморгала часто глазами.
– Такая базарная баба. Я никогда о ней так не думала… И она даже не помнит, «спасибо» не сказала, что, когда лежала в нашей избе в тифу, сколько Наташа за ней ходила, как потом учили ее ходить – ноги у нее отнялись… Все это забыто… Мы – хапуги, и все тут…
– Так-так-так. – И Поля вдруг скривилась в лице и заплакала. – Такая семья у тебя, Аннушка, – и вот тебе приткнуться некуда? Немедленно пошли ко мне, слышите! Я как чувствовала. Сердце мое ныло-поднывало.
– Полюшка, спасибо. Да ведь я со своею ребятней сильно стесню тебя – смотри, закаешься потом… Сама хлебнула лиха.
– Ну будет, будет тебе извиняться. Стыдно! У тебя-то не изба же – сюда всякая вода вмиг сейчас нахлещет, что ты, право…
– Для обезопаски мы уже весь снег сверху – с перекрытия – срыли, скинули. Чтоб не затопило нас.
– Все равно вода насочится и набежит, как в колодец. Идемте, я говорю.
– Надо же, наверное, со Степанидою поговорить насчет этого…
– А для чего?! – повысила голос Поля. – Совсем необязательно докладываться ей, скрипучке. Изба у меня вместительная. Нас же только двое. Так что места хватит всем, родные вы мои. В тесноте, да не в обиде. И для хорошего дружка и сережку из ушка. – И потому, с какой радостной дрожью она говорила, это было видно, что она тоже соскучилась по Анне, по Дуне, по их ребятам, и что в этом возобновляемом общении с ними она испытывала для поддержания своего духа потребность не меньшую, чем они в ней.
И, как в дни оккупации, в конце 41-го после того, как Поля съездила на лошади на три дня под Старицу, на фронт, Кашины заметили за ней одну особенность: новой, непривычной для них чертой в ее характере явилось почти равнодушное отношение к таким вопросам, о которых прежде волновалась больше, – о лошади, о сене, о лесе, о доме и так далее, – так и теперь в ее характере заметно было рождение еще чего-то нового, словно на нее нашло новое откровение, или дальнейшее его развитие, яркое, несдержанное. Она сама-то принимала это, как должное.
Наверное, прав был Антон, своим мальчишечьим чутьем предугадавший увлеченность Полиной натуры: ему с ней и было потому всегда интересно постигать и открывать для себя мир – она тоже увлекалась им без оглядки. Уже на выходе Поля, как бы вспомнив, спросила у провожавшей Анны:
– Ну, а что же остававшиеся здесь прихвостни немецкие смылись-испарились? Не знаешь?
– Как же: в день нашего возвращения сюда сам Федоскин к нам подошел. Елейный. Удостоил чести.
– Ну! Ну! Он не сбежал?
– Да, самолично. Как будто с повинной передо мной.
– Вот как его выворотило… Туда-сюда… Мужик еще!.. Эх ты, заяц косой! Куда ж ты забежал скосу?
– А я разве тут судья ему? Совесть должна каждого судить.
– Да, уж не помогут ни гром, ни гроза, ни материнская слеза. Не жди. Мол, против силы ничего не сделаешь, не попрешь. Это рассуждения потом у людей бесчестных задним числом. Знаем мы… Так не канительтесь вы – переходите на житье ко мне, пока день не кончился – сегодня же!
На том с Полей и сошлись Кашины: сейчас они пообедают и начнут перетаскивать вещички. В который-то раз.
В этом человечном разговоре с ней Анна будто освежилась вся и опять, глядишь, взбодрилась, как от нужной порции оздоровляющего так лекарства. А картофельный и капустный дух – в печке варево томилось – совсем вернул ее к действительности, в которой снова приходилось что-то делать, чтобы дальше жить. И она насовсем забыла в этот день, что хотела славно с дочерью поговорить, – перебилось все.
XХ
Для чего ж люди живут? И в чем же истинном, собственно, видят они смысл жизни для себя? В бесконечном самонасыщении всем доступным – сообразно только возникающим желаниям иметь чего-нибудь? Такова ведь, в общем-то, ее сложившаяся общепринятая примитивная модель, легко всеми видимая, узнаваемая, достижимая (если не в большом, то в малом)? Но мало кто осмысливает ее в муках собственных и так уберегает от фальшивленья ум свой, чтобы жить осмысленно-мудрее, органичнее. Куда до этого! Все меньше – в захлестнувшей гонке. Задаются главным этим-то вопросом, все переосмысливая за собою, только считанные – мудрецы – самые способные к самопознанию, к самоконтролю. На мнимо просвещенный ходовой взгляд большинства – это только чудаки, личности заведомо немодные и даже очень неудобные в нашем быту, с каких сторон ни подойдешь. Для большинства людей смысл собственной жизни, или человеческой вообще, им точно видится лишь в готовно и услужливо, что ли, подставленной к их колыбельке плоскости, что все вечное – Земля, Солнце, вода, небо и растительность, и животные, и птицы, и рыбы – навсегда дано нам вместе с нашим рождением, как чудесное, бесплатное везде приложение; знай, жми себе и выжимай свое, сколько можешь, из всего, наслаждайся до упору, до пресыщенности полной, пока ты живешь, пока есть чем наслаждаться, пока ласково тебе светит, греет тебя Солнце. Пока этим еще можно пользоваться. Завтра, может быть, и поздно. И это, если сравнивать с чем-нибудь наглядно, нам следует совершенно сознательно стараться и не знать того (этому уж научились мы в тепличности условий, с соской), насколько трудно строился наш зыбкий дом, в котором живешь при неулаженных вокруг людских взаимоотношениях и совсем разлаженных уже – с самой природой.
Во Вселенной мы в каком ряду и качестве находимся? Известно ли кому?
Есть вещи пока только допустимые.
Однако, если только допустить, что ее, Вселенной этой, организм, или механизм, как таковой, вполне здоров и чем-то как-то управляется в существовании своем, то ведь может вполне статься в конце-концов, что обозримая нами ее мировая часть не есть что-то целое, законченное, а есть лишь всего-навсего строительная клеточка еще огромнейшего организма, который в свою очередь движется, функционирует по своим особенным законам, и что черные дыры, которыми всех пугают астрономы, являются, не более как переходами из одной такой микроскопической клеточки в другую с аккумулированием межзвездной, может быть, энергии, непонятной, недоступной еще нам.
Где предел Мирозданья? И где предел приспособляемости человеческого организма к добру, к ненависти, к богатству, к нищете, к лишениям, к нагрузкам? Может быть, мы, человечество, в стихийно-хаотическом своем развитии уже перешли границу соразмерности сосуществования на Земле и ныне однобоко разрастаемся, ничего не признавая – никаких таких удручительных факторов, точно опухоль-нарост? Что тогда? Спасут ли положение землян одни научные конференции? И железобетонные доктрины, позволяющие выжимать деньги из всего – для себя и своих детей?
Для чего жила Степанида Фоминична, Полина матушка, было неизвестно никому. Она все еще позволительно себе приставлявшаяся, как могла, неисправимая саможалейка, истерично-озлобленно рыкавшая, ноющая и слезливая, а никакая не врожденная калека, – она лишь прибавляла, как нередко бывает, забот дочери. Она нисколько не умнела, стараясь, пережив и оккупацию немецкую: своих заблуждений не оставила, хотя у ней ничего из этого не получалось никогда.
И много повидавшая всего Анна удивлялась к случаю на нее вновь и вновь, только с семьей поместилась в Полиной избе, на постоянном, значит, виду у этой брюзжалки и ненавистницы без всякого уже, казалось, повода.