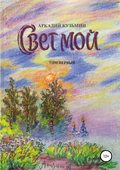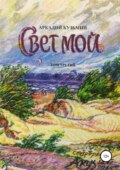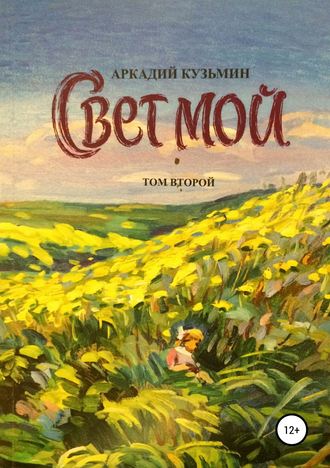
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 2
Безлюдьем так пахнуло – из могилы словно.
Сердце сжалось, замерло, тихонечко опять забилось.
Почти отсюда начинаясь, тянулся во всю ширь, насколько хватало глаз, уклон местности, перед тем как где-то вдали ей опять начинать постепенно возвышаться, и там, посередине же, словно в некоей впадине, с кое-где раскиданными по ней чахлыми деревцами, кустами и двумя-тремя разбитыми строениями, извивалось ровнехонькой застылой лентой, шириной, может, метров в двести, белое пространство Волги.
Совершенно пусто, грустно, тягостно было в этом разоренном раздолии, объятом вымершей тишиной; лишь звучно хрустел, продавливаясь и уминаясь, под ногами идущих снег да громко и тревожно каркали вороны.
Прасковья, свернувшая с большака влево, по цепочке тем не менее свежих следов, предупредила:
– Будьте аккуратней тут. Не сворачивайте никуда. Мины могут быть.
– Ага, вот куда, – почему-то промолвила Дуня и вздохнула так неутаенно, захваченная чувствами, которые поднялись само собой – от обманчивого ли приволья, раскинувшегося перед нею вновь, или от того, что здесь только что происходило и что ей самой уже довелось испытать и с чем она опять соприкасалась по суровой необходимости, поскольку больше некому было.
Когда, как-никак запарившись от тяжелой ходьбы, Дуня наконец подошла на скате снежного поля к убежищу, где лежала теперь больная и избитая Маша, ее чумазый сын Юра, одетый, как попало, жарил над уличным костром на железном прутике какую-то темную фабричную кожу от чьего-то ботинка: он и мать уже четыре дня ничего не ели.
Сглатывая соленые слезы, осклизаясь на ступеньках-выбоинах и нагнувшись – низок был убежицкий лаз, Дуня соскользнула куда-то, в земляную затхлость могильную, в полусвете различила контур тела лежащей на досках под накинутым покрывалом уже остроскулой сестры с ее черными разметавшимися волосами, с ее больше покрупнелыми и еще живыми небесными глазами, которые теперь уж не распахивались, не сияли, а казалось, только открывались сами по себе по тихому, еле-еле, и с каким-то екнувшим душевным смирением перед ее покоем этим – рвущимся почти шепотком ласково окликнула ее, сказала:
– Маша! Машенька! Пришла я к тебе! Поесть вам принесла. – Кинулась в объятия.
– А-а, Дуняша, здравствуй! – тотчас, признав сестренку и подскрипывая, может с некоторой замедленностью голосом приболевшей, отозвалась Мария, шевельнулась и прижалась к ней лицом. – Ну, вот: наконец дождались мы кого-то… Милая моя! Ты одна?
И Дуня, как ни готовилась внутренне к худшему, почти лишилась чувств от этой убийственно грустной встречи. Кто бы мог подумать и представить!
– Сейчас, родные вы мои! Перво-наперво подкормлю я вас… Завтра отвезу тебя в Ромашино. На санках высидеть-то сможешь?
А Маша даже ее успокаивала: находила в себе силы! Надо же…
Назавтра было так, что полный день (опять сырой) Дуня, закашливаясь вновь без видимой будто бы причины (то астма проявлялась в ней), на салазках тащила в Ромашино пожелтелую, покорно сидящую сестру, превозмогшую и слабость и неослабно тупую боль во всем теле, которая, как беспрерывные сигналы, молоточками выстукивалась в ее гудевшей голове и которую она старалась уже не слышать. Просто-напросто махнула на нее рукой, тоже ослабленной. Юра по-взрослому следовал за салазками, а где и подталкивал их, пыхтя.
Таким негаданным полукружьем возвращалась Мария к колыбели предков своих, где и она родилась, узнала и запомнила на всю свою жизнь заботливую нежность их рук и где она ныне безропотно, уже не докапываясь, во сне ли или наяву, передавала себя, как снова маленькая, дитя, в заботливые руки столь милосердных к ней родных сестер.
Пускай, пускай они делают, что хотят и как знают – лучше так; пускай все идет своим чередом – возвратным. Она не сопротивлялась этому.
ХXVI
В избе Поли положили Машу на кровать там, где было бы лучше всего для нее и всех, – в самом удобном пространстве между задней стеной и стоящей параллельно высокой лежанкой, заслонявшей это пространство; положили ее таким именно образом, чтобы, главное, было ей достаточно тепло всегда и не было сквозняков, чтобы при долгом лежании не бил из окон в глаза ей резкий утренний и дневной свет и, следовательно, не раздражал ее и чтобы остальные все жильцы, поневоле толокшиеся в избе, меньше беспокоили своим присутствием.
Маша в самом деле, все удостоверились, была очень худа, ранена; она столь разительно истощала, пожелтела вся, что при виде ее, дотоле веселой, заводной и бойкоголосой, в такой невероятной, немыслимой беспомощности и худобе (куда что только делось?), на Анну, которая немедля стала выхаживать ее, стараясь хотя бы уменьшить ее мучения физические, нашло настоящее отчаяние. Оно отупляло, сковывало ум. Тем более, что Маша, как и не скрывала ни от кого, сама уже категорично не готовилась встать снова на ноги, расправиться; она в точности, точней самого мудрейшего доктора, знала это самое, потому как знала свое состояние, и поэтому заранее, значит, приготовила себя соответственно… Трудно в то поверить: разве? Разве она способна на такое? Но так было теперь действительно. Хочешь – не хочешь, мирись с этим.
И более того. Только что справились с тем, что получше (и отнюдь не помягче) уложили Машу в чистую постель и накормили, она сразу же заговорила с Анной – словно бы рывками после бега, с одышкой – о наиболее, видно, существенном, что бы еще могло что-нибудь значить для нее и занимать ее воображение и разум, заговорила словно бы в неоспоримой уверенности (о которой все, по крайней мере, должны знать), что у нее уже потом не будет, не останется для этого ни нужной твердости, ни ясности и ни минуты лишнего времени, какое еще есть.
Все верно, может быть: человек всегда боится опоздать куда-нибудь к чему-нибудь и с чем-нибудь, торопится очень, покуда жив. Она, Маша, тоже торопилась заблаговременно, сейчас же все, что нужно, обговорить, что б ей легче, может, стало, – она чувствовала это на родных, размягченная, пригретая их вниманием, милосердием. Как хорошо, когда близких много рядом!
– Завсегда я помню тебя, Аннушка, как мать для себя, вспоминала о тебе в последние дни своего лежания, только валялась под землей чурбанком и ясно так вспоминала, – начала Маша будто исповедоваться в чем-то перед старшей сестрой, сжавшейся в клубок, с торчащей кичкой на голове. – Бывало, ты мыла, обстирывала, кормила, одевала, раздевала, укладывала спать и подымала и выхаживала, если нам недужилось, нас, меньших сестер своих, частенько ты вставала в наше изголовье – ой, сколько, сколько же всего доброго ты сделала для нас! Сама-то еще тоже девочка по существу…
– Ну, так что ж. – Нахмурилась, застеснялась Анна: ей было очень неприятно, совестно, как взрослой, слышать какие-то еще похвалы самой себе. – Коли надо было, так и делала, что могла, как всякая сестра. Чего ж! Я совсем не золотая. Послушай, не волнуйся, полежи-ка ты спокойно…
Но Маша ее попридержала около себя – не дала уйти, умолила присесть хоть на краешек кровати, выслушать.
– Я недолго.
– Не трави ты саму себя.
– Где уж! Вспоминаю: за тобою мы вязались, слушались тебя во всем.
Анна занемела: к чему клонит?
– Что вот получилось так у меня, ты прости…
– Эва! А за что тебя прощать? Скажешь тоже. Не за что, кажись…
– Что возиться со мной снова тебя вынудила.
– Ну, придумала ж какого лешего?! Долго думала ты?
– Что придется, стало быть, мне раньше твоего расстаться с этой грешной жизнью, надоевшей мне. Что поэтому послала человека я, чтобы уведомить тебя о том, – больше не к кому мне притулиться, приклониться. Не к кому, сеструшка.
И поникла Анна.
– Мой соколик серокрылый тоже залетел далече – не видать и не слыхать его. А хотела я, родная ты моя, об одном тебя просить – не оставить круглой сиротой сына моего, Юрочку, ты прости… Мой наказ будет такой…
– Машенька, да погоди еще, – умоляюще над ней сцепила Анна руки, – полежи спокойно, а… Не мучь себя… К чему?
– Годить мне, Анна, нечего; послушай, что скажу. Мой наказ такой: ежели живым мой с войны вернется, ты ему непременно передай – пускай тогда женится на Насте, нашей квартирной хозяйки дочке, влюбившейся в него по уши. Какой она матерью может быть, я не знаю, не берусь судить, но, по крайней мере, будет тогда у Юры хоть отец родной при нем. Эту мою просьбу выполнишь? Пусть разыщет он ее, если жива она.
– Ну, к чему такое, Маша, говорить? – Анна носом шмыгнула раз, другой. – Я ведь тебе предлагала при немцах: все вместе давайте ко мне… Как лучше хотела…
– Мой грех. Я думала: что ж я к вам переберусь ни с чем – обузой лишней; сюда-то, к свекрови, я натаскала столько муки, вещей. Это-то меня и погубило. В первую бомбежку Ржева, помню, выскочив ночью, сидела на огородах, и только из ужасного случилось то, что мимо нас пролетела куда-то сбитая взрывом печная труба и свистели кирпичи, то осколки фугасок и снарядов. Вон когда еще целилась в меня судьба – долго же охотилась. Тьфу! Потом, значит, занесло меня на уединенный хуторок, где потише, – сбежала я из города; думала, что туда война не доберется, не достанет, не затронет там нас – стороною где-то обойдет. Но она, проклятая, ведь и там достала всех. Как снаряд бабахнул, так свекор вместе с внуком Макаром замертво с чердака упали, а затем и свекровь достало… Похоронила я их всех. Дом разворошило. А теперь уж умираю и сама в тридцать три года. Поплатилась… Немцам я не отдавала ничего, а они все равно отняли все у меня, отняли силой, меня самое загубили. Я-то знаю, что уже не выживу. Только бы скорей.
– Не приговаривай себя, – протестовала Анна.
– Тьфу! Тьфу! Тьфу! Когда смерть долго не приходит, хочется скорее умереть, а когда она приходит вдруг, умирать не хочется. Все так. – И засмеялась даже.
– Ну, будет тебе, будет! Все. Ты отдыхай.
А под утро Маша жаловалась:
– Старуха бурчливая: бурчит, фыркает, всю ночь не спит. Спать мне не дает.
– Не обращай на нее внимания, – успокаивала Анна Машу, точно малую. – Спи. Поспи еще чуток.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
I
По утреннику следующего дня, еще не распустился примороженный чешуйчатый снег везде, где, к счастью, он еще держался, Дуня, Антон и Саша с двумя финскими, обитыми железными полозьями, санками вновь пустились на хуторок под Редькино. Нужно было взять из тайничка – если только сохранился в неприкосновенности – кое-какие немногие, но так необходимые носильные Машины и Юрины вещи. Сделать это накануне Дуня, разумеется, не могла – хотя бы потому, что Маша нуждалась в срочном уходе за ней и перевозе отсюда. Так что тряпки, запрятанные Машей где-то, она даже не искала. К самой Волге не спустилась. Зря времени не тратила.
– Дуняша, постойте! – донеслось.
В деревне, у вполне еще живучего дедовского дома Дуню с ребятами перехватила на минутку, выкатившись (чтоб порасспросить), тетушка Дарья, в куцовейке и валенках-лепехах; смягченный, любовный, как подарок, взгляд ее излучал всегдашнюю ласковость и участливость и одновременно выражал вместе с тем готовую тревожность. Она вся волновалась. Несмотря на относительную рань, и ее безногий сын Ванюшка, обыкновенно при хождении резко-вскачку ковылявший на скрипящих ремнями протезах, уже прогуливался, одетый, у дома; он изучал унылые голые задворок и березы, намереваясь вновь растянуть антенну на шестах с тем, чтобы прежним образом, как было до войны – у него единственного во всем Ромашино, – радио в наушники послушать. Сейчас он загорелся этим – по-мужски: поглощенно, неотложно.
Ладно то, что тетушке Дарье вместе с ним хоть отчасти в чем-то повезло в последние февральские дни. Так, они все-таки не подверглись нещадному выселению, подобно всем ромашинским семьям, – она как-то отстояла его перед немцем-комендантишкой: тот разрешил им не выселяться. И поэтому, следовательно, они не гробили последнюю силушку на здоровье, не мытарились и не ломались в те ужаснейшие для других людей две недели, которые буквально вытряхнули всех до дна. И вот, видя их в мало-мальски добром здравии, Дуня за них радовалась – что им в общем тоже повезло. В конце концов.
С детства органично Дуня воспитывалась в родстве и его воспринимала не умозрительно: куда ни повернись только – кругом все родственники на виду. Какие-нибудь. Такое характерно для деревни. И для нее, живой души, впитавшей в себя многое из жизни, типичны, пожалуй, были самые ровные особенные отношения (сложившиеся не без влияния, разумеется, Анны), которые она держала со всей родней своей, или они такими – чистоплотными, что ли, складывались сами у нее и были ей так дороги, естественны, необходимы. За исключением, быть может, родственных отношений, не развивающихся по линии странноватого брата Николая, беспричинно ожесточившегося на сестер своих, что существенно отражалось и на позиции его детей, которые уж не принимали их, эти отношения, иначе, – какие-то захолодело-неполноценные, они также удручали ее этой своей ненормальностью, в которой она была не повинна.
Видимо, потому-то она даже не любила проходить мимо братниной избы: ей припомнилось старое, неизличимое, связанное с именем брата, – оно отзывалось в ней болезненно каждый раз. Ничего тут не поделаешь, наверное. Страдания пока не отеплили захолоделость. Ждать, что будет дальше?
Как тетушка Дарья заговорила с Дуней, так к ним и Ванюшка подковылял. Застал слезу у обеих на лице. Встревожился:
– Что, Маша плоха?
Дуня благородно глянула в открытые сочно-карие глаза своего двоюродного брата-ровесника, понимая его тревогу, и кивнула только головой.
– Что, и вылечить нельзя? – Ваня поустойчивее на протезах встал.
Опять Дуня головой мотнула чуть.
– Вишь, она сама уж не надеется, Ванюша, – вперед ее дообъяснила ему мать. – Кыркает. И завещает Юру поберечь. Понимаешь?
– Да, недвижимым пластом она лежит, пораненная, исхудалая. С таким настроением… Нам уже сказали… Пойду в Чачкино к врачу.
Снова жалостливо Дарья всхлипнула:
– Ванюшка, я схожу сегодня к ним, погляжу…
– Ну. Отчего же, мам? – пыхнул Ванюшка. – Зачем мне говорить? Конечно! Только одевайся хорошо; не скачи, что бодучая коза, – схватит – снова свалишься. Тебе не двадцать лет. Ну, давай, давай домой. Иди!
– Приходите, тетя Даша. Так обрадуете Машу, Анну, всех нас.
– А сейчас куда вы? Куда движетесь отрядом?
– Нужно, Ваня, еще ее вещи привезти, если они не разграблены… Там, на хуторке, она зарыла их.
– А-а… Идите. Что ж…
– Да. Пошли скорей, Антон, Саша.
– Помоги ж, вам, родненькие, бог! Ох-хо-хо!
И тетя Дарья наспех их перекрестила в спины.
«Ох-хо-хо, – откликнулось и сжалось что-то внутри у быстро зашагавшей дальше Дуни. – Надо пойти к врачу. Врач в Чачкино. Но нельзя помочь. Каково! И зачем вот она жила? И зачем также я живу? Так трудно я и начинала трудовую жизнь в доме у Николая – до сих пор меня коробит всю, несмотря на горшие еще лишения и трудности, подступившие потом – с войною вместе. Нет, кому это только нужно было, что я, дозамужняя девчушка, по чьей-то воле и вроде б милости для меня, очутившись у него, уже не чуя собственных рук, ног от усталости, ежедневно, без перерывов, отдыха и выходных, вкалывала до упаду в его большом хозяйстве, что месила навозную жижу, грязь, задыхалась на трепке льна и провевании зерна – обслуживала задарма его неуклонно прибавлявшуюся семью, а сама ходила в каких-то опорках и коротышке и занимала лишь занавешенный уголок в избе без кровати даже и стола, что питалась здесь же, отдельно, в сторонке от всех, что сурок, – впопыхах жевала какую-нибудь корочку в картофелине и глотала чаще непрожеванное или хлебала прямо из кружки щи вместе с потом и слезами, что вскакивала вдруг и кидалась опять куда-то, чтобы, что-то еще недоделанное сделать. И что он-то, великий, рассуждатель о добре, не мог ни разу усадить меня к своему столу по-человечески, по-братски? Кому только было нужно это все? Зачем? Во имя чего же? Чтобы потом опять мучиться?»
«Для чего же жить?»
Однако Дуня не думала о себе тогда нисколько (прозрение вразумило ее позже – когда она свободнее вздохнула, уже будучи замужем за веселым ласковым Станиславом), как не думала она и потом под свистящими сверху, несущими смерть, бомбами; она, бросая все, безотчетно прижимала к груди Славу, сонного и до дрожи напуганного ночными сиренами, пальбой, аханьем, криками, бегом, взрывами, стоном людей и иссиня-белым свечением спускающихся искристых фонарей. Она, мать, дитя свое спасала. Вот что главное. И Маша спасала свое, и Анна спасала своих детей, ни с чем не считаясь, как все матери. И тетушка Дарья также самоотверженно продолжала спасать Ванюшку, смолоду лишившегося обеих ног. Это в крови матерей заложено – распростеречь над детьми крылья и уберечь их.
Да, она, Дуня, более всего впервые испугалась в один из налетов за Славу, когда лишь подумала, что он, наверное, убит и что она его не сохранила, значит. Не сумела. Горячей взрывной волной их расшвырнуло над оврагом в стороны. Над ними зенитки молотили оглушающе, раскаленные. Она вскочила в кустах, не зная, что делать и куда бежать; у нее звенело и гудело в голове, ее еще не качало. А зенитный командир молодой, высвеченный огнями и вспышками и растопыренный, орал с горки, раскрыв мощный рот, стараясь перегудеть этот весь бедлам:
– Это что же Вы, мамаша, сыночка-то потеряли?!
– Где? Где? – Она скорей почувствовала то. Что он ей прокричал, нежели услышала.
– Он – здесь! Гляди, барахтается вон! Батарея, прицел… Огонь!
И в памяти ее, как и в памяти Антона, Саши, так невольно (еще не отступило) нанизывалось, захватывалось само собой прожитое, пока они торопливо (насколько позволяла сборная одежда и обувь) шли мимо торчащих из-под снега кое-где печей и печных труб вместо домой и частично сохранившихся еще островов зданий (во Ржеве), мимо груд исковерканного железа вместо ферм мостов, различных сооружений и рельс (на станциях), скелетов опрокинутых вагонов вместе с паровозами, мимо бывших складов «Заготзерно», обнесенных колючей проволкой…
Все-все было обезлюдено, рассеяно… Начисто! Ой!
Но она уже решила твердо, верно: в случае несчастья с Машей именно она усыновит Юрочку, если только не вернется с фронта Машин Константин, – у Анны и своих ребят хватает. А она-то, небось, выдержит с двумя. Ничего. В девках не такое ведь выдерживала. Покамест никому не жаловалась.
Дуню не работа доводила, а обиды. Сколько их бывало! Анна ее всегда понимала. Значит, пусть и Юра будет еще сыном у нее. Мальчику-то нужно. От добра…
II
Необычно раннее для начала марта потепление ускорило таяние снежного покрова, и, как ни спешили они, около Хорошево, особенно на длинном спуске к речке и подъеме от нее, заставило их уже почти половодье, еще не такое, правда, донимающее всеобщее, какое часто снилось Антону. Почему-то он всегда теперь преодолевал его, собираясь со всем мужеством и всей сноровкой и перебираясь с островка на островок, где еще покрепче был снег, чтоб не провалиться по пояс в мокрую кашу, и всегда в последний момент вдруг с ужасом обнаружил перед собой еще более сильный глубокий поток, какой нужно было все-таки как-то и где-то преодолеть, чтоб не быть совсем захлустнутым им – но все же половодье на измешанной дороге: вниз, под горку, журчливыми ручейками бежала вода. Обнажилась местами отходившая земля. Остро пахло ее свежестью.
Сновали на большаке наши военные полуторки, едущие и бредущие бойцы, молодые и в возрасте, всем довольные будто, и подбодрительно подмигивали Дуне и ребятам; приходилось, пропуская их, сторониться на самую бровку, обходить грязноватые снег и лужи. Полозья санок противно скрежетали на проплешинах и словно пристывали разом – приходилось санки протаскивать волоком.
Наконец, среди необозримой глуши Дуня, балансируя, свернула вправо – на ответвившуюся северней едва обозначенную цепочками несвежих следов дорожку:
– Кажись, вот сюда.
– Что это такое? – ткнул Антон вперед своей рукавичкой.
– Это вот? – тихо, раздумчиво переспросила Дуня. – Это Волга.
– А-а, какая! Тихая. Пустая.
– Сейчас мы уже дойдем. Скоро…
– Непривычно: я еще не видал ее такой; не такая, как во Ржеве, – без высоких берегов.
– Не такая… – Дуня шла и шла вперед, к Волге, – она уже хорошо ориентировалась в этой глухомани. – Здесь был самый фронт.
«Самый фронт был?! Где?» Ну и что ж такое фронт, посмотрим. – И Антон снова пристальней во все вглядывался, как очнулся снова.
Впереди, левей, коричневели изрешетенные осколками снарядов и мин кирпичные стены двух вытянутых бараков, или конюшен, среди низкорослых и негустых акаций и нерослых деревцев с обсеченными ветками и верхушками; а ближе, правей, немного возвышался раздробленный и ошелушенный остов церкви, и между ними и дальше простиралось распаханное, очевидно, некогда, а ныне запущенное поле, которое переговаживали хаотично – почти параллельно Волге – пояса немецких траншей с ответвлениями, с брустверами, с окопами, обращенными в реке, к северу, окаймленные растянутой и порванной колючей проволкой. Отсюда был достаточно хороший обзор кругом.
Тишина здесь была оглушительная.
Лавируя по уже проложенной кем-то приметной дорожке между окопами и воронками и по окопам, чтоб, не оступившись с нее, не задеть наверняка заложенные немецкие мины, обойдя справа площадку с собранными кем-то открыто, в одну кучу, противотанковыми минами, количеством, наверное, около двухсот штук, без шнура, Дуня, а за ней гуськом Антон и Саша спускались по откосу ниже. Спускались именно здесь, где в течение полугода таилась наготове смерть, где захлебывались вражьи пулеметы, выплевывая смертоносные пули, и темными ночами взвивались беспокойные ракеты, где еще сильнее, чем где-либо, было все изрыто, измешано, потрепано, опутано и где теперь стояла, что на кладбище, скорбно-пугающая тишь, словно это был уже один из заброшенных и забытых всеми безлюдно-пустынный уголок войны, до которому никому уже не было никакого даже интереса.
Со стен бараков и острова церкви, увешанных паутиной каких-то проводов и проволоки, прошедший день назад дождь смыл кирпичную крошку, и сейчас сильно и приятно пахло слежалой размоченной глиной; среди запущенных, грязных акаций, усеянных банками и бумажками, белели березовые кресты на могилах немцев.
Тот берег покруче, с уцепившимися на нем кустами и редким сосняком, очищался быстрее от снега и уже будто темнел и дрожал от прилива зелени; проступая, протягивалась земля и сюда, к траншеям, к возвышенностям.
Какой-то перебинтованный мертвый боец висел на проводах, от него тянулся провод с привязанным внизу, в окопе, мешком.
Саша хотел спуститься в окоп, чтобы посмотреть, что в мешке. Да Дуня уследила – вовремя выдернула его из окопа:
– Стой! Нельзя! Ты что?!
И Антон послеживал за глазастым неусердливым братцем – не давал ему пошарить здесь. А ему этого так хотелось – глаза разбегались. Но тетя Дуня и Антон за ней очень ходко шли.
И вот невзначай – при обозрении всего – взгляды притихших братьев споткнулись об еще неубранные трупы в белых маскхалатах и серых шинелях – погибших фронтовиков.
III
Множество смертей, искалеченных, изуродованных людей уже перевидели Кашины за время оккупации и бомбежек, но ничто не потрясло их так, как эта картина беспробудного навеки сна на бывших фашистских позициях еще не захороненных советских бойцов.
Неизвестно было, сколько времени они лежали здесь, почему никем пока не убирались.
Совсем бессознательно для чего-то став в уме считать (видимо, от все возраставшего удивления перед тем, что они лежали равномерно почти друг за другом и все новые так показывались взору), Антон и Саша (каждый про себя) насчитали девять скошенных красноармейцев в этой развернутой сюда цепочке – уже перешедших или перебежавших, или переползших, вторую полосу вражеских траншей, и первый из них лежал всего лишь в двух шагах от третьей полосы траншей, а неподалеку от него сливочно зеленела выкатившаяся из его разжатой руки лимонка. У другого в руках были щипцы – для проделывания проходов в колючей проволоке, и круглый котелок прострелен.
Страшно смотрели в молочное небо пустые уже глазницы бойцов.
Казалось, что сраженные вот-вот зашевелятся, подобно тому пленному красноармейцу, стрелянному фашистом в упор на большаке в день перегона, и спросят у ребят: отчего же как случилось, ребятки, – что они вот беспомощно лежат тут, открытые, в холоде, и что никто-никто, в том числе и Антон с Сашей, хорошо понимающие то, что так нельзя, не поможет им теперь? Кто же а этом виноват?
Братья дальше ступили с некоторой задержкой от шока – они словно с оглядкой отступали отсюда, на цыпочках ( Дуня побыстрее между тем уходила к тускло белевшей ровной застывшей глади Волги), и ужасная картина почти повторились через какое-то расстояние: и перед первой полосой траншей такой же цепочкой полегло уже двенадцать человек красноармейцев, а чуть дальше и еще четырнадцать. Почему? Что они в разведку шли – ночью напоролись? Или так, во весь рост, не рассредоточившись, атаковали немцев? И когда это случилось? Ах, солдатики, солдатики..
– Да как же они так неладно пошли? – сказал с досадой Саша. – Разве не могли рассредоточиться? Да возьми вон туда, правей – обойди эти чертовы окопы.
И Антон, мальчик четырнадцати лет, огляделся вокруг себя.
Нет, не все делалось в его глазах так, как думалось, и даже начиналось. Возможные страдания предвиделись заранее всеми, и мир бежал, или, верней, катился неудержимо, к огромной катастрофе, это предрекали многие. И Антон, школьник, тогда вглядывался в очертания европейских стран на школьной карте и что же мы? – мысленно видел добропорядочные страны в сотах жилищ и дорог без единого дымка-выстрела на их зеленых равнинах (он как бы сверху все оглядывал), и на всякий случай, прикидывая в уме, кто за кого. складывал миллионы взрослых мужчин одной страны с миллионами другой, третьей, – и воображал, что народы могут остановить агрессоров… Однако все сложилось иначе.
Да, здесь-то, у Волги, уже воцарился покой. Для этих убитых бойцов? Это отравляло для Антона жизнь, будто он один был виноват в чем-то таком, что хотел лишь жить и был еще жив и так несовершенно думал о мире. И еще ведь рассуждал даже когда-то – всего лишь полгода назад: только уцелеть бы нам… Отчего же он терзался так, терзался сильнее, представляя себе позы и лица тех, шедших грудью на врага для того, чтобы освободить родной край и всех его жителей. «За что?» – говорил он сам себе за других, кто уже не мог этого сказать, хотя во время войны никто этого не спрашивал. Но не меньше горе от того переполняло его душу.
… В расколовшейся вспышками выстрелов ночной зимней полутьме, нависшей над забеленными буграми, при атаке самый передний боец, поняв, что они ошиблись и попались в западню, которую нужно было во что бы то ни стало разорвать броском вперед, рванулся на ощетинившиеся огнем немецкие окопы прежде своих товарищей. Он даже где-то уже проскочил зону большого огня. Но в последний момент, когда он, изготовившись, хотел швырнуть столь необходимую гранату, он страшно удивился, просто удивился тому, что он дальше не бежит, а несомненно падает, заваливаясь, не сделавши гранатного броска, и падает как-то нереально медленно, мягко, с необычным тошноватым кружением в голове. В голубом пульсирующем свете он успел заметить подле себя копошащиеся в земляной норе фигуры, а точнее, головы фрицев – в квадратных касках; те палили свинцом над ним, не обращая на него, поверженного, уже никакого внимания. «Зачем я это сделал?» – с отчаянием, должно быть, подумал упавший в эти последние минуты своей жизни. – Зачем? Ведь встать надо немедленно, чтобы сделать то, что надо и приказано. А то укокошат они и меня и моих друзей… Они тоже попадали… Однако все этот тотчас же отошло. Вспомнив, может, что-то не то, невозможное теперь, всмотрелся вверх. Там, совсем недалеко, мутнели звезды перед весенней ростепелью; он даже явственно различил жужжанье падавших звезд, за которыми он следил краем глаз, так как не мог шевелиться. Павший был еще молодой, как и большинство других. Мысленные образы с поразительной ясностью и быстротою, по-видимому, вставали у него в глазах, заслоняя собой черное полотно войны. То он видел свою невесту, которую бережно любил и которая почему-то бралась ручонками за свою красивую, точно нарисованную пастелью круглую голову, и вскидывая ее, тревожно улыбалась, глаза ее грустно-вопросительно глядели на него; то опять через все поле бреда бежал к нему, точно пританцовывая и отвесно повесив руки, какой-то полузнакомый сосед; то становилась его мать, задумчивая и строгая, с какой-то укоризною к нему… Он подкачал…
Не помнил он, наверное, сколько времени так лежал, но по стону раненого, или собственному стону, и по теплоте своей крови, может быть, определил, что мало. Рыхлый снег подтаивал под ним. И захотелось ему подползти и обнять своих тоже полегших товарищей. Он повернулся и, протянув руку, разжал ладонь; граната, которую он сжимал до сих пор, выкатилась из нее. И ему опять было неловко лежать, и он, повернувшись снова, лицом вниз, захлебнулся в растаявшей под ним земле.
В низочке, под Волгой, у жалкого пепелища, Дуня отыскала малоприметный лаз в пещерку, и, ахая (тайничок, конечно же, был уже разграблен), что-то повытаскивала из нее; втроем они по-скорому уложили собранное – мягкие вещички – на салазки, привязали. Антону уж хотелось поскорей уйти отсюда.
И когда они опять, поднимаясь снизу, проходили мимо немецких траншей, он, замерев, косился сюда: взаправду ли было то, что он только что увидел здесь, – уж не померещилось ли ему это? Нет, все это было. Ничего ему не померещилось. Он видел это и по Саше. И тетя Дуня отворачивала отсюда взгляд свой, насупясь и подшмыгивая носом. Нет, не призывали они друг друга в свидетели этого – они привыкли ужасаться виденному про себя.
А под молочным небом шально-весело, как ни в чем не бывало, блестели ветки акаций, разбитое оружие, мины, тающий, обсосанный, изъеденный солнечным теплом, слюдянистый снег, следы от полозьев санок, ручейки и лужи, вся оттаивающая даль.
Они все также молча выбрались к большаку. Все также пустынно было окрест. Лишь издали придвигались сюда сбоку большака и на расстоянии друг от друга два красноармейца-минера в длиннополых шинелях и киргизовых сапогах, с винтовками за плечами, придвигались, выщупывая почву впереди себя круглыми миноискателями, а туда уходил по дороге в одиночестве красноармеец, несший на голове длинное противотанковое ружье и напевавший что-то. И Антон тут остановился, странно поглядел на тетю Дуню, брата.
– Ты.. устал? – спросила она обеспокоено, чуть порозовевшая.