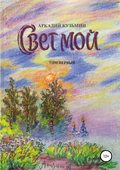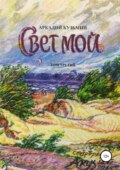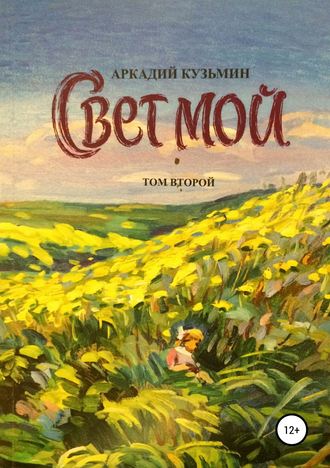
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 2
– Где же это мать? Дите плачет – она не успокоит!
А он – это Славик был, сжавшись комочком, почти у самой-то двери, замерз вместе с матерью. А как взяли его к нагретой печке, тотчас и замолчал.
И Дуня добавила себе простуду: горела вся. Покалывало у нее в груди: плеврит. Зато новый день голубел в довольном успокоении. Велик. Чуткая звенящая тишина стояла на воле.
XV
Это трудно описать. Как подглядывали, затаив дыхание, приникая к дверным щелочкам да к отдушинкам в окошке, обращенном на юг тоже, – за тремя серо-зелеными, что привидения, солдатами, которых опасались; как те, будто бы догадываясь о присутствии в своей конюшне русских, но скользя лишь равнодушными глазами, если попадали сюда взглядом, буднично-размеренно здесь жили, хаживали, умывались, чистились, дрова кололи, заворачивали в уборную; как они потом повсаживались в вездеход, выкатившийся прямо перед самым носом наблюдавших, и умчались на нем наспех. Им, похоже, никакого дела не было до русских. Не было и все. Они заняты совсем другим.
Однако не поверилось: неужели то возможно? Пока, значит, пронесло? Не очухались немцы еще? С утречка пораньше… Нет, не может быть! Только первый нервный шок у всех прошел; народ снова стал кумекать, сообща прикидывать. Хотя мнений было много, старшие порассудили быстро, что к чему: может, даже к лучшему, что так, что в таком неожиданном соседстве очутились – сюда мало кто и сунется, – надежное укрытие; только нужно высидеть потише, без особенной на то нужды на виду не дрызгаться, не пялиться, чтоб не подвести под монастырь всех до единого.
И воодушевившийся теперь Голихин возгласил: «Это бабы должны последить за ребятами своими. Ясно сказано?» Ясней было некуда.
Он, словно покровительствуя вынужденно, метил в Анну и отчасти в Марью, – все косился на них, уязвленный их своевольной независимостью, вроде б ущемлявшей его роль. Но и пусть себе!
Несомненно он старался, как и прежде, уберечь себя от всех случайностей судьбы; но объективно будто выходило: беспокоился за общество, за всех. Он все-таки какой-никакой мужик. И, поскольку они, исстрадавшиеся бабы, лучше его понимали сами, что и почему теперь всех соединило здесь, несмотря на то, что люди в оккупации нанесли друг другу множество непрощаемых вовек обид и оскорблений, они нынче соглашались с ним охотно в том, что касалось общей безопасности – признавая за ним некоторое превосходство в мере ее соблюдения, даже полагались на него, его верховодство над всеми. Все-таки никто не хотел подзалететь, попасться в лапы гитлеровцев по-дурному. Именно теперь.
Ну, и надо было как-то дальше жить; не ждать, пока манна небесная сама упадет с небес. Прямо в руки… Так бы ничего вовек не получилось. Можно запросто умереть.
С насторожением высунули нос на запеленатую, заколдованную нынче улицу. Благо соседствующие немцы залимонились куда-то – и рядом не было покамест лишних глаз. Перво-наперво натаскали дров, водички из проруби; растопили бочку-печку (она затрещала, защелкала) – бабы стали на ней кипяток готовить да лепешки печь. Пекли их простым и самым подходящим, придуманным кем-то способом: так, верхнюю плоскость раскаленной бочки посыпали чуть крупномолотой мукой, а на слой ее уже клали кружочки теста – и лепешки пропекались, не прижариваясь и без масла. Лучше было не придумать.
Худым только оборачивалось то, что все ощетинились, порастопырялись в землянке; каждый гнул свое – и к печке было-то не подступиться совестливым и стыдливым. Все-то были предоставлены самим себе. И кой-кто еще кочевряжился – подстать Голихину и с его, должно быть, легкой руки. Не стыдно было.
Анну и Наташу, и Большую Марью от жаром полыхавшей печки оттесняли – лишний раз не сунешься к ней. На скандал нарвешься… Потому как не случайно молодухи дребезжали:
– Вы не лезьте перед нами! Нечего! Вперлись сюда на чужое, черти полосатые, как нахлебники… После нас валяйте, после нас! Жарьте, кипятите… А пока и можно тихо посидеть… Подождать…
Мало того, забияки в этот момент еще напевали что-нибудь препакостно: дескать, сполна от нас получите – мы такие…
Всегда в мире то. Люди-то не золотые, нет; никогда они не будут ими, ни за что. И нечего рассчитывать. Вот умри – перешагнут и все.
Невозможно все пересказать в подробностях, как что кто сказал кому, как взглянул и что еще подумал кстати и некстати; чтобы все это понять, нужно пожить той же неизнеженной, суровой жизнью в аду оккупации да издрожать такой же дрожью на морозе и в конюшне (а не в городских очередях, пусть и зимой, у пивных ларьков и водочных богаделен). Сытому и чистому все это не понять, к этому не прикоснуться сердцем.
– Вот если бы найти отдельное прибежище какое нам, – пожелала Анна с грустью. – А так кто ты здесь? С бока припека, по-ихнему. И все. Можно вытворяться.
– И все, – повторила за ней Таня. – Вот какие пушки нехолошие. Опять снились мне. Лаз – пушка, два – пушка, – перебирала пальцы.
Одевшаяся Наташа поправила шаль:
– Мамочка, я все понимаю хорошо. Не расстраивайся.
Было им уже невмоготу ждать, когда их подпустят близко к печке, – сильно хотелось есть, и Наташа с Сашей отправились пока побродить в лощинке, чтобы разведать хорошенько, что находится поблизости.
XVI
Они, вспарывая валенками свежий глубокий снег, углубились в окрестный лесок непроторенной дорожкой.
Наташа успокаивала столь издергавшуюся мать, а сама-то незаметно для самой себя развздыхалась, едва в глаза ей заполыхнул свет белого простора, какой в прежние мирные дни, бывало, только радовал и обвораживал своей сказочной легкостью, нарядностью и завершенностью видимых линий, красок. Нет, нынче она не обманывалась, а уж точно, с закрытыми глазами знала, что в ее-то летящей куда-то душе чувства почти песенной гармонии со всем этим не было. Да, не было его и быть не могло никак. Для нее, увы, такая гармония слитности уже кончилась. Все разладилось, и нехватало уже какой-то прежней устойчивости, цельности, округлости мира в ее представлениях его сложного образа, словно он, как при землетрясении, прорвался со всех сторон, и все противоестественно и отвратительно торчало в нем наружу, повергая сплошь людей в отчаяние. И, следовательно, нужно наново находить себя, отыскивать иную даль – прибежище.
Прежде Наташа много, жадно читала – пропасть всяких романов, один другого значительней, захватывающей; пришедшие открытия, испитые из них в ее уме наслаивались на зримые, уже существующие вокруг нее понятия и истины. Стало быть, очень естественно обкатывался, вращался ее клубок возмужания, еще не закончившегося. Но смешно: тогда, когда, бывало, она задумывалась (не теперь) о дальнейшей собственной жизни, ей, как ни диковинно это казалось, представлялось все таким же обкатанным, круглым, с такими же мужскими позолоченными круглыми часами на цепочке и спокойно-довольным мужем, с наслаждением курящим папиросы «Беломорканал», как и в доме очень молодой тети Маши, маминой сестры, носящей к тому же круглые жемчужные серьги, которые очень красили ее. Так поразительно увиделось Наташей однажды, до войны, во время своего делового визита к родственнице вместе с Антоном и Сашей, которых она сводила на примерку: ее портняжничавший муж Константин шил для них сразу два простеньких костюмчика из одного дешевенького материала.
У большой семьи, известно, забот столько набирается, что не зевай – только и поворачивайся туда-сюда; всех обшить-то мало-мальски было нелегко, непосильно, и потому справлялось только самое необходимое, что попроще, чтобы было в чем, главное, ходить в школу.
Наташа помнит, как сейчас: летний день уже клонился к вечеру, и она очень спешила с братьями, шагая во Ржеве от Маслозавода проторенной дорожкой напрямки, по нескончаемому зацветшему картофельнику, мимо дощатых бараков-складов «Заготзерно»…
Ладный Константин примерил на ее братьях скроенный и сметанный серенький материал, вынул из карманчика жилета золотые пузатые часы на золотом брелоке и завел пружину, и послушал их переливчатую мелодичную игру. А перехватив восхищенный взгляд Наташи, сказал односложно:
– Это Машин подарок мне… Ну, мне пора. Время – золото.
Наташе потом некоторое время грезилась именно какая-то такая тихая захолустная жизнь – среди сирени, над Волгой, с этим мелодичным звоном в ушах, а дальше этого представления не пускались покамест.
«Ну, сейчас схожу, а потом, когда все уляжется, продолжу, запишу, что такое было с нами в эти три дня, в которые я ничего еще не записала; только бы не пропустить их – записать, если уж взялась вести, – говорила себе Наташа, радуясь, главное тому, что могла сейчас одна побыть и подумать о чем-то возвышенном. – Взялся за гуж, не говори, что не дюж», – говорила она себе в мужском роде. Она, надоумленная скорей желанием матери видеть историю их военной жизни записанной (Анна частенько говорила: «Что, если бы все, как есть, записать, – никто не поверил бы потом, что такое могло быть»), в глубокой тайне от всех, лишь открывшись как-то ей одной, вела подробнейший дневник. Может быть, под влиянием того, что это уже давно, еще с довоенного времени, делал Антон.
Она уже не могла не заниматься чем-нибудь сокровенным для души, взамен потерявшим значение девичьим альбомам со стихами и частушками, обращенным к подружкам и к дружку заветному, отдав некогда этому увлечению положенную дань, как и многие ее сверстницы, а теперь забыв с легкостью, без сожаления. Писать же дневник стало для нее так же естественно, необходимо и просто, как и помочь тому раненному лейтенанту, Максиму, которого она обнаружила в зеленой ржи.
Она с грустью вспомнила о нем, о поспешном расставании с ним, и перед нею опять очень выпукло выплыло его почти мальчишечье заросшее страдальческое и упрямое лицо. И она опять только молилась (больше ничего не могла сделать для него), молилась в душе за то, чтобы все с ним, или у него обошлось благополучно – и он остался бы живым. Ведь у него за Москвой тоже были мать и такие же, как она, сестры. Они тоже страдают ведь.
Эти ее размышления, связанные с воспоминаниями о молодом лейтенанте, попавшем в большую, чем она, беду, прервал возглас Саши:
– О, смотри, Наташ: землянка. Запустелая.
– Правда?! И пустая? – Она заспешила вслед за ним. Пролезла по наметенному снегу внутрь ее.
Однако, к огорчению, землянка не годилась для жилья: ее дверь и оконце были сломаны, разрушена печка внутри; в ней было почти также холодно, как и снаружи. Разочарованные брат и сестра вылезли вон в нерешительности.
– Что ты думаешь: еще пройти? – спросил Саша.
– Можно.
– Ну, давай! – Но Наташа, беспокоясь оттого, что они уже далеко зашли в неизвестный им лесок, вместе с тем, влекомая каким-то необыкновенным чувством, продолжала движение вперед, пока не вскрикнула в радостной для них неожиданности: она разглядела, что они вышли к коричневевшему в снегу на открытом пространстве тулову убитой лошади.
Ну была находка! Сказать трудно, была ли лошадь когда убита или она почему-то пала. Но об этом сейчас и никто не думал: нужно было кормиться чем-то. С минувшего лета, как заладились бомбежки, многие промышляли конину; по большей части это мясо ели без хлеба и соли, которую уже экономили. После травы оно, безусловно, отдавало настоящим запахом еды. И зимой с кониной было несравненно проще: мясо не портилось на морозе, могло долго пролежать в снегу.
Обрадовавшись находке, Наташа мигом слетала в землянку за топором и ведром. Отрубив задние части лошади, они с братом перетаскали мясо в потайную холодную землянку, а возле нее приспособили на кирпичиках ведро с водой и, наложив в него нарубленного мяса, сварили вкусно пахнущий бульон. Затем, еще прокалив на огне железку, которую нашли, начали на ней тоже печь лепешки, обваленные в муке. И лепешечное это печение спорилось, хоть и выглядело так неправдоподобно вроде бы.
Когда же Кашины ополовинили ведро с вареным мясом и бульоном, Наташа, вновь наполнив его водой, уже сварила в нем на костре кофе: на заварку как раз и пригодился кофе, найденный тогда в мешочке на дороге. Анна ей напомнила о нем. Так что каждому досталась кружечка горячей и приятно-терпко пахнущей вперемешку с дымом жидкости. Все насытились.
И все в землянке, кто хотел, разобрали, по Наташиному предложению, все оставшееся мясо лошадиное, пустили тут же в оборот. Однако среди выселенцев нашлись и такие, кто еще не ел – не пробовал конину – короче, брезговал, еще имея что поесть, из других припасов, кроме нее, а потому с нескрываемым неудовольствием поглядывал на трапезничавших любителей мясного. К ним принадлежал и Семен Голихин. Его, знать, еще не допекло.
XVII
Пыхтевший Голихин и Антон только что вернулись из похода, какой, по замыслу, должен был помочь им выяснить всю окружающую обстановку для того, чтобы решить, что им, беглецам, грозит и как же поступить в дальнейшем. Все с нетерпением, затихнув, ждали от них результатов наблюдений, но не торопили.
– Ну что, небось, устал? – Вокруг Семена хлопотала, кудахча, полноватая подслеповатая Домна и подсовывала ему куски еды.
– Фу! Что спрашивать зря? Устал…
– Долго вы ходили все-таки. Изождались вас.
– Я пошел, ходил-ходил везде… Никак не подступиться было нам к тому сараю-то. Всюду патрули немецкие наставлены. Ну, баба шла. Сюда, к проруби. С ведрами. Кривая. Платком лоб завесила. И я с ней перемолвился. Перехватил ее. И она сказала мне, что утром отобрали туточки молодежь и погнали дальше своим ходом, а старых и малых оставили, расселили здесь по избам. В Карпове. Вот и все, что мы узнали. Нет, нам очень повезло, – заключил Голихин. – Мы находимся в низинке, совсем скрыты, стало быть, от глаз патрулей, и нам надо сидеть в землянке тише мышек, чтобы не раскрыться, пока все не обойдется. Ведь неровен час…
И Антон так же тоже думал, высказал свое соображение. Нужно подождать момент благоприятный. Едва лишь начнется сутолока на дорогах, тогда много проще будет и решить, что же дальше сделать. Анна согласилась с ним. Было жалко все-таки, что он не смог отыскать тетю Полю со Степанидой Фоминичной. Где-то сейчас те скрываются, блуждают? Целы ли?
Второй уж день был их самоличного занятия вражеской землянки, и все в ней уже мало-мальски ожили, освоились, приспособившись к особому укладу, диктовавшему им – ради самосохранения – необходимость жить потише, поукромней, почти взаперти, чтоб не навредить самим себе. Было, главное, покамест безопасно и тепло, совсем тепло, а все в совокупности, разумеется, терпимо, все переносимо – отодвинулся от них кошмар угона вместе с воем леденящей стужи, будто это было и не с ними, нет. Да и никто не собирался здесь околачиваться век. А повезло им, беглецам, чуть больше (и случайно), может, в том, что они вслепую подсоседились к солдатам-немцам, не линейным и не тыловым служакам, а скорей всего техническим специалистам, наезжающим ненадолго периодически в свою соседнюю землянку: это-то соседство, могло статься, даже больше, чем могло казаться, гарантировало безопасность, а следовательно, уже и спокойствие. Но душа, душа болела, неизлеченная. Она не обманывалась так легко. Была вся измучена. Под сушей пыткой непрестанной, нескончаемой.
Опять пообедали – кто чем.
Анна к печке не коснулась, раз свои ее не допускали к ней; все растопырялись женки, бывшие при живехоньких мужичках своих, немного обнаглевшие, да их родственники, либо подпевалы отвратительные: они явно не прощали ей независимость от них – что ж еще! А сготовила еду снова Наташа с братьями, наварив в лесочке на костре ведро конины и черную горьковатую кофейную жидкость, а также напекши лепешек. Лепешки с аппетитом ели, еще приговаривая:
– Горячо – сыро не бывает.
Как и предсказывала им, Кашиным, тетя Поля, так и получилось: кофе выручал их, помогал им выжить. Когда в землянке шумели мужики с женами – им все мало было места (особенно у печки), и Анна плакала, то Наташа успокаивала ее, как могла:
– Ну что ты плачешь, мама, сейчас я пойду приготовлю, накормлю всех вас.
Наташа теперь готовила мясо таким образом, чтобы его хватило на два раза – то есть и на ужин. Вечером ели мясо и бульон холодными, или (если пробивались к печке) немного прогретым, ставя кружки прямо на верх ее.
Этим варевом Анна не замедлила также поделиться и с невесткиной семьей: ведь кругом горели жадные глазенки малышей.
Еще были выручающие их сухарики, которые она делила – был расход большой – очень аккуратно, понемножку, с каким-то дальним своим расчетом. Так что пока можно было жить, пережидать всю кутерьму. Думалось все чаще о хорошем, что могло вот-вот прийти, – свойство человеческой натуры беспокойной. Так должно же быть в конце-концов!
Только худо: Анна почему-то не слышала фронтового прогромыхивания. Все затихло там, что ли? Как в Библии написано: «Освободитель приедет с Востока на белом коне». Для чего Анна это говорила? Чтобы поддержать себя и других в трудную минуту? Может быть. Она в точности не знала, для чего.
Маленько подкачала Дуня-Дуняшка: временами кашляла-подкашливала глухо, осунувшаяся, сразу постаревшая на много лет (тонкие запястья рук ее почти просвечивали).
Напал, вероятно, грипп на нее. Проклятый липкий и холодный пот распространялся со спины. Мокры были ноги, колени, лоб. Нужно бы по правилам сменить белье, чтобы больше не простудиться, – да где уж! Просто-напросто не во что переоблачиться. Порой больней было поднять веки – была такая слабость, что даже слух проваливался куда-то, и все время хотелось съесть чего-нибудь кислого, острого. А во рту какая-то горечь стояла.
Ей было тяжело: тяжело дышать, тяжело лежать, тяжело подняться; она была точно ватная и куда-то проваливалась глубже. Но даже измерить температуру было нечем: термометра не было. Измеряли лишь наощупь – прикладыванием к ее лбу ладони.
– Не могу. Мне нужно грудь прогреть. А то так астму хуже еще наживешь. – И Дуня покрикивала уж на Анну: – Да не ухойдокивайся ты из-за меня – ведь не из-за чего! А то ты все хлопочешь… Будто и сама стожильная. Нас всех много, ты – одна. Сядь и покажи мне, скважине пустой, как вязать… Я хочу… Хоть каким-нибудь здесь делом заняться.., отвлечься чтоб…
Танечка, которая отрешенно играла в тряпки, изображавшие для нее, должно быть, куклу, вдруг спросила громко:
– Мамочка, скажи, а что такое асма? Тетенька какая-то? Угадала я? – И засмеялась, довольная тем, что она своим вопросом неожиданно развеселила всех больших: они так и закатились смехом.
– Да, тетенька. Худая тетенька.
Потом Анна, дав себя уговорить, давала Наташе и Дуне уроки вязания из шерстяных ниток с распущенной какой-то рваной кофтенки. Причем она говорила:
– Если, конечно, я помню что-нибудь. Давно по-настоящему не вязала: минуты свободной не было.
– Нет, помнишь, Анна, наверно: смотри, как получается!
– Да-да, хорошо.
– Хорошо бы так связать шарф.
– Да, я хочу сделать. Ну, это будет потом. После нашего освобождения.
– Разумеется! Обязательно так будет.
– Я не могу уследить вот этот момент, – говорила Наташа, – когда переходишь…
– Ну, надо самой перевязать, тогда запомнится.
– И вот теперь эти два лепестка на крючке…
– Должны закреплять… Понятно…
– Да, надо закреплять.
– И потом ты обрезаешь? И опять – косичку?
– Уже третью набрала?
– Да, третий лепесток. С лепестка все снова начинается и все обвязывается.
– Дай, мам, я теперь попробую… Куда совать? Сюда?
– Вот в этот глазочек. Да.
– А теперь куда?
– А теперь вот сюда. Если два лепестка… В каждый лепесточек…
– Ну, теперь я поняла, – сказала Дуня, кашляя густо.
– Ну, да, два накида, две петли. А теперь третий – следующий глазочек.
– А как сокращать потом?
– Все время по три срезать.
– Ой, я же не то сделала! Садовая голова!..
– Ну, все правильно.
– Разве?
– Конечно. Гляди!
– А откуда же это взялось?
– Пропустила лепесточек.
– Ну, сейчас я сделаю. Ой, привычка дурацкая действительно… Ой, здорово!
– Я тоже, Анка, поняла. Я не знала, куда все, когда обвяжешь, куда деть.
Скоро у Наташи пошло ладно: послушные пальцы уже ходили сами.
А в другом конце конюшенной землянки в это время бедовые девки Шутовы с подружками дулись в игральные карты, отобрав их у своей косоглазой бабки-гадалки Софьи. Для них словно и не было всего, что было: стоял их привычно веселый гомон, хохот; только голоса неслись, спотыкались о земляные углы землянки.
– Второй ход – любо-дорого.
– Ну, ладно, девки, не огорчайтесь.
– А что сейчас?
– Ералаш. Свои не брать. Свои не брать.
– В ералаш, говорят, можно со всего ходить?
– Ах, ход мой?
– Твой.
– Мой?
– Ход твой.
– Ну, король сел.
– Она пошла. Ты пошла королем. Так, так…
– Пока воздержусь.
– Что там, трефа?
– Козырнули. Козырнули.
– Я почему и сказала: своих бей всегда.
– Что же теперь делать?
– Брать! Бери все! Нет, я буду играть.
– На трефа?
– На трефа.
– Я пошла. Пожалуйста…
– А-а! Что ты делаешь, бессовестная!
– Что я делаю? С бубей я пошла.
– Ой! Ой!
Под вязанье Наташа вполголоса проникновенно запела свой любимейший романс:
«Мой костер в тумане светит,
Искры гаснут на лету.
Ночью здесь никто меня не встретит,
Мы простимся на мосту».
XVIII
Антон удивительно не знал, почему, но сейчас, когда он слышал, или точнее, слушал звуки этой песни, которую его певучая сестра столь задушевно-искренне пела, не фальшивя, признавали все, ни в единой нотке, и благодаря которым словно по волшебству вдруг повернулись в невидимых лучах, заблистав и обозначившись во всей полноте, вплоть до тонкой паутинки, грани чего-то невозвратимого прошлого, – звуки этой песни порождали в нем какие-то необычайные, рвущиеся изнутри мысли и сомнения относительно всего, что было с ними всеми и что, главное, противоречило его, хоть и детским, незначительным, понятиям разума и целесообразности. Почему Наташа столь стихийно всегда стремилась на тот мост, представлявшийся ему одним знакомым мостом через речку Лочу, где в прежние времена по ночам водились, сказывали, черти? И вот почему все это вызывало у поющей и у слушателей, было видно, столько неизбывной грусти? Что – от неизменности этой существующей у людей несправедливости? Так для чего же она существует? Совершенно непонятно, зачем должно умереть то, что есть, живет? Все равно, что человек, что лепесточек.
Он, Антон, только так понимал, что не должно никак умереть все то, что с ним живет. Как так умереть?! Иначе – зачем же тогда жизнь? Этот живой мир был для него неделим, как он воспринимал его особенно, подверженный болезненно-активному принятию гармонии всех красок, звуков окружающей природы. Влюбленный до безумия в нее, он лишь распахивал, бывало, ранним утром дверь – и все представало перед ним открытием в теплом розовом свете дня, было ль то зимой или летом, и все было напоено большим счастьем дома, над которым еще хотелось приподняться еще чуточку, хоть на цыпочках, и заглянуть куда-то подальше чуточку.
Теперь оно, счастье то, в Антоновом понятии никак не было отделимо от безвозвратно минувшего общения с отцом, отделимо даже от его бесчисленных рассказов, которые он увлекательно, сидя на завалинке в летние вечера, рассказывал детворе, поджимавшей под себя зябкие босые ноги. Казалось тогда, что и что-то таинственно черное, безобразно-пугающее и прекрасное, придвинувшись отовсюду вплоть к избе, стояло невдалеке, завороженно прислушивалось к его голосу.
– Господи, помилуй и спаси: опять их принесло! – устрашаясь, бухнул кто-то. Поднялась в землянке тревога необъявленная. – Принесло на нашу голову!
И припали выселенцы к двери и оконцу, созерцая немцев в щелочки-просветы из своей землянки. Шикали на девок одержимых, непутевых:
– Тихо! Полно, басурманки, лязготать-трескотать! Все не наверещались?
Но уж те – в отличном настроении послеобеденном – ломались:
– Что, принес сюда кого-то кто-то? А кого?
– Да опять солдатики-соседи. На машине, вишь, подчалили.
– Поглазеем тоже мы на них. Интересно. Хоть одним глазком…
– А-а, наши красавчики! Нам красавчиков подайте! Ха-ха-ха!
Еще их стыдили-устыжали. Бесполезный номер.
– Вам-то что? – кривоножка Лидка Шутова улыбалась ясно, как ни в чем не бывало. Как святой ягненок. – Может, я большой зуб на них имею, положила. Что, нельзя? Вам нельзя: вы – старые; мне все можно – пока молодая я.
– Эх, и дурья же башка у вас – непричесанная, неприглаженная! – сказал, вздохнув, Егор Силантьев, серогривый мужик шестидесятилетний. – Все вам, пустобрешкам, шуточки негожие и пакости. Несознательность одна!..
– А что, запрещено? Если время нам покрасоваться… Лучшего не будет… И вы нам не указ… Сами не безгрешны: рыльце замарали. Хуже баб трусливы. Выйти не решаетесь. Так и выпустите нас, несознательных девиц, к красавчикам. Больно надоело нам сидеть за вашими запорами. К чему они?
Безвредный мужик Силантьев лишь пожал плечами. Откровеннее не скажешь. А его не безвредный напарник, Голихин Семен, развивавший в себе дар счастливо выворачиваться, когда припирало сильно, вслух уже толково развивал: как, не лучше ли теперь открыто показаться на глаза солдатам, уже видевшим их здесь.
– Да, я все же рискну – выйду, дров им наколю, ублажу хоть чем-то… – И он, выпершись за дверь, на белый свет, и жмурясь, пошел прямо к ним. Какой-то вислоухий, полежалый – в растопыренной ушанке и пальто подватенном. Шкробающий валенками.
И с успокоением беглецы наблюдали из укрытия за тем, как он солидно, знающе предложил немцам свои услуги – единственно ради того, чтобы задобрить их на всякий случай, и тут же занялся пилением и колением дров и как естественно-просто, что должное, это восприняли солдаты – они нисколько не косились на невесть откуда появившегося перед ними мужика. Им, солдатам, казалось, было не до русских. Но, правда, только до тех пор, пока не выпорхнули к ним божьи птички – Лидка и ее подружка Галька-переводчица. Те, строя им надлежащие улыбки и оживленно разговаривая с ними, явно стосковались по таким делам, повели себя независимо-свободно и без всякого посредничества Голихина. Вот, воистину, не знаешь, где найдешь, где потеряешь.
Так между беглыми выселенцами и еще соседствующими, к сожалению, немецкими солдатами, с которыми пока поневоле приходилось сладить как-то, чтоб не навредить себе по-глупому, легко завязались какие-то вполне определенно-преимущественные отношения, и с этой стороны отпало у беглецов беспокойство быть как на огне; прячущихся беглецов очень устраивало то, что вследствие этого они, не открываясь, кто такие, вроде бы несколько подстраховались и обезопасили себя, а солдат в неменьшей, кажется, мере устраивало то, что так они заручились готовностью русских женщин постирать им белье да почистить картошку для обедов тут, в лесу, на кухне, кроме еще щекочуще-интригующей возможности теперь и поволочиться, поразвлечься, стало быть.
Главное, солдаты ничего не выясняли в явно подозрительном вторжении в их стан русских семей, шум не подымали из-за этого и никак не конфликтовали; напротив, они, лояльно как будто расположенные или настолько поглощенные какими-то военными делами, обещали взамен – в виде оплаты за работу на них – давать свой хлеб и конфеты «Бон-бонс» к чаю. Очевидно, все они прекрасно уж насведомились о том, сколь сильно голодали местные. И на этом, собственно, солдаты строили попутно непредосудительный солдатский бизнес: извлекали небольшую пользу для себя. Каждому – свое.
И еще кой-кто из беглецов, поуспокоившись и осмелев, высунул нос на ласковое предвесеннее солнышко.
XIX
Затем подъехала сюда, в прогалину, с хрустом разрезая колесами чистый наметенный снег, впряженная в двойку средней упитанности каурых бесхвостых битюгов, квадратная бело-серая, в разводьях, походная кухня.
Возницей ее был смугловатый невысокого роста, в годах уже человек с грубоватым, тяжеловатым и раздвоенным подбородком, чисто и правильно говоривший по-русски и одетый в затасканную серую красноармейскую шинель, – пленный, как оказалось, красноармеец. Общительный, видно, но внутренне очень собранный и осторожный, он сам об этом сказал благожелательно, едва увидал здесь своих, гражданских, – женщин и детей – после того как, оставив лошадей кормиться сеном, зашел в землянку перемолвиться по душам с людьми, встретившими незнакомца угрюмо, настороженно-натянуто.
Он упреждающе сказал, что ненадобно его пужаться так – он не провокатор, не холуй какой-нибудь – только кухню с варевом на фронт немцам возит; они доверяют это, потому как у них уже истощаются людские ресурсы, видимо. Накладно воевать становится. Не прогулка маршем.
Незнакомец был серьезен. Он не преуменьшал значение того, о чем говорил, для себя, для окружающих.
Неизвестный правду говорил – можно было ему верить. Да, население уже нагляделось на все извивы, выкрутасы завоевателей. В большой ставке выиграть кампанию, не проиграть, ясно ведь, годилось все; были хороши все средства, какие только могли этому способствовать. Хотя в выигрыш, в успех уже мало кто и среди них, по-моему, верил. Хотя из-за неблагоприятно наметившегося для них поворота всей войны военизированные до зубов немцы еще более ужесточили свое негуманное отношение к военнопленным, которых стало много меньше попадать к ним в плен, но тем не менее они использовали частично последних в качестве нелагерной подсобной силы под присмотром.
– А вы нам не скажете, далеко же ездить с кухней вам приходится? – с волнением спросила Анна, обнаружив в себе случаем проснувшийся повышенно-особый интерес к тому, что уловил из сказанного ее слух. И придвинулась вплоть почти к вошедшему, представившемуся возничим–пленным. – Я хочу только спросить, где же фронт сейчас, вы не знаете, – стоит там же, где и прежде или сдвинулся?.. Ну, пожалуйста, садитесь вот… – глазами ему указала, куда можно сесть. – В ногах правды нету. – И присела тоже около вслед за ним – на доски лошадиного стойла.
– Да, уж будьте добры, вы скажите нам за ради бога, если знаете! – жадно обступили его с просьбой женщины, как опомнившись.
– Ну, известно, знаю кое-что… Ездим мы во Ржев, под Волгу.
– И давно оттуда, гражданин? Или как еще вас называть? – Анна даже дышать перестала, в глаза ему засматривала зорче: было-то в землянке темновато, непроглядно…
– А вот только что, сейчас. Меня Федором зовут.
– Ах, Федором? И что ж, они еще не смазывают пятки, нет? Господи, помилуй!
– Судя по всему, только-только собираются.
– Жаль, конечно… Не рассчитывали мы… Припоздняются чего-то…
Вздох сожаления и так выдал чувства Анны, всех, столпившихся подле словоохотливого военнопленного. Из чего он заключил:
– Что, вы все оттуда? Выселены?
– Из-под города. Из Ромашино. Слыхали? Может, проезжали мимо?