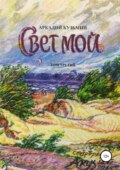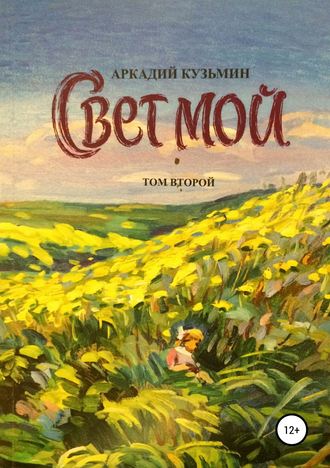
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 2
Когда наконец баржа тупо уткнулась в береговой песок – пристани, как таковой, поблизости не было – все с нее стали спрыгивать прямо в воду и кто куда придется. Здесь каждый уже действовал по собственному усмотрению.
Вскоре Павел налегке добрался до грунтовой дороги. Мешал ему пройти вперед шедший трусцой верблюд. С наездником-калмыком.
– Можно мне пройти? – спросил у него Павел.
– Пожалуйста, – сказал тот. И пропустил.
Он потом подсел в кабину какой-то полуторки. Поехали вверх уже по левобережной Волге.
В одном месте был пункт, где выдавали удостоверения – справки всем бежавшим на восток о том, что предъявитель сего направляется в восточные районы страны.
VII
«А как же мне попасть на тот – западный берег?» – думалось Павлу, пока он продвигался вдоль Волги в попутных автомашинах и не увидел на свое счастье на Волге уже налаженную из понтонов военную переправу. С надеждой он спустился по-быстрому с берега к ней.
– Пропуск давай! – грозно затребовали у него.
Он, лихорадочно суетясь, показал свое бумажное удостоверение и объяснился умоляюще. У него там ребятишки. И его пропустили, махнув рукой.
Щепкин, поселок приличный, лепился на пригорке. В этот вечер Яна несла одну вещь, чтобы по-привычному поменять ее на растительное масло. Выменяв масло, она с ним (в бутылке) поднялась к себе, вернее, к дому. Перед ним же стояла незнакомая женщина. Она сказала ей:
– Извелась ты вся. Поэтому я подгадала на тебя. Не печалься. Твой муж вот-вот будет здесь.
– Что вы! – Яна не могла поверить в такое. – Весь Сталинград полыхает. Остался бы только жив…
– Что вы, доченька! Он уже в дороге. Вот-вот будет. Ждите!
И точно было так, как предсказала женщина.
В Щепкине без проволочек дали Степиным подводу с лошадью, и на ней они доехали обратно до переправы. А вот как переехали Волгу – Павел уже не мог вспомнить позже, когда о том рассказывал другим.
Они, переправившись через Волгу, затем тряслись в кузове грузовика, везшего свиней. Над свиньями были прилажены доски на бортах, нечто вроде нар, и на этих-то досках они, сидя и лежа, ехали. Так доехали до станции Полласовк, через которую курсировали поезда из Астрахани в Энгельс.
Павел, еще неприлично щеголяя в белых полотняных брюках, уже очень замызганных, обследовав новую местность, выяснил, что в Полласовке имелся (и функционировал) маслозавод; он с дальнейшим любопытством дошел до него, поговорил с его директрисой, деловой дамой, и даже дня три (поскольку еще не было поезда) поработал в охотку на тяжелом прессе, за что получил столь нужную оранжево-желтую бутылку подсолнечного масла. Все же и он был добытчиком для семьи!
И тут ему встретился один интеллигентный молодой человек в очках, который, изучающее вглядевшись в него и представившись, назвался Степаном и спросил без обиняков:
– Вы откуда?
– Да вот… Ждем поезда на Энгельс, – Павел вкратце и понятно объяснился.
Степан живо сказал:
– Вы мне подходите. Поедемте!
– Куда? – удивился Павел сему приглашению.
В эту минуту посреди улицы к ним подошел бдительный милиционер и было скомандовал:
– Пройдемте со мной, молодые люди. Для проверки…
Тут-то Степин вынул из кармана правительственную телеграмму-приказ: «по дороге в Свердловск подбирать нужных для спецработ людей». Милиционер, прочтя телеграмму, отпустил без слов. Но с явным сожалением, что упустил какую-то выгоду.
В тот же день посчастливилось им: Степины и незнакомец Степан сели в непассажирский вагон поезда, шедшего вроде бы по маршруту в Оренбург, и они толком не знали (и никто не мог сказать) куда ехали, поскольку ведь не было прямой дороги в Оренбург; они просто ехали куда подальше от фронта, куда теперь поезд привезет. И поезд повернул на запад – уже на Куйбышев. В нечистом вагоне ехало несколько семей. Одна полноватая женщина, работница волжского завода, молчаливый ее муж с орденом Красной Звезды на лацкане пиджака. Еще некие женщины. Были и бочонки, крепкие, дубовые с какими-то солениями.
Однако они не доехали и до Куйбышева: на очередной станции состав опять повернул на восток и прополз какое-то расстояние.
Яна заумоляла пересесть на другой поезд, чтобы поехать прямо на Уфу, город, в котором ныне находилась ее сестра и могла быть для нее самой преподавательская работа: если таковой не будет срочно, то им не спастись от голода.
Так и сделали. Степан, поразмыслив, их отпустил.
Затем они доехали до станции Дема. Выгрузились на землю. Близко никакого прибежища для них не было. Одна дивчина из воинской части, ехавшей эшелоном на запад, сочувственно подкормила их, дав хлеба. До жилья одной домохозяйки, согласившейся их приютить на ночь, тяжело перекидками перекидывали еще порядочное количество вещей в узлах и мешках…
Погода установилась жестко-холодной.
– Холодно, Паша!, – сказала Яна, – вникни, что тебя могут позвать в армию, ведь бронь твоя уже недействительна. Давай побыстрей устраивайся куда-нибудь с работой. Харчи нужны всем.
Павел согласился. Все резонно.
Только, к огорчению, сходу ничего путевого не получалось. Как во всем. У нас в стране великой. И везде, наверное.
В образовательском отделе Уфы Яне отказали в трудоустройстве: на учительство (по истории) нет вакантных мест. Все занято. Расписано. И ее сестра эвакуированная уже не проживала в городе. Ее послали, смягчившись после отказа, поехать западней (к Ульяновску) по зигзагообразной железной дороге (проще пешком дойти!) до Туймазы. И Степины доехали сначала до Кинели (что под Куйбышевым), где и разузнали, что в Нижнетроицке есть десятилетка, в ней дирекствует замечательно эвакуированная ленинградка и пустует место историка: того взяли на фронт, что здесь также работает промышленное предприятие – леспромхоз.
– Ничего, прорвемся, – сказал тихо Павел. Он нередко теперь вспоминал эти слова Маслова.
– Что ты сказал? – переспросила Яна удивленно, расстроенная.
Добравшись до Туймазы, Яна пришла в исполком. Однако в Туймазы двое суток проваландались. Сначала начальства не было на месте. Потом была какая-то нелепая обструкция, когда Яна предложила свои услуги, умение.
– Зачем же вы сюда приехали? – такой издевательский, не иначе, вопрос мужчины вконец возмутил и оскорбил Яну, которую всюду до сих пор уважали и почитали, как хорошего знающего педагога.
Яна взорвалась – и почти с прежним стойким артистичным запалом, заговорила громко:
– Вы слышите меня? Я есть хочу! Я требую работу! У меня на руках двое ребятишек!
Она была права. Главное, именно она нуждалась в работе, чтобы спасти детей.
На этот крик сбежались женщины, отстранили от дальнейшего разговора, увели своего начальника-мужика.
Исполкомовские сотрудницы, пораскинув свою бухгалтерию (у каждого она своя) послали Яну в сытный колхоз. Мобилизовали мальчишек, сдающих продукты. Те предложили нарвать подсолнухов. Уральцы все понимали: сами-то теперь питались впроголодь.
Председатель колхоза – женщина послала Степиных на постой в избу к старому колхознику. Его жена не вынимала семечки подсолнуха изо рта – непрерывно, как жевательная машинка какая – лузгала и лузгала их. Лишь ночью этого не слышно и не видно было.
Степины в избе улеглись спать вповалку на полу.
На второй день пришел участковый:
– Ваш военный билет. Вы – Степин?
– Как сами Вы видите, – ответил покорно Павел. Но он уже встал в Туймазы на военный учет. Так что все было в порядке в этом отношении. Не придраться к нему.
Непорядок, безусловно, был в том, что Павел еще красовался в перезапачканных всякой дорожной грязью брюках, которые он за неимением времени на то, не успел еще сменить на себе. Хотя ему и самому-то это казалось потешным, особенно в тутошних оседловых местах, в которых уже успело закрепиться за ним определение «дядя в белых штанах».
Через пару дней для Яны пришла бумага, в ней сообщалось, что в Нижнетроицке требуется педагог. И Яну повезли туда на лошадке по разным, но одинаково разбитым грязным, как водится у нас на Руси дорогам. Лошадку председательница выделила, поскольку она устраивала в школу своего малыша (из Туймазы) и еще одного, живущего в колхозе, у нее.
А Павлу пришлось вместе с колхозниками убирать картофель, оставшийся в поле.
VIII
Деревни у татар – как бы дело пробное; их жители еще стыдились работать как колхозники и колхозницы. И еще не приноровились к четкости и слаженности в такой работе на земле.
Павел пришел к директору леспромхоза.
Тот – плотный дремучий мужик, с пронизывающим взглядом, как пан, изображенный на картинке Врубеля, – был действительно крутой по характеру: он всех своих мастеров сдал в солдаты.
– Лес валить можешь? – нетерпеливо спросил он у Павла, который едва представился ему. – А лошадь запрягать можешь? А если она в буран распряжется? Ну, так и быть, беру: ты будешь находкой для меня…
– Почему находкой? – нашелся Павел.
– Да потому… И директор, чуваш, но с русским именем Тимофей Рубчихин, в каком-то расположении к нему образно объяснил, что если бы он увидел, что на кладбище торчат из-под земли чьи-то ноги, то он выдернул бы сам труп наверх и заставил бы его работать – такая надобность была в рабочей силе – была повсюду.
Павел назначен был бригадиром. В леспромхозе работало около 80 человек. Они валили смешанный лес, растущий поблизости, а из него, точнее – из березы вырабатывалась авиафанера, в которой нынче была крайняя необходимость.
Эта справная татарская деревня делилась овражком пополам. Здешняя ребетня зимним днем устроила снежные ухабы на спуске, невидимые сверху. Люба и Толя, катаясь, здесь слетели на детских повальнях вниз – и вот, ляпнувшись на злополучных торосах с лету, ужасно (в кровь) разбились. Копчик сильно ушибли, когда падали. Санки, вдребезги разломавшись, отлетели в сторону. Дети, кое-как придя в себя и охая, и собрав обломки санок, все-таки самостоятельно выбрались, поднялись наверх. И, хотя было морозно, они не сразу пошли обратно в дом, боясь родительской суровости. Толя испугался за сестренкины ушибы. Он-то был постарше ее. Да не уследил, как нужно. Он не помнил, что было дальше.
Яна же хорошо помнила, что ее в деревне угнетала грязь. Это не могло не угнетать после-то чистых каменных тротуаров городских, в порядке выстроенных улиц продуманных. Были у нее своеобразные галошики. Она надевала их на носки. Однако ее ноги всегда почему-то были мокрые – как вроде бы в воде.
Степины, оживляясь, завели козу с козлятами и поросенка. Овцы были в доме, в закутке.
– Посмотри за поросенком! – велела Яна Любе.
А тот рылом поддал запор и выскочил за оградку, поддал Любе рылом, и та упала в грязь. Повыпачкалась вся. И ее же отругали. Поросенка с шумом, спотыкаясь, ловили.
У Любы воспалились глаза – был конъюнктивит. За ночь заплывали гноем глаза – она не могла их разлепить и плакала, жаловалась: «Мамочка, я буду видеть?» Альбуцита или еще каких-нибудь глазных капель не было под рукой. Да к тому же, надо признать, Яна была невежественной даже в медицинских вопросах – в них ей тайн никто не открывал, не учил что-то врачевать.
Мать не засекла, но Люба, кроха, тайком в одном платьице в сорокаградусный мороз бегала к чувашам, куда не пускали ее родители.
Крестьяне носили плетеные лапти, и Люба возила по дороге большой лапоть на веревочке и собирала в него кудельки валявшего сена и кормила им козлят. Также кормила она и кобылу Карюху, умную, с карими глазами, говорящими: «Лучше меня никого на свете нет». С блестевшим крупом, она без страха и стопора спускалась с любой горы. Видно, жить хотела. И она из Любиных рук брала губами корм.
Сначала сам Тимофей Рубчихин разъезжал на ней. Вскоре передал ее Павлу.
Павлу выделяли колхозников с лошадьми, с пилами. Березы разрезали, подвозили к Белебею, Туймазы и т.п. Все подчинялись, как и сам бригадир, Окташу – лесопункту (а таких было несколько). Следовало еще грузить лесоповал. Степин получил телефонограмму: «Окташ. Степин, с получением сего организовать погрузку фанеры!» Он брал мешок с продуктами, садился на кобылу, ехал и где-то организовывал ту самую погрузку. Было нелегко. Колхозники, в основном девчонки иногда пищали от невыносимости условий, но дело делали.
Зимой работали со светла до светла. Иногда замерзали. И у татар, известно, святой порядок: хозяин сидел на нарах, а бабы ездили, все терпя.
Вот бросили их, работяг на делянку у «Веселой рощи», что находилась в 5 километрах от Белебея. Делянка – один километр на полтора. «Веселая роща» – это русская деревня. Мужиков в ней мало. Подростки, либо женщины. Инвалиды огрызались. Непросто было подступиться к каждому лицу.
Значит, месяца три прошло, как оказались тут, в «Веселой роще». Степин был безграмотный в лесной вырубке. Сказал начальникам:
– Когда вырубим «Веселую рощу», тогда и отчитаемся, сколько какой колхоз вырубил.
– Нет, нужен отчет о том, как организована вырубка, через неделю-полторы, – возразили ему. И он смирился, кумекая, как лучше все организовать.
Степин не сопротивлялся. Размышлял.
В окрестных селах бабы да ребятишки – вся его рабочая сила. Ее надо кормить хотя бы дважды в сутки. Одна избенка здесь пустовала, отсвечивала. С печкой кирпичной, остылой, не действующей. С ее давнишним хозяином переговорили, по-ладному договорились; старый кирпич перебрали, перетаскали в кухню – выложили печку в кухне – и так наладили в комнате столовую.
Однажды Рубчихин прислал Степину телеграмму:
– Явись в леспромхоз с документами!
– Ты, оказывается, еще плут! – встретил его Рубчихин с раздражением. – Райвоенкомат сказал мне: «Такой у нас не числится..» Поехали – сам поеду с тобой. Проверю.
И сами военкоматовцы в Туймазы не нашли карточку Степина. Куда-то ее, видно, засунули. Написали новую. А при очередной мобилизации повестку ему послали то ли в Окташ, то ли еще куда-то. А в это время Степин неделями не выезжал из какого-нибудь лесопункта, находясь в двадцати-двадцати пяти километрах от самого леспромхоза. И когда заезжал в военкомат, там его лишь укоряли:
– Ну что ж ты, дорогой, через неделю показался! Уж в другой раз непременно пришлем повестку.
IX
Получалось, что действительно его спасала от несения сейчас военной службы эта отдаленность и разобщенность какая-то определенная. По сути он сам себе – он и подвластный – была как бы сама власть. Так вышло.
Следом и новую лесную делянку нашли. Метчики ее разметили. Построили близ нее маленькую станцию, спецсклад. Но до конца ее вырубки Степин не дождался – нужно стало новую открывать – совсем в другом месте – Кондры, Югазы и т.е. (все татарские названия); нужно было снова собрать работающих, организовать их, кормить, лечить, слышать их. И руководил всем этим все тот же пан Рубчихин, посматривающий на тебя изучающе.
Поэтому Степин частенько бывал у секретаря райкома, украинца, председателя исполкома, когда не обеспечивались хлебом рабочие или были какие-либо неувязки, препоны.. Это было уже весной 1943 года, когда немцев снова погнали на запад, разгромив их под Сталинградом.
А летом Степина назначили директором лесопункта, причалившего к селу Болтай, которое растянулось на 3 километра.
И новым директором леспромхоза стал татарин, поспокойней прежнего. Главным инженером работал заика-еврей. Но пришел и русский замполит, израненный, ершистый, с характером худшим, чем у самого Степина. Они крепко поскандалили между собой.
– Отправить его в армию! – распорядился бывший офицер. – Пусть научится элементарной дисциплине!
Увольняемый не стал перечить. Коса нашла на камень.
С этим настроением он пришел в военкомат.
– Что ж так поздно? – тихо проговорил военком. – Всех уже отправили.. А куда ж тебя.. – И досказал как бы с понятливостью. – Вот в Белебее просят на машзавод толкового старого технолога. Сходи туда, выясни.
– Обязательно! – Степин и не заметил, как после этого отмахал все сорок километров.
Заявился к директору машзавода, умному татарину, с которым он вроде бы был знаком (и тот его знал), и лишь кратко сказал, как доложился:
– Я освободился от леспромхоза. Нужен?
– О-о, нужен! – обрадовался тот, приветствуя. – Еще как! Давай!
Ему сделали бронь – выдали бумагу с красным кантом.
– Как быть с семьей? – спросил он тощего главного инженера.
– А зачем? – парировал тот сразу всерьез. – Тут можешь найти жену.
Оттого ему с директором пришлось договариваться насчет одного свободного грузовика, чтобы перевезти сюда семью.
И он вновь вернулся в Окташ – в военкомат для того, чтобы здесь засвидетельствовали полученную им бронь и больше не множили призывные повестки на него. И майор тут даже повеселел неизвестно отчего:
– Вот теперь хорошо. Давай в Белебей живо! А то люди нам позарез нужны. Головастые..
Перед этим в Окташе Степины занимали некоторое время комнату и кухоньку в избе, в которой жила хозяйка с сыном-подростком, а затем делили домик напополам с другой семьей. Отдельно располагался лесопункт. Были баня, магазин в поселке. И свой земельный участок, на котором выращивали овощи.
Был детский сад. Но снежной зимой у Любы разболелись ножки от авитаминоза: у нее от коленок до ступней образовались ранки – короста. Дома она сидела и спала в отдельной кроватке. И Яна по утрам носила ее в садик, мешая сугробы, и просила каждый раз нянечек не снимать с нее чулки, а сама уходила в школу, стоявшую в километре отсюда, на занятия с учениками. И Толя сюда ежедневно ходил с тетрадками, с книжками…
В поселке Степины пока жили, обросли целым фермерским хозяйством: у них, были поросенок и коза, капуста и одной только картошки около 40 пудов, что они ввечеру погрузили в прибывший заводской грузовик, в который они и сами погрузились и в котором доехали до Белебея сносно.
В Билибее они частном образом сняли комнату вместе с кухней и коридором. Хозяин ее требовал дрова в уплату. Еженедельно Яна меняла на местном рыке белье на необходимые семье продукты.
Здесь они дожили до конца 1945 года. Директор завода сказал Павлу: дескать, меня не отпускают на Украину и я тебя не отпущу домой, сколько не проси. А главный инженер, зараза партийная, околорайкомовская, вертячая, не преминул лягнуть его, поставив условие:
– Поезжай за металлом, отгрузишь его – отпущу тогда; все равно из тебя хорошего работника не выйдет, ты сам себя знаешь…
Павел, огрызнувшись напоследок, но терпя такую напраслину, поехал за металлом, отгрузил его, а после того аж целые сутки бесцельно просидел на печи у жены начальника железнодорожной станции Оксаково (и та ему запомнилась), поджидая прибытия поезда.
Для такого же рода эвакуированных жителей Ленинграда уже действовало придуманное правило: разрешалось вернуться в город лишь тем гражданам, кто имел прежнюю жилую площадь, а кроме того – вызов с места прежнего жительства. Сущее крючкотворство. Поскольку ведь никакой же документальной жактовской выписки при выезде не существовало! Ни у кого!
Сестра Павла работала на Балтийском заводе. Она не выезжала во время блокады никуда, и она сделала и послала вызов Степиным. После него они приехали в город.
А брат его, Василий, который тоже работал в «Красной Баварии» и в 1939 – 1940 годах воевал с финнами, который затем был призван на флот и который участвовал в смертельном рейде кораблей Балтийского флота из Таллина в Крондштат осенью 1941 года, когда он раз пять плавал с тонущих кораблей, спасаясь сам и спасая кого-то. Он позднее погиб в бою где-то под Стрельной или под Пулково.
Мать не верила в его смерть. Она часто ходила открывать дверь на звонки: все ждала его возвращения. Надеялась. Несколько лет. Все в коммунальной квартире уже свыклись с этим. А потом, когда в 1946 году же, она поняла, что напрасно ждет его, она просто угасла. Умер потом и ее супруг, отец Павла. Произошла, выходит, как отсортица, по чьему-то велению, или выбору. Повезло людям среднего калибра: они выжили!
X
В своей земляной – под сугробами – берлоге с норами Кашины вдевятером вместе с Дуней и Славой прожили еще целых полгода, так же как окрест и все семьи, ютящиеся в таких же землянках, – прожили, перенося новые всевозможные лишения и муки, вплоть до сего февральского дня, в каковой близ их берлоги вновь зачернела на снегу фигура краснокожего аспида Силина, главного полицая. Он поигрывал в руках крученой плеточкой.
Что, какую же корысть снова он принес с собой?
Слышно Силин между тем все выискивал, вынюхивал, кто еще в народе провинился чем-нибудь перед оккупантами; он старался скорыми расправами везде прививать любовь к законному – железному – нацистскому порядку. Обирать-то уже было нечего – провизии не осталось ни у кого. Но ведь на ум порченый, пропитанный ядом предательства, всякое поганое взбредало без задержки. Он нe кривлялся, не стоял нa одной ноге, а сразу на обеих; он любил еще прикинуться милягой, доброхотом, попечителем мирян.
Злодей без видимой причины, ради профилактики, заглядывал и к Кашиным – случая не пропускал. Не было еще такого.
И вот, естественно, вызванная к Силину из своей землянки Анна, саданувшись на ступеньках скользких, неудобных, прямо вылетела из нее наверх. Душа у нее тотчас ушла в пятки. Не одетая, в накинутом на голове платке, она, как наседка, ринулась к нему, не мешкая, чтобы воздействовать на него, проклятого супостата, могущего отнять у нее детей, – воздействовать беспощадно-обличительным словом либо, если понадобится, ценой собственной жизни. Чувство материнства у нее сейчас было сильней, значительней всех существующих на свете чувств и неразрывно сливалось с ними.
Поджидая на протоптанной в снегу дорожке, Силин нервно плеточкой поигрывал – завсегда, видать, чесались руки у него, чтобы полоснуть кого-нибудь наотмашь.
– Анна, завтра велено собрать всех парней от четырнадцати лет, – буркнул Силин бычливо. – Ты того.... Валерку подготовь. К семи часам утра. И сама явись. Со старшей девкой. Слышишь?! Все! Смотри!..
Оглушило Анну это сообщение. Рассудок разом замутился у нее. Она поняла не все.
– Kак?! Зачем Валерия?!.. Куда?.. Это что ж, помилуйте?..
– Парней туда отправляют. – Махнул он плеточкой назад, за малиновые голые кусты вишенника, дрожавшие в заносах, – куда испокон веков закатывалось солнце красное. – В Германию, должно. – Но был словно бы смущен немного. Прежде же за ним этого не замечалось. Не в его обычае. С чего б?..
«Значит, так оно – и впрямь постигло нас, не понаслышке как-нибудь: да еще разъединят фашисты нас друг от друга, будто скот, говорили люди; схватят и по партиям рассортируют всех отдельно – парней, девушек и пожилых с малыми ребятками и стариками, и погонят в неизвестное, да, да», – пронеслось в ее сознании, и она взмолилась, умоляла:
– Вы побойтесь бога, Николай Фомич! Знаете, что все мы – в вашей полной власти… Ведь мы вместе ходим по одной земле – неделимой… Малец пропадет, отлученный от семьи. Сломается…
– Ну, а что же я могу; посуди, Анна, сама: приказ такой. Германский. – Силин головою вертанул, словно бы освобождаясь красной налившейся шеей от тесного воротника тужурки: по-видимому, ему самому претил рассуждающе-убеждающий тон, на какой он опять опустился в разговоре с той, с которой мог он сделать что угодно. – Ты еще и недовольна, мать моя, что я пришел, предупредил тебя заранее! Вот народец пошел!.. Не хухры-мухры…
Сглотнув накатившиеся слезы, Анна, хотя видела определенно, что с несносным языком своим въелась у него в печенках, все же продолжала вразумлять – норовила уж докончить поскорее то, что начала:
– Разве вы не весь сок выжали из нас, задавленных, забитых, обнищалых? У тебя у самого ведь тоже есть семейство: дети кровные, жена хворая, безгласая. Так рассуди по ним ответственно, по-мужски, и снизойди до нас, до наших мольб, пожалуйста!.. – Она и просительно его клянула с целью устыдить, как-нибудь разжалобив; и незаметно для себя в стычке с ним опять с позабывчивостью перекинулась на «ты» – хотела, верно, еще резче выговорить ему все, что накопилось, чтобы до него теперь хоть что-нибудь дошло…
Однако от ее непозволительного напоминания, задевшего за живое, он лишь поморщился, ровно хватанул что кислое, пригоршню большущую, – для него ее острые слова предполагали лишь одно – неоспоримое установление его неискупаемой вины и перед родными также, в доме собственном. Зачем далеко ходить? Не хватало еще этого! Его судили, осуждали местные, тихони даже, те, которых изводил он методично, наслаждаясь их смертельным замешательством! В сердцах повторив, что он ничем сейчас помочь не может – против приказания комендатуры не попрет (будто раньше мог, хотел и смел), он повернулся, да зашлепал прочь. И все.
Анне, и раздетой, стало жарко. Несмотря на то, что февраль колючие усы свои топырил.
Потом уж она про себя отметила неожиданную в Силине смену настроения, что-то означавшую, возможно, – хорошее или плохое, и решила только, что хорошего-то все равно не может быть от фашиствующего немца, пока тот, подлый, на чужом хребте сидит, людьми помыкает. Вместе со своими прихлебателями. Так-то.
Каково-то матери. Отрежь любой палец – больно. Так и это.
Весь остаток этого суетного дня и еще полночи, далеко за полночь, Анна лихорадочно, горя, убиваясь, плача, готовила Валерию все необходимое, чем могла она его снабдить на прощание, чтоб ему, мальчишке, пребывающему где-то там целиком на зимней стуже (в качестве дармовой рабочей силы), совсем одному, вне пределов родительского дома, без родных и близких, без надежного материнского присмотра и заботливой ласки, было тепло, ладно, – готовила покрепче, потеплее одежонку, белье, обувину и кой-что из съестного на дорожку, из тех береженых ограниченных запасов, какие берегла она, таская под бомбежками и обстрелами в узлах, на самый-самый черный день и также шила попрочнее для него заплечный вещевой мешок с лямками.
Все, оказывается, нужно было приготовить для Валерия. Все – предусмотреть. Начиная от иголки с ниткой. Вроде бы пустяшное. Но не зряшное. Только где что взять теперь? На полочке? Положенное кем-то? На какой? Какой и в помине вовсе нет?
Это уж вторые, значит, проводы заладила – назначила Анне война – тягостно-тяжелые и оскорбительно ужасные: было бы куда ей объяснимее-понятнее (и менее досаднее), если бы сынок ее, еще робкий паренек, самостоятельно еще не ступивший никуда и шагу, уходил, как водится, на защиту своего отечества, а то против воли и желания его силком, в приказном порядке, уводил с собою неприятель. Вот так, стало быть, она вырастила и себе и Родине помогу…
Ее и поэтому, может, трясло. Мелкой дрожью. Снова в ней какой-то нерв – наследственное (от отца) – взвинтился. И коробка черепная вся yжe забилась и загромоздилась чем-то деревянным столь, что с расстроенными мыслями в тех дебрях никуда не провернуться и ни протолкнуться было, точь-в-точь как внутри обжитой землянки, точно еще больше сузившейся внезапно. Кошмар этот длился, длился, не кончаясь и не утихая; все перед глазами в скачущую и размытую линию сливалось – даже лица все, знакомые, попадавшие в поле ее зрения.
В неразгибку почти ползая на коленях над обношенным, нищенским тряпьем из которого она пыталась выбрать что получше, в позабывчивости откладывая да перекладывая то одно, то другое, и внаклонку еще после танцуя у растопленной невысокой печки, не помещавшейся при кладке в высоту, Анна уже до того дохлопоталась, что в полном изнеможении откинулась на свою дощатую, жесткую постель и тотчас затихла так – отключилась будто. Она потом не имела абсолютно никакого представления о том, спала ли она сколько-нибудь после этого, часок какой, или только полежала в глубоком забытьи, в одном положении, с замертвевшим взглядом, которым даже и не силилась (по привычке прежних томительных ночей, проведенных здесь) ощупывать над собой давящую густую темь. Но почему-то больше, чем обыкновенно, почему-то обостренней этой ночью она слышала и пристаныванье самых маленьких во сне (а некогда она считала, что такое свойственно лишь натерпевшимся всех их большим, которых донимает тем, что грезится, действительность), и худое, заутробное какое-то завыванье непогоды в печной трубе, и забавно-невинное мышиное попискивание (кошка беспробудно грелась на печи). Анна, напрягаясь, проверяла, проверяла себя мысленно, не забыла ль она еще что-то сделать для сыночка, положить ему в мешок. И в испуге замирала временами, в жар опять ее кидало – оттого, что ей казалось, будто она чего-то в этом отношении недоглядела, недоделала, как нужно; помнить сразу помнила, что надо, а что именно, забыла, горькая головушка. Как же так?! И ведь взрослая, кажись, ученая по опыту…
«А все-таки, роднуша, погоди, – срываясь, прошептали ее губы. Для себя самой. – Дай-ка поточней в памяти проверю, ладно ли управилась? Уже коснулось старшенького: провожаю… Не кого-нибудь… Если что недогляжу – недогляда не прощу себе ни в жизнь, перемучаюсь потом…» – И по-новому, с отчаянной решимостью она попыталась все же протолкнуться в своей памяти, точно сквозь глухую напластованную толщу древних залежей каких-то с ответвлениями в них проложенных узеньких и низеньких переходов…
Между прочим Анна, хотя донельзя смятенная, своевременно, когда Силин завостребовал Валерия, про себя ж отметила и взвесила: уже солнце повернуло на весну – подогревало слышно, и настолько день подлинел, посветлел (под землей сидишь, будто крот, – ничего не видишь); тепло может быстро источить и половодьем распустить снежный покров – и, как ни крути, не обойтись Валере без хороших резиновых калош. Он без них наплачется. Вся обувка развалилась у него. И стало быть, они очень нужны к тем ношенным, зато прочным, подшитым настоящей, проваренной дратвой валенкам из двух пар, поднесенных на днях тетей Нюшей, крестной.
Тетя Нюша издавна подпирала семейство племянницы Анны; подпирала безотлагательной практической помощью, идущей от самого сердца и оказываемой, словно по какому-то очень чувствительному внутреннему барометру, особенно в бедственное для всех время. Тетя Нюша, как волшебная зеленая палочка-выручалочка, тихо, незаметно, даже стеснительно за то, что она делала, являлась каждый раз с скромным подношением, без всяких родственных наставлений кому-нибудь и со сдержанным проявлением любви, на которую, однако, можно было положиться полностью, и также тихо, неприметно уходила снова. Просто человеком. Кто бескорыстно, незаменимо служил живым звеном Анниного окружения.
Сейчас эти валенки дареные, пусть великоватые немного, чудно выручили Анну: они очень кстати подошли Валере – ему было, значит, в чем идти теперь. Только бы еще калоши раздобыть…
И уже без промедления заторопилась Анна, кое-как петляя в выбелено-пухлых сугробах, промеж внушительных колпаков немецких блиндажей, в безнадежно осевшую подслеповатую избу желтоватого скаредного Семена Голихина, не считавшегося прежде, до войны, при жизни стольких истинных, стоящих мужиков плоть от плоти, заправским мужиком в деревне, но нынче вполне считающимся таковым.