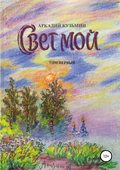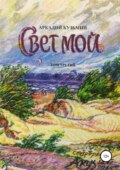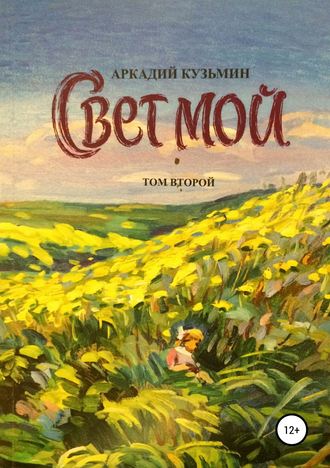
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 2
«Откуда», – только спросил офицер. Переводчик сказал ему, что из Ромашино. И этот офицер закричал: «Wieder Romaschino?! Vojer!» Значит, надо сжечь деревню.
Но нас не тронули, распустили по баракам все-таки. Может, потому не расстреляли, что нуждались в рабочих руках.
А убили немца-патруля, оказалось, очень просто, проще пареной репы. Мы рыли окопы целый этот день; гнали нас по лесу, по тропочке. Лес уже просыхал, начинало все зеленеть. Их, немцев, восемь патрулей, а нас, лагерников, сто, даже больше. Идут они – оглядываются, боятся, выходит; тоже люди – когда прижало, не хотят умирать, и все. А те мужики-то вернулись в окоп. А немец сидел с котелком в руках. Его и убили. И все оружие, какое было там, они утащили с собою в лес.
Только наутро мы втроем (еще один парень ржевский) остались на какой-то миг без присмотра. И словно кто подтолкнул нас разом: «Что же вы! Бегите!» Мы переглянулись, озирнулись, подхватились; дернули по лесу, по кочкам, за елками. К вечеру в том лесу набрели на каких-то мужиков-бородачей – видно, таких же, как сами мы, беглецов. Только те не принимали нас в свою мужскую компанию – не то, что сторонились нас, как наши мужики в лагере, а напрямик высказали нам, что с нами они запросто пропадут. С матом прогнали нас и ушли от нас. Куда же, в какую сторону нам податься – было не ясно, опасно. Заночевали мы в каком-то заброшенном окопчике. Потом на солнце пошли. Плутали-плутали – и вышли уже, выяснилось, по эту линию фронта. То ли фронт подвинулся – мы и не поняли, его не переходили.
Ну, добрели так до станции одной. Уже поздним вечером. Там стрелочница всматривалась, всматривалась в нас… И вдруг говорит: пойдем, у меня переночуете. У меня тоже сын, такой горемыка. Вошли с ней в какое-то строение. Суетится она: мои родимые! А мы страшно есть хотим. А спросить – не спрашивается… Язык не подымается. У нее – свои ребятишки махонькие. Троица. На полу лежат под продырявленным армяком. А на полке, видим, испеченный хлеб – такой же, как у нас был, с капустой наполовину, какой с полки на лавку тек. И спросить-то не решаемся, хоть и оголодались жутко: спросим, а станем ли еще есть его? Но ничего – поели потом. И утречком она посадила нас на попутный поезд.
Вот больше ничего и не знаем про лагерь, про Валерия и Толю.
– Миша, я еще что хочу спросить у вас, – сказала, запинаясь, Анна. – Мне плохой сон о нем снился в феврале: будто он, Валера, стоял под расстрелом. Так ли?
– Не с одним Валерой такое было. Я же рассказывал вам… Тогда почему-то ноги отказали было у него. Идти он не мог. А нас долго гнали. А когда его другие немцы на санях подвезли, ноги и отошли сами собой. Там о смерти мы не думали…
– А что, – спросила Поля, – дружат ли между собой они, Толя и Валерий?
И к своему разочарованию она услышала, что дружбы особенной он не замечал, что у них обычные товарищеские отношения и что там и дружить-то как-то некогда – иное все, другой воздух. Скоро разбегутся все, можно верить в это.
XVII
Демобилизованный из армии по болезни Макаров Николай, Аннин и Дунин брат, и прежде проявлял особую склонность к словесным упражнениям перед особенно знакомыми и родными – он всегда оригинальничал, а тут, видимо, в связи с окончательной потерей веры в то, что он выкарабкается, он, належавшийся и исхудалый, стал словесно упражняться уже не в том смысле, т. е. обращать внимание всех на эту сторону личной катастрофы, склоняясь к пониманию закона судьбы, а не воли человека. Воля человека не давала ему продление дней. И эта перемена, случившаяся с ним, тем, который обычно со снисхождением посмеивался над другими, ежели они бывали в подобном положении, и, надо признать, в жизни чаще был колюч, несправедлив, была видна теперь в особенности.
Анна, пришедшая к Николаю в дом, подсознательно отметила это про себя, сидя у его кровати, на которой он лежмя лежал, и разговаривая с ним, обреченным больным, капризным. Так, например, прежде он говорил ей – про тяготы, выпавшие на его долю после замужества (да и до него также):
– Ну, что ж, Макаровна, милая. Родишься от крестьянского мужика, так и все должна уметь сделать. Разве не так? Ты же – не барынька мелкопоместная какая, не белоручка все-таки. И замужем за черным мужиком, не за принцем. Ты ж перебирала всех женихов, к тебе сватавшихся, засылавших сватов, – кто побогаче…
– Не перебирала, – защищалась Анна, краснея, – а говорила только: – дедушка (обычно он принимал и угощал за столом сватов этих), мне не нравятся они. И он даже веселел: «Ну, как хочешь, Аннушка, внученька… Как ты скажешь, так и будет. По-твоему».
А о себе Николай говорил ей теперь, насупясь, как бычок:
– Как народишься все-таки, видать, круглым неудачником, так и будешь всю жизнь в неудачниках ходить. Ни богу свечка, ни черту кочерга. А-а, пропадай моя телега – все четыре колеса! Я теперь в гостях у жизни, как и наша покойница Маша. Наверное, у тебя, сестра, волжский характер, что такое вынесла, детей спасла. Я-то вон себя не уберег в этой перепалке: заказан мне билет туда. И до пятидесяти лет не дотяну уже.
У него печень на четыре сантиметра вышла из-под ребер – увеличилась в объеме, и уже зубы все повыпадали. Лечение, какое было (и в Чачкино он лежал), ему не помогало уже.
– Ты – мужчина все же, Колинька, – только и сказала Анна, подкашливая.
И ей показалось, что перед нею – тот отставший красноармеец из сорок первого года и что она опять не может ничем помочь ему, как бы ни хотела.
Что же вообще такое человек? Объективно ли он оценивает себя? Знает ли он меру и уем своих сил? Да, бывают такие пределы человеческих возможностей, когда требуется гораздо большее мужество, чтобы жить, чем то, чтобы умереть по-тихому.
Но Анна жива, вероятно, потому, что знала знойную вечность ветра, пересыпавшего нагретые комочки распаханной земли, от которой было и спину не разогнуть, и ослепительный солнечный блеск на осколках стекла или воды на ней. Солнце и сейчас озаряло дали, брызгало сквозь грязные незавешенные окна Николаевской избы. Толстый ствол и разветвившиеся сучья тополя (качались на ветру) были перед окном черны, а молодые тонкие побеги сливочно блестели, и за тополем все было в движении в весенней дымке.
Разговаривая с Анной, Николай снова грыз на руках ногти, как и в дни своей юности, поглощая чтиво: значит, привычка-то не вытравилась в нем!
Скрипнул он зубами (еще не все успели выпасть), мотнул головой доходчиво:
– Ой!
Потом:
– Льва Толстого мне найдите, достаньте где-нибудь – хочу по-старинке почитать… вспомнить молодость… – Спохватился и погас: – Нет, не нужно уже, пожалуй, а? Мне ничего уже не надо. Никаких умственный упражнений, хотя голова еще светла. Видно, все: я уже отстрелялся, батенька ты мой. Вот как оно бывает, а? Все у меня убрано и скошено. Так что лечить, видно, уже нечего.
И даже про детей своих он ничего никому не наказывал – не обмолвился ни словом, ни полсловом, не примирился с ними: он сам по себе, они сами по себе; вот исправно прихаживала вокруг него верная Большая Марья, и довольно и ему, и с него.
– Колинька, братушка! – воззвала к нему Анна. – Неужели ты не приголубишь напоследки сына, дочерей своих? Непримиренным будешь? Ведь они ж живые. Со своим тут, около тебя, правом… Душа так щемит…
Она неспроста взывала к его совести: знала, что уже не встанет он. Недавно ей приснилось: Маша подавала ему руку…
В устоявшей избе, с пронизанными насквозь стенами осколками бомб (с «кукурузника» осколочными угодило – двоих сверстников Антона убило – они играли тогда в карты за столом), Макаровы дети, с которыми Анна была ласкова (она перецеловала всех), были какие-то неприкаянные, пришибленные и нахохлившиеся при вернувшемся к ним отце: они не простили ему, выходит, до сих пор того, что он привел без их спросу вторую жену себе – Большую Марью. Где он отыскал ее?
Очень угрюмствовал Гриша, нелюдимый, колючий, весь в папочку нравом и своей сердитостью, такой неласковый к нему и к мачехе; смотрел в одну точку калеными, сузившимися от решимости сердиться, глазами, ноздри раздувались, ерошились ежиком непричесанные волосы. Порох малец был – и только. Дескать, это он, один отец, мать сгубил, загнал. О-о! – наобвинять сколько можно, стоит только захотеть.
А она, Елизавета, отчего угасла безвременно. Тогда, в смутные, тридцатые годы, хотели самого Николая раскулачить: корову взяли, еще чего-то взяли у него. Жена Елизавета поехала в область – в Тверь – хлопотать насчет его; документы она подняла, стала доказывать всем: он – красный офицер – не трогайте его. Его перестали трогать. А она после этого гриппом переболела. Два года потом поболела – и все.
Но Николай по-прежнему ершился бескомпромиссно, неподатливый.
– Знаешь, что! – поднялся он, прежний рыцарь слова. – Давай мы-то не будем скандалить больше. За что нам с тобой, Аннушка, скандалить? Вернее, зачем, а? Списать они меня хотят? Что я поустарел для них? Хлам ненужный? С дороги прочь? Ставят мне в пику то, что я и не делал, косятся на меня, на мою эту жену. А я уж слышу нутром своим, как смерть ко мне пробирается. Шажок за шажком.
И Аннушка поджала губы перед ним, как тогда, в девчонках: знала его непреклонность. От него она пошла в свой отцовский дом – ее туда потянуло.
Вот отцовский дом еще был цел, цел и дубок, высаженный дедом, а мужниной избы нет. И вот это давнишнее, одно и то же приходившее к ней видение ударило Анну наяву. Да, все есть именно так. Говорящий монотонно Николай, беспомощный, лежащий в переду (где не было уже икон, но сходство с видением полное), как лежал до этого и дед, унижаемый им до последней минуты. И дедушкин дубок есть, рдеет весь приветливым светом для людей. Вот он, зеленый свет надежд, льющийся опять навстречу ей; он также и наяву далек, как в тех видениях. Но только она уже не побежит вприпрыжку вперед, сверкая белым платьицем меж весенних незамутненных разливов зелени.
И там Анна, там, в просвете веселого дубка – увидала на зелено-голубой возвышенности белевший крест покойницы Маши.
«Все распалось в звеньях нашей семьи, и все мы рядом», – странно подумалось ей.
Потом Анна шла мимо бывшего их овина, там, где ее оглушило однажды громом с молнией, когда она девчонкой бежала и испугалась очень; в бесконечной выси трещали и заливались жаворонки, и она думала неразрешимо: «Вот зачем он, Николай, жил и делал революцию, мучил всех и сам мучился и мучается еще? Зачем? Зачем я живу? Зачем мы все живем? Разве лишь для этого – множить и так многочисленные беды, мучиться? Нет, это не по божески, не по-людски. Не в наказание за что-то мы живем в вечных мучениях, а люди придумали себе оправдание для этого».
Николай скончался в мае.
XVIII
Однажды тетя Поля с нескрываемым смущением подступилась к Антону, с кем у нее с издавна сложились и сохранялись особенные отношения – на всегдашнюю ревнивую зависть ее сына, Толика. Она сказала:
– Я вот о чем хотела очень попросить тебя, Антоша, если можно…
– Пожалуйста… – Но он с некоторым удивлением остановился около покосившегося крыльца, глядя на нее: смутила ее просительность.
– Ведь ты хорошо рисуешь, сынок…
– Сейчас не рисую, тетя Поля, ничего. Уже давно. Рисовал когда-то. И надо бы, конечно, начать снова как-нибудь… Руки просят… Все исшершавились от копки этой…
– Почему ж забросил? – не отступала тетя Поля.
Взросло, виновато он пожал плечами:
– Что-то не рисуется мне сейчас ничто. Да и нечем.
– Но ты же хорошо, я знаю, рисовал. Все альбомы девкам разрисовывал, а Наталье – схемы, чертежи. Был у тебя талант определенно. Было ведь такое?
– Было, – как-то вяло согласился он.
– Так попробуй снова! Ну!
– Ну, только не сейчас… Попробую…
– Есть такая просьба у меня к тебе, Антоша: нарисуй-ка мне портретик Сталина. Уважь.
– Портрет Сталина? – его удивила ее просьба.
– Да-да, портретик Сталина. Я очень захотела.
– А зачем он вам, тетя Поля?
– В уголок избы его пристрою, там, где иконки.
– Для вас – нарисую, если вы хотите. Нет только листа бумаги подходящей.
– Может, где-нибудь я сыщу. Так обещаешь мне? – И она повеселела.
– Обязательно, тетя Поля.
– Запомни, Полюшка: все хорошо в меру, – многозначительно, с намеком, сказал на это слыхавший их разговор боец Леонид – новый друг Антона, но так, что это как будто предназначалось больше знать Антону. – Авторитет вождя тоже хорош в меру.
Не откладывая, Антон карандашом нарисовал портрет маршала Сталина величиной с икону, и обрадованная этим тетя Поля, вставив его в простенькую рамку, вывесила его под вышитым полотенцем. Через день, увидав портрет, таланту Антона заудивлялась деревенская неграмотная баба Марфа Метелина, заглянувшая зачем-то к ней в избу. Руками замахала, разволновалась и, забыв, зачем зашла, побежала домой и скоро принесла карточку погибшего сына и слезно просила Антона увеличить рисунок, чтобы повесить в рамочке – это все, что осталось от сына.
И с этого неотклоненного заказа Антон вновь возвратился к рисованию – с какою-то уверенностью в необходимости этого для всех.
Он даже и Семену Голихину не отказал, когда тот пришел с такой же просьбой, как ни недолюбливал его за вредность, немужичность.
За то, что в сорок первом долбил ломом землю во дворе их, кашинского, дома, будучи понятым, помогая гитлеровцам и Силину; что потом был против присутствия Кашиных в немецкой конюшне во время выселения – не хотел помочь, брюзжал бессовестно. Но его старший двадцатилетний сын Станислав здесь был не при чем: Станислав погиб на фронте при защите Родины от врагов.
Антон опять перерисовал с фотографии – и вновь было удачно у него; ему самому даже понравилось, как он нарисовал. А расстроганный Голихин за это дал Анне два килограмма зерна, и с этого дня стал величать его уже по имени и отчеству.
Вскоре зачастили к Антону многие женщины, кто потерял своих. И часто во время рисования им погибших, перед его глазами вставало, все застилая, видение тех лежащих ничком бойцов, павших у Волги.
Люди уже смотрели на то, что и как Антон рисовал для них и на самого его, как на открывшееся чудо таланта, перед которым простой народ всегда благоговейно-мудро преклонялся, и говорили ему, ровно большому: «Бог в помощь!» и кланялись ему, и пытались тоже величать – видимо, в знак благодарности, Антон понимал, его отцу Василию, трудолюбивому и безотказному в труде на пользу обществу. По-видимому, народ очень соскучился по искусству и теперь невзначай открывал для себя, что он жил в этих Антоновых рисунках: все уж специально приходили к нему – чтобы лишь посмотреть нарисованное им, приходили к нему как на выставку.
А как-то Антон упросил посидеть неподвижно полчасика-часок бабку Степаниду. И похоже изобразил ее с натуры. Бабка была этим польщена. Только попросила его:
– Внучок, черное пятно-то с носа моего сотри. А то люди потом скажут, если мой портрет увидят: «Эва, какая грязная была бабка Степанида». – Она, естественно, хотела выглядеть благообразно.
И с этого раза она уже не приставала к Анне со своими придирками, смягчилась как-то – тоже проявила, верно, страсть к искусству: преклонялась пред его силой.
И даже наши бойцы приходили к Антону с разнообразными просьбами, советами, рассказами о художниках, о которых они читали или слышали, – приходили к нему, как к настоящему художнику. Это было так диковинно. Он почувствовал себя совсем взрослым, уже не ребенком.
Один раз Антон принес нарисованный с натуры карандашом тот дубок, за которым стояла банька Макаровых, и раскрасил его красящим немецким порохом, поскольку никаких красок у него не было и негде было их купить.
– Он же должен быть зеленым, сынок, – виновато заметила Анна. – Или я уже ничего не понимаю? Поглупела?
– Нет, пусть будет красноватым, мам, – сказал Антон. – На заходе солнца.
– Но это ж вроде б неправда.
– Что вы понимаете! – сказал смеющийся боец, оказавшийся просто рядом.
– Я видел его именно таким, точь-в-точь, – упрямствовал в своей правоте Антон. – Смотря на него, когда садилось уже солнце и лучами било сквозь него. Дубок был красный весь. Корявый. Но упорный какой-то. И мне захотелось нарисовать его в этом красном свете, которому нет конца.
– Дубок этот дед посадил еще в молодости: загадал на себя, – пояснила Анна.
– О, мам как я – рябину? – спросила Наташа.
– Твоя рябина, дочка, чахла. Видно, корни ей подкосили, когда мы окоп там рыли. А теперь она и принялась зеленеть. Так буйно – не узнать.
– Пусть уж будет красным. Приколю его на стенку. – Антон так и сделал.
– Дед посадил его в год, когда родился мой отец-первенец, – сказала Анна. – И дедушка, и бабушка очень любили сына. И вот они стали уговаривать меня, чтобы я первенца сына назвала в честь умершего отца Макаром, но по святцам в это время получалось, что следует как-то иначе назвать, и тогда назвали мы первенца Валерой. Ты, Наташа, как старшая дочь в семье, была непослушная, ненадежная какая-то, поэтому дела доверяли потом меньшему – Валерию. Ох, душа у меня болит по нему – где-то он теперь? Жив ли еще?
И теперь вдруг рисунок дубка стал нравиться Анне именно таким: весь размытый – как над полем льна взлетел; корявый весь, но – с нежными листочками, должно, стоит красой. Непреклонно гордый у тропинки узкой. За ним – спуск, длинный и большой.
И уже какою-то другой, нежели она знала до сих пор, она увидала разом всю жизнь свою в этом сыновнем раскрашенном листке, приколотом на стенку. Она боялась даже признаться себе, не только кому-нибудь, что то в точности так.
ХIХ
«Собственно, надежда и любовь светили нам, нас поднимали, берегли; не всем, однако, повезло».
Так отныне Анна думала, обращаясь в мыслях к столь трагично заканчивавшейся судьбе брата Николая. Он и она вместе росли, взрослели, а потом и одновременно, считай, создавали свои семейные гнезда в родной же деревне, на глазах друг у друга. Щемило в сердце у ней за то, что вот, называется, прибыл домой с фронта он, гордый, дедовской породы, мужик, глава большой семьи – прибыл умирать, но что (обидно!) не установилось дома между ним и его отпрысками – лада, взаимной любви, расположения, ласки, нежности и уважения, того необходимого лекарства, что могло бы напоследок смягчить его, утешить его душевные страдания, – невыносимо тяжко было и ему самому и бунтующим детям, которые затаились, точно ершистые сычики в норках. Не хотели они себе признаваться в своей черствости, жестокости, неправоте; не хотели они видеть того, насколько он уже сдал здоровьем – что окончательно слег – и стал очень раздражительным. Кому это только нужно! В угоду чему? Только несносным характерам? Когда теперь все знаешь, слышишь и знаешь то, что может еще быть каждую минуту…
И он так говорил с ней, Анной, будто ему нужны были в первую очередь зрители и вовсе не важны были для него чужие чувства, настроение, – занят был, видать тем, чтобы еще должным образом произвести на всех впечатление. Не мог он без этого, будучи и на самом краю пропасти.
Лишь сказал – как сделал одолжение сестрам, на которых одно время беспричинно дулся:
– Ладно, положите меня рядышком с сестрой. Мы ушли недалеко друг от друга.
И тут как будто съязвил.
Да нет, не на самой поверхности моря самая глубина лежит, разумеется. И та волна сильней, которая из глубины и глубже глубину захватывает. Вот такая глубокая волна и захлестнула Анну с детьми. Они отчаянно выплыли. Покамест – без старшего сына, пропадающего где-то в нацистском лагере. И без отца, Василия. И где он? Наверное, лежит где-то – безмоленный, погубленный… Коли еще не откликнулся…
Итак, и Николай скончался дома. Неприкаянный, несмиренный. К великому огорчению Анны. Она не могла с этим смириться никак в своих раздумьях. Поскольку сама-то смогла выдюжить и еще на своих ногах ходила и все делала, как заведенная.
Она, развешивая у крыльца на припалявшем солнце выстиранное белье, слышала, как толковали два бойца, сидевшие на завалинке с куревом:
– Люди сами себя не жалеют и других не жалеют. О-ох! Сколько голов, а сколько творят чего эти головы… Страсть! Где же у них правильность найти?
– Найдешь, поди. Ворогам худая снасть покою не дает и не даст. Не ищи, приятель, ее.
– Вот кобыла двадцать жеребят нажеребит, а на нее все едино хомут надевают, да потяжелее воз навьючивают. Нет, самое милое дело своим трудом жить. И не воровать. Как хочешь, так и живи. Не смотри ни на кого, как нужно жить; смотри только на себя, только на себя. Пример ни с кого не снимай, как тебе только лучше, так и живи.
– Эка, брат, важность! Америку открыл! Живи, мол… А ежели супостат не дает тебе пожить… Эх, и такой-то наш народ захотела сломать ненасытная немчура!
– Ну, теперь для нее запахло жареным…
XX
Этот май 1943 года изменил жизнь Антона. Так произошло. Непредвиденно.
За бывшей колхозной кузницей, разнесенной бомбой в прошлогодний август – заодно с тремя грузовиками фрицев, один из которых, шофер, смешной истеричный идиотик, еще кричал им, ребятам, «хенде хох!» и пытался обыскать их (смех: он подозревал, что после бомбежки они будто бы подобрали его драгоценные наручные часы!), выросла большая зеленая армейская палатка, а поодаль столпились несколько малых палаток: к ним, в деревню Ромашино, передислоцировалась новая красноармейская часть. На третий день общительный квартирант рядовой Павел Смородинов, прихворнул, потому и послал Антона к большой палатке на взгорке – здесь находилась армейская кухня – за обедом.
Под ногами, на протороченной, но давно не езженной проселочной дороге, разливалась, буйствовала майская зелень; ломило глаза от обилия выскочивших сочных желтых цветков одуванчика, лютика и других растений; густела, как всегда, пахучая ромашка.
Западней сместился фронт, что, как заколдованный, толокся у Ржева вечность, и в прошлое ушел мрак семнадцатимесячной немецкой оккупации. Жизнь с каждым днем налаживалась, восстанавливалась.
– Повар Анна Андреевна в палатке, – приветил Антона юркий и зоркий старший лейтенант, вышагнувший оттуда. – Входи, входи, дружок, смелей.
И Антон шагнул за полог внутрь. Поздоровавшись, встал у самого входа. Отсюда исходил вкуснейший запах варева.
На противоположном конце просторной прохладной палатки весело галдели молоденькая круглощекая и живоглазая девушка в светлом свитере, беленький молодец в гимнастерке без погон и моложавая женщина тоже в свитере и белом фартуке. Она наступала на худощавого мужчину:
– В общем, говорите, вам помогла Нина Ивановна? Без нее бы – все?
– Ну, мне всегда помогали женщины, – непонятно было, шутил ли тот, очень острый на язык балагур, или нет. – Как только я родился, с тех пор меня постоянно окружают женщины, – я многим им обязан. – И задержал глаза на вошедшем Антоне.
Антон сказал, за чем пришел.
– А, давай, давай котелок, – пригласила женщина в переднике. – А второе не во что? Придется в миску положить. Только принеси ее обратно.
– Обязательно принесу, – заверил Антон.
– Как зовут тебя? – она отдала ему в руки приготовленную еду для солдата.
– Антон.
– А меня – Анной Андреевной. Вот и познакомились мы. Еще ты не скажешь мне, растет ли тут где-нибудь щавель, кислица?
– Да в оврагах есть. Надо поискать.
– А ты не смог бы набрать для нас, чтобы сварить зеленые щи?
– А сколько ее нужно?
– Нам – кило пять-шесть, примерно. Поболее ведра.
– Ну, должно быть, смогу, если пойду не один – с сестренкой.
– Так сходите, я прошу. Нам бы хотелось на завтра, чтобы обед приготовить, – часам к десяти-одиннадцати.
– Ладно, мы пораньше пойдем.
– Чудно, приносите. Итак, буду ждать, надеюсь на тебя, Антон…
– Конечно! – забормотал он, краснея, очевидно, при всех. – Раз уж говорю… Отчего ж… Нам привычно это сделать.
XXI
Утро было теплое, мягкое, с редко отрывавшимся, чуть слышным дождиком, с сильными луговыми запахами. Собирая вместе с Верочкой щавель, Антон вспомнил с улыбкой, как год назад, переболев тифом, голодный, наклонялся, чтоб сорвать листочек, да и тыкался лицом в траву и насилу подымался – от головокружительной слабости. Теперь-то что! Жить можно.
Довольная за целую корзину щавеля, Анна Андреевна усадила Антона с Верой, сестренкой, промокших, за кухонный столик, грубо сколоченный из досок, и поставила перед нами миски, наполненные до краев пшенной кашей – завтрак:
– Ешьте! Наверное, проголодались очень. И домой, матери, снесете. Дам… Было б хорошо, если б ты, Антон, помог мне сейчас, после этого, и разобрать щавель. У тебя найдется время? Можешь?
– Да, пожалуй, – отвечал он, занятый жеванием и глотанием каши (с голодухи, как он чувствовал, мог проглотить целого слона). И соображал, что не в ущерб тут поработаю: ведь в колхозе главную работу – копку и посев – уже закончили.
И, казалось, Анна Андреевна вполне понимала его состояние:
– Ну, добро. Спасибо, если выручишь.
Потом он вместе с ней привычно перебирал в палатке щавель, бросая его в объемистую кастрюлю, и она, глядя серьезно ему в глаза, расспрашивала сколько их, детей, у матери и где отец. Сочувствовала.
Тоже помог Антон и картошку почистить. Обед готовился вовремя!
Угрюмоватый и сутуловатый немолодой солдат в потерявших уже цвет растоптанных ботинках с обмотками, так называемый (не по-военному звучало) рабочий кухни, кто ловко, со сноровкой устанавливал и прилаживал не только нескольковедерный котел на кирпичики ли, на камни ли, но и постоянно также следил за наличием воды, дров и поддержанием под плитой хорошего огня в любую погоду, кто таскал разные тяжести и наводил вокруг порядок, устало присел на неразрубленную корягу и сказал Антону запросто:
– Сидай, друг, в ногах правды нету. – Сказал, будто своему лучшему знакомому, которого знал уже сто лет, и потянулся за махоркой в карман брюк. – Дело сделано, отдохнем чуток.
Шумливо-говорливо сходились на обед в палатку молодцеватые офицеры, среди них несколько женщин-медиков, старшины, солдаты-шоферы; знавшая их с привычками и склонностями, видно, точно собственных детей, и счастливая тем, что могла душевно услужить им – накормить их на славу, тридцатишестилетняя Анна Андреевна (она призналась: была на пять лет моложе мамы Антона), прихорошившись, с шуточками, по-семейному наливала им в миски и даже подносила на столы-времянки пахучие зеленые щи, доливала добавку, давала второе и компот. Нарезанный хлеб (и белый!) лежал на столах.
Снова появились оживленная черноглазая девушка лет шестнадцати-семнадцати, Ира, дочь Анны Андреевны, и демонстративно увязавшийся за ней белолицый острослов Аистов, подбородка которого, видно, еще редко касалась бритва. Он, царственно, не то разыгрывая свое ухаживание на виду у всех (и этим как бы занимая всех с наслаждением), не то всерьез увязываясь, вился, как одержимый, вокруг нее. Шутливо жаловался Анне Андреевне:
– Ах, хотя бы вы, моя теща любимая, посочувствовали мне! Мне нечем, право, вашу дочку приманивать. Я нищ, как церковная крыса; только хвост и уши торчат у меня, видите? «Полюбуйся на свою работу – оттаскала уши», – говорил я матери своей. А она свое твердила: «Нет, желанный, уродился ты таким лопоухим – что поделаешь!»
– Но ведь скоро присвоят тебе звание сержантское – переведут из вольнонаемных…
– Должно так, доживу, – явно выразил он некоторое неудовольствие тем, что Анна Андреевна, коснулась по-видимому, не пустяшной, но не соответствовавшей моменту и его настроению темы.
А яркая, стройная Ира, с ласково обращенным ко всем взглядом, упругая в движениях, налетела на нее, дух переводя:
– Чем же, мамочка, ты меня накормишь сегодня? Что-то вкусненькое, вижу, у тебя… Ну, что? Я есть хочу! О-о, щи зеленые!
В ее характере и поведении несомненно соединялись как-то гармонично, дополняя одно другое, еще что-то полудетское и уже настоящее девичье. Она делала все так естественно, с таким неподдельным простодушием и непосредственностью, что, верно, наперед знала с точностью, что все воспримут это с благосклонной улыбкой и умилением перед ней. Антон смотрел, что говорится, во все глаза на нее: был более всего поражен простотой ее поведения на людях и уж завидовал в волнении этому острослову Аистову, почему-то бывшему всегда рядом с ней. И отметил про себя: «Да, это уже иные отношения, нежели у нас с матерью». И ему захотелось вдруг узнать и познакомиться с этими людьми поближе: их отношения между собой предвосхищали его самые смелые предположения, они ярче всех соблазнов вызывали в его душе восторг и преклонение.
День ото дня, помогая отныне во всем Анне Андреевне, Антон все больше узнавал всех и свыкался с таким положением. И уже должным образом, разумеется, воспринимал – как относящееся непременно к нему, скажем то, что громогласно провозглашал не раз с поклоном входивший в палатку капитан Усов, любовно прозванный маркизом:
– Приветствую вас, синьоры! Как ваше самочувствие? Как ваше здоровье? Как вы живете-можете? – голос у него был отменный, бархатистый…
И вот обычным, тихим днем, когда этот капитан, уже на выходе, махнув рукой, зычно попрощался с еще оставшимися в столовой, в том числе и с Антоном:
– Мальчики и девочки, всего! Успехов вам! – Антон, как бывает, ошалело загадал – не загадал, а подумал вскользь: «Вот бы мне сюда, к ним, – было бы очень здорово; по крайней мере, люди больно интересные. Но скорей рабочий кухни, Стасюк, поплевав на руки, распилит, расколет и сложит под плитой ту железистую корягу – пень, чем такое может сбыться со мной – несбыточное, знать… Нет, ни за что! Вот если расколет он корягу…»
А назавтра Антон с растерянностью обнаружил, что больше нет того пня, на котором все сиживали у огня и по которому он почти загадал судьбу. Стасюк почему-то раскурочил его и весьма удовлетворенный собой, подкидывал его изрубленные части в огонь, увлеченно напевая: «На базаре шумном чистил Джек ботинки…»
Да тут и по-крестьянски проникновенно глазастая и щедро-открытая всегда тетя Поля, ровно заглянув Антону в душу и уловив его настроение, подтолкнула его в коротком разговоре наедине:
– Сдается мне, Антон, ты очень сблизился с этими военными, – решай: было б, думаю, лучше для тебя, если б ты попросился к ним и поехал с ними. Свет побольше бы увидел. Для тебя, Антон, все это очень важно… Я советую.
Впрочем, и многие в этой военной части, Антон видел, уже привыкли к нему, как к члену их коллектива… Куда как просто все!
Так вследствие этого в Антоне жгуче всколыхнулась особая, зовущая куда-то вдаль надежда; она представлялась ему уже такой понятной, убедительной, что в ней никого не нужно будет убеждать ничуть. И желание его не казалось уже столь сумасшедшим и не осуществимым. Сам факт, что среди военных служили и некоторые вольнонаемные лица, как Анна Андреевна и Ира, обоснованно убеждал Антона в возможности ему также сослужить пользу людям, быть им полезным.