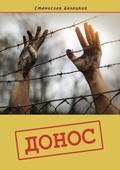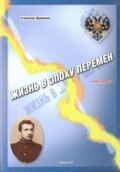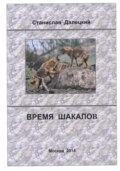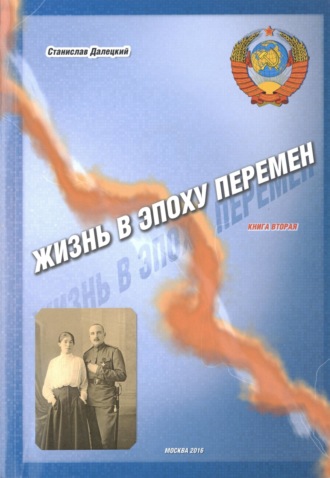
Станислав Владимирович Далецкий
Жизнь в эпоху перемен. Книга вторая
Война с фашизмом становилась неизбежной, и Сталину надо было не допустить наличия пятой колонны в народе и в рядах партии и правительства. Сталин также не забыл и не простил врагам убийство Кирова, своего друга.
Человек, как и любое животное в своей жизни следует трём основным инстинктам, заложенным природой: питание, размножение и опасность.
Инстинкт питания обеспечивает поддержание жизни особи, инстинкт размножения обеспечивает сохранение вида, а инстинкт опасности сохраняет жизнь особи в неблагоприятных условиях. В рациональном сочетании этих инстинктов и реализуется нормальная человеческая жизнь. Преобладание какого-либо инстинкта изменяет жизнь человека в его сторону. Так обжора следует инстинкту питания, прелюбодей – инстинкту размножения, а трус руководствуется инстинктом опасности, который подавляет все остальные.
Но жизнь человека проходит в сообществе – стае, организованном тем или иным способом, называемым социальным устройством общества, и жизнь в этом обществе развивает побудительные мотивы действий человека, как разумного существа, основными из которых являются: справедливость, власть и стяжательство.
Справедливость предполагает равные возможности, права и обязанности людей в обществе.
Власть обеспечивает функционирование человеческого общества на тех или иных принципах его социального устройства.
Стяжательство отражает стремление индивидуального члена общества к благополучному существованию и обладанию материальными благами, производимыми в человеческом обществе.
Конечно, можно придумать множество иных побудительных мотивов действий человека, например: любовь и ненависть; доброта и злоба; труд и безделье; страх и мужество, и прочие инстинкты и чувства, но все они лишь отражают нюансы реализации указанных инстинктов и побудительных мотивов в жизни каждого человека.
Сталин, по жизни, был напрочь лишён инстинкта стяжательства, а власть он рассматривал исключительно средством достижения цели построения общества справедливости. Но его соратники по партии, к середине тридцатых годов полностью переродились.
Начиная, как адепты марксистских идей социализма, в невзгодах и лишениях обеспечив победу социалистической революции и сломив отчаянное сопротивление врагов общества справедливости в гражданской войне, руководство партии большевиков, за редким исключением, добившись власти и первых успехов в социалистическом строительстве, предалось стяжательству, как древнейшему побудительному мотиву действий человека.
Любая предыдущая форма власти: от первобытного общества до капитализма, использовала достижение власти исключительно в целях личного или группового стяжательства, то есть присвоения в свою пользу материальных благ, производимых обществом, а теория социализма, напротив, требовала отказа от частного в пользу общего. И здесь, вековая практика стяжательства победила юную теорию социализма.
Действительно, быть у воды и не напиться – как молвит людская поговорка, то есть быть руководителем и не иметь от руководства никаких благ лично себе и родственникам, кроме установленной зарплаты и личных привилегий, обеспечивающих функции руководства, например, служебное средство передвижения – автомобиль, было неправильным, по мнению эти партийцев.
К тому же, существовал партмаксимум, по которому любой член партии, какой бы пост он не занимал, не имел прав получать зарплату более установленного минимума и зачастую, директор большого завода получал зарплату много меньше, чем рядовой беспартийный инженер этого же завода. И хотя Сталин отменил этот партмаксимум, полагая, что одинаково оплачиваться должна только работа, независимо от наличия или отсутствия партбилета, однако воспоминания партийцев об этом партмаксимуме мешали их стяжательству.
Стяжательство – это древняя и подлая форма безудержного присвоения и накопления личной собственности сверх разумных размеров личного и семейного потребления, существовала во все исторические эпохи развития человеческого общества. Стяжатель по своей сути паразит, живущий за счет общества, как бы он не именовался в разные эпохи: рабовладелец, феодал или предприниматель, цель одна – присвоить имущество или результаты труда других в свою собственность.
Иметь собственность, означает, в современном толковании «учёных экономистов», право владения, распоряжения и пользования этой собственностью.
Партийные руководители лишь распоряжались собственностью, поскольку в том социализме, что строил Сталин, всей собственностью, кроме личного имущества, владел народ в лице государства или коллективы трудящихся в колхозах, кооперативах и артелях. Эти же коллективы и государство пользовались собственностью, поэтому для стяжательства места не оставалось, что, по мнению многих партийцев, было несправедливо – ведь так хочется жить лучше остальных и за их счет.
Кроме того, у партийцев подросли отпрыски, которые, как и дети простых людей, должны были самостоятельно, своим трудом и умением, пробивать дорогу в жизни, несмотря на заслуги, настоящие и мнимые, их родителей. Руководящую должность в сталинском обществе наследовать было нельзя, но так хотелось «порадеть родному человечку».
Всё это вызывало скрытое недовольство партийной верхушки, начавшей плести заговоры и интриги против Сталина и немногих его сторонников, что Сталин чувствовал инстинктивно и знал разумно.
Ему требовалось или подчиниться настроениям свиты или сменить эту свиту. Ещё Макиавелли писал, что захватив власть, государь, если хочет быть независимым от своего окружения проведшего его к власти, и реализовать свои замыслы во власти, должен уничтожить это окружение и набрать новых сообщников, от которых он независим.
Сталин изучал Макиавелли и разделял его взгляды на власть. В самом начале прихода к власти, Сталин неоднократно просился в отставку. Так, выступая на XIV съезде ВКП(б) в 1925 году он говорил: «…если товарищи настаивают, я готов очистить место без шума, без дискуссий, открытой или скрытой, и без требований гарантий прав меньшинства», а еще ранее, в 1924 году Сталин выступил на объединенном пленуме ЦК и ЦИК и сказал: «Я на первом же заседании пленума ЦК после XIII съезда просил пленум ЦК освободить меня от обязанностей генерального секретаря. Съезд стал обсуждал этот вопрос. Каждая делегация обсуждала этот вопрос, и все делегации единогласно, в том числе Троцкий, Каменев, Зиновьев обязали Сталина остаться на своём посту. Что же я мог сделать? Сбежать с поста? Это не в моём характере, ни с каких постов я никогда не убегал и не имею права убегать, ибо это было бы дезертирством. Человек я, как уже раньше об этом говорил, подневольный, и когда партия обязывает, я должен подчиниться.
Через год, после этого я вновь подал заявление пленуму об освобождении, но меня вновь обязали остаться на посту. Что же я мог ещё сделать?».
Но в 36-м году Сталин уже не поддавался давлению оппонентов, и не собирался в отставку, понимая, что без него, дело построения общества справедливости на социалистической основе будет загублено сворой переродившихся партийцев, от которых следовало избавиться любым путем, невзирая на их прежние заслуги и что многие их них были соратниками Ленина, которого Сталин считал своим учителем.
Социалистическое строительство требовало профессионалов, а не предводителей и вожаков, как было ранее в революцию и гражданскую войну. Сталин говорил в 1935-м году: «Если бы на наших первоклассных заводах и фабриках, в наших колхозах и совхозах, на нашем транспорте, в нашей Красной Армии имелось достаточное количество кадров, способных оседлать эту технику, страна наша получили бы эффекта втрое и вчетверо больше, чем она имеет теперь… Надо наконец, понять, что из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и самым решающим капиталом являются люди, кадры, надо понять, что при наших нынешних условиях «кадры решают всё». Будут у нас хорошие и многочисленные кадры в промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте, в армии – наша страна будет непобедима. Не будет у нас таких кадров – будем хромать на обе ноги».
Но, так называемая «ленинская гвардия» старых большевиков, считая себя незаменимыми, продолжала руководить страной непрофессионально, командуя, а не обучая. Выступая перед победителями в соревновании за достижения в труде, Сталин говорил: «Ленин учил, что настоящими руководителями большевиками могут быть только такие руководители, которые умеют не только учить рабочих и крестьян, но и учиться у них».
Следуя Макиавелли, Сталин решил сменить руководство партии на новых, молодых и профессионально грамотных партийцев, разделяющих его взгляды и лично преданных ему, которые интересы дела ставят впереди любых меркантильных соображений и стяжательства. Необходимо было открыто показать народу, что в партии и правительстве нет неприкасаемых личностей и если ты открытый или скрытый враг партийной линии, то будешь отвечать за это всем и даже жизнью.
С восточной хитростью, Сталин начал избавляться от «старой гвардии» большевиков сталкивая, их друг с другом так, чтобы они уничтожали сами себя.
Несогласных с линией Сталина, его сторонники выносили на обсуждение в ЦК партии, где противники Сталина, обливая друг друга грязью, добивались удаления из власти одних, чтобы в следующий раз дошла очередь и до других. Так начались знаменитые Московские процессы 30-х годов. Проигравшая группа признавалась во всех смертных грехах, каялась, их судили, как обычных предателей, отстраняли от власти, а впоследствии устраняли и из жизни, приговаривая судом к расстрелу. Азиат Сталин знал, что поверженный враг ещё опаснее и единственный способ избавиться от врага окончательно – это уничтожить его, чтобы потом не ожидать коварного удара в спину от напрасно пощаженного, но не смирившегося врага.
Исполнение этих карательных функций по очищению страны от врагов, Сталин привычно возложил на госбезопасность, сменив руководителя ГБ Генриха Ягоду на Николая Ежова, взявшегося рьяно искать и истреблять врагов: истинных и мнимых. Но как говориться: угодливый дурак, хуже врага, и этот Ежов дал директиву своим подчиненным усилить бдительность и регулярно докладывать о разоблаченных и наказанных врагах народа.
Подчинённые Ежов гэбисты, среди которых было множество истинных врагов социалистического отечества, развернули борьбу с врагами в желательном им направлении, начав обвинять во враждебных намерениях всех сомневающихся в деле построения социализма в отдельной стране – СССР, а также всех неугодных лично сотрудникам ГБ, партийным активистам, представителей прежних классов и интеллигенции, пользуясь предоставленными им полномочиями. Так борьба с истинными врагами народа, усилиями мерзавцев и предателей в органах ГБ, в большей мере подменилась сведением личных счетов и клеветой на людей, преданных или лояльных режиму личной власти Сталина.
XIV
Эхо борьбы госбезопасности с врагами народа докатилось и до лагерей ГУЛАГа НКВД, где служители госбезопасности и охрана получили указания усилить бдительность и разоблачать среди з\к скрытые контрреволюционные элементы, чтобы не допускать их выхода на свободу после отбытия срока наказания, установленного судом по уголовным мотивам. Основным средством выявления этих скрытых контрреволюционеров были доносы лагерных осведомителей, завербованных ГБ среди з\к. Любому такому доносу давался ход и далее следствие либо подтверждало донос и добавляло срока заключения з\к, либо донос не подтверждался и з\к возвращался на своё лагерное место.
В августе 1936 года поступил донос и на Ивана Петровича:
«Начальнику 3-го отдела Бамлаг
Шедвиду
Заявление.
На 6-ой фаланге, з\к Домов и Миронов ведут агитацию против Вождя партии Сталина, критикуют линию партии на политическое строительство и говорят, что троцкистско – зиновьевская банда не будет расстреляна.
Меня и других з\к это смущает и мне противно слышать такие речи.
З/к Кучер Федор.»
Этот з\к Кучер попал в лагерь за избиение жены из-за чего у неё случился выкидыш, соседи написали заявление на его пьянство и дебоши, за что и получил 5 лет лагерей. Он был мелкий и злобный человек, лет сорока, сразу стал осведомителем ГБ в лагере и охотно писал доносы сам или по указке Шедвида. Вот и на этих двух з\к он написал донос по указке Начальника 3-го отдела Шедвида, который ознакомившись с делом Домова решил подвести его под статью о борьбе с контрреволюцией, чтобы показать своё усердие начальству.
Имея этот донос, Шедвид Иосиф начал собирать досье на Ивана Петровича, заставляя других з\к давать показания против него и когда собрал целую папку таких признаний з\к, дал указание на арест Домова и Миронова.
Однажды в ноябре, утром, два стрелка ВОХР пришли на фалангу, арестовали Миронова и Домова и увели их в изолятор СИЗО, где поместили в общую камеру с уголовниками, арестованными за уклонение от работы.
Миронов и Домов, недолго гадая, за что их арестовали, решили, что был донос, поскольку и раньше в их фаланге арестовывали з\к по доносам, и именно по двое проживающих в одном отсеке. Некоторых потом выпускали, а некоторым добавляли срок без суда.
На следующий день, 25 ноября 1936-го года, Ивана Петровича вызвали на первый допрос к уполномоченному 3-ей части Куликову.
Куликов оказался спокойным лейтенантом, лет 30-ти и, предложив сесть пожилому з\к, без предисловий сказал, что поступил сигнал об антигосударственной агитации Домова и он будет вести следствие по этому поводу.
Иван Петрович, сразу успокоившись, поскольку ни с кем в лагере, почти не общался и подобных разговоров не вёл, кроме споров с Мироновым, который тоже был арестован и, следовательно, не причастен к доносу, молча ждал допроса.
– Я вам зачитаю ориентировку на вас из личного дела, а вы поправьте меня, если что неверно, – сказал Куликов и открыв протокол допроса, куда он уже вписал сведения об Иване Петровиче, начал читать (здесь и далее цитируются подлинные документы –С.Д.):
«Итак, Домов Иван Петрович, 1885 года рождения, Мстиславского района, село Охон, Белоруссия, из крестьян бедняков, последнее время проживал в г. Токинске, ранее работал экспертом – искусствоведом в историческом музее города Москвы».
Он перевел дух, налил из графина воды в стакан и выпил половину.
Иван Петрович не стал поправлять следователя, что он родом из дворян – бедняков, а не крестьян – бедняков и молча, ждал продолжения.
Следователь Куликов продолжал читку:
«Жена – Анна Антоновна, проживает в городе Токинске, сын Борис и дочь Лидия учащиеся, а дочь Августа учится в сельхозинституте в городе Омске. Все верно?»
– Да, верно, – ответил Иван Петрович, пригорюнившись, поскольку вспомнил, что младшенький сын Ромочка умер прошлой зимой, застудив лёгкие, а дочь Августа, чтобы поступить в институт, вынуждена была отказаться от отца, и находилась под опекой тёщи, которой из-за преклонного возраста не дали внучку удочерить.
– Был бы я с семьей, – думал Иван Петрович,– этого бы не случилось,– а следователь продолжал:
– Окончил учительский институт в городе Вильно, в 1912 году, окончил школу прапорщиков в 1917 году в городе Омске. С 1904 года по 1918 год состоял членом партии социал – революционеров – эсеров. Был на германском фронте с 1914 по 1917 год. Был членом корпусного комитета с августа 1917 года до Октябрьской революции. В городе Токинске был членом уездного Совдепа с февраля 1918 года и по июнь 1918.
Судим один раз в 1935 году нарсудом в городе Токинске по статье 107 и 192 УК на 10 лет.
3-я категория учета-запаса военнослужащих с 1920 по 1921 год.
Служил у белых в Саянском полку в чине поручика.
Содержится в лагере с сентября 1935 года счетоводом, в последнее время на общих работах.
– Всё верно?– закончив чтение, спросил следователь.
– Да, так и есть, – ответил Иван Петрович, не желая уточнять анкетные данные, поскольку многие сведения были в его пользу. Как бы крестьянин – бедняк окончил учительский институт и стал офицером? Но раз так записано, то пусть так и будет.
– Тогда распишитесь, что сведения верные, – сказал следователь, протягивая Ивану Петровичу протокол. Тот расписался и следователь продолжил:
– Теперь перейдём к показаниям по существу. Я буду задавать вопросы, а вы отвечайте под протокол.
Вопрос: Где Вы работали и проживали до прибытия в лагерь?
Ответ: Самостоятельно я начал жить с 1906 года. С 1906 года по 1908 год работал учителем в Могилевской губернии, село Осокое. С 1908 года по 1912 год учился в Вильненском учительском институте. С 1912 года по 1914 год работал учителем в Могилевской губернии в средней школе.
С 1914 по 1918 год служил в армии – по 1917 год, февраль – нижним чином. В 1917 году окончил Омскую школы прапорщиков. С 1918 года, февраль месяц, член Токинского уездного Совдепа по июнь месяц. С июня по декабрь 1918 года в Омской тюрьме.
Был арестован белыми как член Совдепа. В декабре 1918 года был мобилизован в армию Колчака, где служил по ноябрь 1919 года, на хозяйственных должностях в штабе полка в чине поручика. В августе 1919 года был командором роты, был ранен и лежал в госпитале по май 1920 года в городе Иркутске. С июня 1920 года по июнь 1921 года служил в Красной армии, где последнее время был командиром батальона в Сибири.
С августа 1921 года по 1927 год работал учителем средней школы в городе Вологде. С 1927 года по 1930 год в городе Вологде – антикваром.
С 1930 года по 1935 год жил в городе Москве занятием антикваром. С апреля 1935 года по день ареста – май месяц 1935 года в городе Токинске, где гостил у родных.
Вопрос: За что Вы осуждены?
Ответ: Осужден я за спекуляцию по ст. 107 УК и за непрописку в милиции в г. Токинске по ст. 192 УК.
Вопрос: Подвергались ли Вы арестам, если подвергались, то когда и за что?
Ответ: При царизме я арестовывался один раз в 1905 году, летом, не помню в каком месяце, в городе Могилеве на Днепре. Под арестом я просидел дня три или четыре, или пять, но не больше недели. Нас было тогда арестовано шесть человек. Двоих братьев Стронгиных, Сегаль, Шанавский и шестого фамилию не помню.
Мы все пятеро были выпущены почти одновременно, за исключением шестого, которого фамилию не помню. Он просидел под арестом с полмесяца.
При аресте в 1905 году нас допрашивали по вопросам сборов нелегальных на вечеринках. Из числа арестованных, нас двое было эсеров: я и Шанавский, трое бундовцев: 2 брата Стронгиных и Сегаль и один меньшевик, фамилию которого не помню. В процессе допроса вспомнил фамилию меньшевика – Шуринов.
В 1918 году в июне месяце в городе Токинске был арестовал белыми, при аресте был направлен в город Омск. Под арестом находился до декабря 1918 года.
При Советской власти я арестовывался пять раз, не считая последнего ареста в 1935 году, когда я был осужден.
Первый раз я был арестован в городе Иркутске в 1920 году, как бывший белый офицер.
Второй раз я был арестован в городе Иркутске в 1921 году в связи с окончательным увольнением бывших белых офицеров из Красной армии, и после данного ареста меня направили под надзор ВЧК в город Вологду.
Третий раз меня арестовали в городе Вологде в 1927 году в дни представления Керзона ультиматума.
Четвертый раз меня арестовали в 1930 году в городе Вологде, по обнаружению при обыске у меня прокламаций революционного движения девятисотых годов различных партий и письмо Гиммера (видный деятель большевиков).
Пятый раз я был арестован в 1932 году в апреле месяце в городе Москве, где меня при аресте только допросили и в тот же день выпустили. Опрашивали меня по вопросам найденных у меня фотографических карточек, как то: фотокарточка Лобкова – Займена, который был белыми арестован и расстрелян на Оренбургском фронте при попытке перейти фронт.
Вторая карточка Тверитина Вениамина, большевика, который исчез неизвестно куда. И еще много карточек, которых сейчас не помню. Все карточки были виднейших работников, большинство из которых были большевиками. А также опрашивали меня в отношении моих и жениных документов. Данные фотокарточки и документы были в шкатулке, которые пришли на мое имя в Москву из Белоруссии и в связи с тем, что железная дорога перепутала адрес, мой багаж был предназначен к распродаже на аукционе и при вскрытии багажа у меня в шкатулке и были обнаружены эти фотокарточки.
Документами моими интересовались в меньшей степени, чем фото, так как они были официального характера. Также, в данной шкатулке было обнаружено письмо жены, написанное адресатом, которым тоже интересовались при моем задержании. Письмо данное было от большевика Тверитина, написанное моей жене с предложением снабдить паспортом одного большевика и не расшифровывало его партийной клички, а фамилии его я не помню, также и жена его фамилии не помнит.
Вопрос: Скажите, участвовали Вы в подпольной работе, как эсер при царизме? Почему Вы не вступили в члены коммунистической партии?
Ответ: В члены коммунистической партии я не вступал, потому что разницы в основных целях большевиков и эсеров не видел. Верный традициям народовольцев, считал партию эсеров безупречной. Тем более, что эсеры в борьбе с царизмом, были не меньшие патриоты, чем большевики. Причем, я, как рядовой член партии эсеров, не замечал принципиальных различий между большевиками и эсерами.
На этом допрос закончился, Иван Петрович подписал протокол, следователь Куликов вызвал охранника, который и проводил з\к в камеру СИЗО.
Миронова в камере, не было – его перевели к другим з\к, чтобы сообщники: Домов и Миронов, как считало следствие, не могли сговориться между собой о том, какие показания давать, а прямых улик, как понимал Иван Петрович, у следователя не было и не могло быть, потому что обвинение базировалось только на клеветническом доносе, о чем и сказал следователь, назвав этот донос сигналом.
В камере кроме Ивана Петровича, сидели еще пятеро з\к: уголовники, лет по 20-25, которые, как понял Иван Петрович из их разговоров, попали в СИЗО за отказ выходить на работу. Каждый из этих уголовников был в лагере уже не первый раз, попадая за мелкое воровство и пьяные драки, а потому они считали уже всякий труд зазорным и под различными предлогами отказывались выходить на работы, за что и сидели в СИЗО.
Иван Петрович был для этих з\к почти как дедушка, они так и начали звать его – «дед».
– За что сидишь, дед, – спросил его один из сокамерников, когда Ивана Петровича привели с допроса и он угрюмо забился в угол на свободные нары.
– Сижу в лагере, как и все, ни за что, – ответил Иван Петрович, зная тюремные обычаи и желая наладить контакт с сидельцами, чтобы не приставали и не глумились над пожилым человеком по молодости и озлобленности.
– На свободе продавал своё барахло, чтобы прожить, а милиция назвала это спекуляцией и дали 10 лет срока, а здесь сижу по доносу, якобы сказал что-то не так против власти: чудаки менты – ну чем я, старый человек, учитель, могу повредить ихней власти здесь в лагере? Надеюсь, разберутся и вернут в лагерь – только не дожить мне до свободы через 10 лет, – закончил он свой рассказ и, надеясь, что если в камере есть стукач, он донесет его слова до охраны.
– А мы, дед, тоже сидим здесь ни за что, – весело сказал разбитной малый со шрамом на левой щеке: эти трое драку по пьяни учинили и ногу сломали буфетчику на вокзале, я сумочку подрезал у мадам, а она оказалась женой мента, тот в углу и вовсе соседа избил с которым вместе выпивали и он водку неправильно разлил.
Здесь в СИЗО сидим, что работать не стали без теплых рукавиц, и всем нам, видимо, предстоит дальняя дорога на Колыму в их лагеря. – Ждут этапа, а когда он будет неизвестно. Бывает, что и до весны этапа нет, так что сиди, дед спокойно, мы не урки какие-то и стариков не трогаем, а на сексота ты не похож.
День шел за днем, а на допросы Ивана Петровича больше не вызывали. Сокамерники его не притесняли, но иногда просили рассказать о прошлой жизни при царях, которую они не застали по молодости. Все они были родом из деревень и переехали в города вместе с родителями, когда коллективизация стала выживать лишних крестьян из деревни на стройки социализма.
В городе деревенские ребята учились в начальной школе, но не выдержали соблазнов городской жизни, ютясь в подвалах с родителями и наблюдая хорошую, как им казалось, жизнь коренных горожан. Им тоже захотелось хорошей жизни и сразу – вот и пошли на мелкое воровство, потом срок небольшой, затем на свободе драки и воровство, и опять лагерь, но уже с большими сроками 5-7 лет.
Иван Петрович охотно рассказывал уголовникам о прошлой жизни при царях, и, невольно сравнивая ту жизнь с нынешней за последние годы, с удивлением замечал, что народ в целом стал жить значительно лучше, чем до революции: почти все научились грамоте, голодные годы прошли, нищих и убогих на улицах городов стало меньше, а главное, что в людях, особенно молодых, появился какой-то задор и веселье, которого никогда не было раньше. На работу шли без принуждения, учились, осваивали сложные профессии, и с уверенностью смотрели в будущее, которое, несомненно, будет благополучным и радостным.
Ожидание следствия тяготило его. Жизнь в СИЗО была вполне приемлема, только кормёжка была хуже, чем на фаланге. Там при выработке нормы шли добавки в питании и были небольшие денежные выплаты, на которые можно было прикупить продуктов в магазине. В СИЗО же была твердая пайка хлеба и похлебка в обед, но зато не надо было заниматься тяжелым трудом.
Ожидая следствия, Иван Петрович не знал, что недавно сменился руководитель НКВД: еврея Ягоду сменил русский Ежов – мелкий человек, склонный к педерастии. Николай Ежов занимал и партийную должность секретаря ЦК – почти равную официальной должности Сталина, и, как большинство мелких и низкорослых человечков, имел внутреннюю злобу и зависть к обычным людям, добиваясь превосходства над ними через власть.
Власть через органы НКВД давала ему безграничные возможности для издевательства над людьми, удовлетворяя, в том числе и педерастические наклонности, которые Ежов тщательно скрывал.
Ставленники и соплеменники Еноха Ягоды с тревогой ждали грядущих изменений в НКВД, которые могли сказаться на их положении, поэтому текущие следственные дела были отложены и гэбисты БамЛага готовили отчетность о своих успехах, позабыв о з\к томившихся в СИЗО.
Прошел месяц, но никаких изменений в судьбе Ивана Петровича не происходило: о нем как бы забыли, как впрочем, и о его сокамерниках – уголовниках. От неопределенности и вынужденного безделья, Иван Петрович начал как бы учить уголовников истории, о которой они не имели никакого представления.
Такие импровизированные уроки обычно проходили ближе к вечеру, когда зимние сумерки сгущались в камере, делали лица сидельцев невидимыми, оставляя только силуэты в призрачных отблесках ночного, зимнего безоблачного неба, светящего звездами и луной через небольшое оконце под потолком. З\к расходились по своим нарам, и кто-нибудь из них говорил, обращаясь к Ивану Петровичу: – Ну, что дед, давай трави дальше свои сказки про фараонов и царей из древнего мира или про наших предков здесь в России.
Иван Петрович устраивался поудобнее на своем месте и не спеша начинал очередной рассказ из истории, с того места, где заканчивал в прошлый раз. Историю России он обычно рассказывал по Карамзину, почитателем которого был ещё со студенческих лет.
Слушая его рассказы, з\к иногда удивленно охали, если какая– то история казалась им невероятной или удивительной. Так они не могли поверить, что ещё совсем недавно, за воровство на Руси отрубали руку, которой вор брал ворованное или рвали ноздри и запирали в острог. То, что в острог – это было понятно. Они и сейчас были в лагере, а это тот же острог, но, вот, быть без руки за воровство не вызывало их доверия.
– Да откуда известно, что раньше рубили руку за воровство, а за убийство и вообще отрубали голову, – однажды возмутился один из з\к по кличке Косой, – это всё выдумки и сказки, как можно знать, что было здесь на Руси тысячу лет назад, и был ли такой князь Рюрик, что ты, дед, говорил, и монголы эти и битва на Куликовом поле.
Я когда учился в школе и научился грамоте, то прочитал сказки для детей про русских богатырей: Илью Муромца и Алешу Поповича, и ты, дед, нам рассказываешь такие же сказки, только для взрослых. Я не знаю, кто был мой прадед, а ты уверенно говоришь о фараонах, которые будто бы жили в Египте три тысячи лет назад. Выдумки всё это и сказки.
– Нет не сказки это, а реальная история, – возразил Иван Петрович, – действительно, пока не было грамоты, люди передавали истории от отца к сыну, от деда к отцу и так далее, а потом придумали грамоту и начали записывать события – так и образовалась история.
Русская пословица говорит: «Что написано пером, то не вырубишь топором». Вот по таким записям, ученые люди и определили что, когда и где было раньше, какие люди и цари жили, что они делали хорошего и плохого. Кроме грамот ещё сохранились старинные вещи, дома и крепости, кладбища и церкви, что и позволяет восстановить историю жизни людей в разных странах.
Есть также заброшенные города, которые засыпало песком или землей за тысячи лет. Их находят, раскапывают и по найденным вещам тоже определяют жизнь людей в те времена. Совсем недавно, к примеру, ученый археолог Шлиман, нашёл древний город Трою, о котором было известно из поэмы древнего грека Гомера. Все думали, что Троя это выдумка поэта, а Шлиман поверил и по описаниям нашёл место, где была Троя, а при раскопках нашёл там много золотых вещей.
– Вот бы и нам найти такой клад, – мечтательно вздохнул Косой, – тогда и воровать бы не пришлось, и в лагере бы не оказался.
– Ну, положим, воровать вас никто не заставлял, – возразил Иван Петрович, – другие же живут без воровства, а вы хотели жить за чужой счет, вот и попались. У меня тоже был случай в Москве, когда мне за работу в музее заплатили деньги, и в трамвае их кто-то вытащил, а меня на квартире ждали жена и трое детей, которые остались голодными, пока я не заработал ещё. Работать надо, а не воровать, даже здесь, в лагере, за хорошую работу дают доппитание и можно заработать досрочное освобождение. Вы молодые, вся жизнь впереди и её можно будет прожить без воровства и без лагерей.
– Ты, дед не агитируй нас на работу, хватит, воспитатель в бараке нас агитировал, потом на фаланге тоже, надоело: посадили, значит я сидеть должен, а не работать и корячиться на лесосеке, – сказал Косой, – лучше рассказывай дальше свои сказки по истории.
В таких беседах шло время и Новый год Иван Петрович встретил в камере СИЗО, не получив писем из дома, которые, наверняка, присылала жена Аня, но в СИЗО писем получать не положено и оставалось надеяться, что потом, когда все уляжется, ему всё же вернут эти письма.