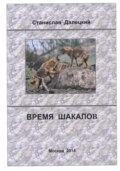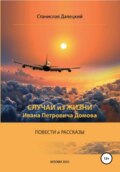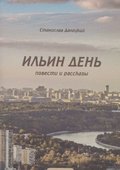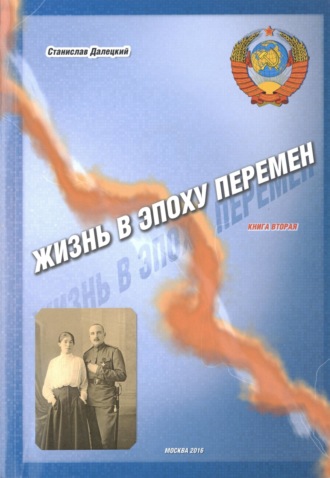
Станислав Владимирович Далецкий
Жизнь в эпоху перемен. Книга вторая
Потом снова начались занятия в школе, где Иван Петрович по-прежнему учил старшеклассников учительству в сельских начальных школах: учителей не хватало на обучение всего народа началам грамотности – чтению, письму и счёту.
Состав учеников стал заметно меняться: если два года назад в старших классах обучались преимущественно дети бывшего мещанского сословия, то нынче появились дети ремесленников, рабочих и крестьян, которые успели закончить начальные классы за годы гражданской войны и теперь перешли в старшие классы для дальнейшего обучения с перспективой получения высшего образования, которое им было невозможно получить при царизме. Обещания большевиков о всеобщей грамотности и об управлении государством «кухаркиными» детьми медленно, но верно начинало исполняться.
Последствия страшного голода в Поволжье прошлого года начинали забываться, восстанавливались заводы и фабрики, засеивались поля, крестьяне собирали урожай и, расплатившись с налогами, везли зерно и продукты на продажу в города, где обменивали их на промышленные товары, произведенные на восстановленных предприятиях или в кустарных мастерских, разрешенных НЭПом.
Жизнь страны постепенно выходила из оцепенения и разрухи, причинённых войнами, и партия большевиков уже призывала восстановить народное хозяйство страны до царского уровня, чтобы начать двигаться дальше к построению социалистического общества свободных и равноправных людей без нищеты и угнетения, присущих царизму и странам капитала, господствующего в Европе и Америке.
На своих уроках Иван Петрович постоянно напоминал ученикам, что год назад, в декабре 1922 года, несколько самостоятельных республик – Россия, Белоруссия, Украина и Закавказье – объединились в единое государство – Союз Советских Социалистических республик, почти в границах бывшей Российской империи: так большевики на практике исполнили лозунг белогвардейцев «За единую и неделимую Россию», с которым каратели шли на бой с Советской властью, обвиняя её в предательстве интересов России в пользу Германии, когда был заключен Брестский мир – на чем настаивал и настоял Ленин – вождь мирового пролетариата, как его называли в советских газетах.
Ленина обвиняли в том, что он германский шпион, но Германия лежала в ногах победителей, как изнасилованная девка, а Российская империя, под названием Советский Союз уверенно стояла на ногах с красным знаменем в руках, призывая другие страны последовать своему примеру, чем вызывала страх и злобу всего капиталистического мира насилия и несправедливости.
Советские газеты публиковали секретные документы белогвардейцев, из которых следовало, что именно белогвардейские генералы: Колчак, Деникин и прочие продавали Россию оптом и в розницу и обещали Антанте и прочим алчущим наживы подчинить им Россию и передать земли и достояние страны в собственность зарубежным капиталистам Англии, Франции, Америки. Японии и всем желающим поживиться на обломках Российской империи, как они поживились на обломках Германской, Австрийской и Османской империй в результате своей победы в империалистической войне, что было закреплено Версальским договором в 1919 году.
По этому договору и от России были отняты некоторые земли: Прибалтика, Бессарабия, часть Белоруссии и Украины, вернуть которые у большевиков пока не было сил, но Иван Петрович твёрдо знал, что такое возвращение произойдёт при первом же удобном случае, которым большевики непременно воспользуются.
Всего этого Иван Петрович своим ученикам, конечно, не говорил, но про СССР упоминал непременно, рассказывая из истории, как образовалось Российское царство путем собирания земель московскими князьями и в душе сожалея, что история и география пока что исключены из школьных предметов, иначе он давно бы преподавал именно эти дисциплины, к которым имел особенную склонность.
В январе следующего года пришло известие о смерти Ленина. Иван Петрович сильно удивился этому известию: о болезнях Ленина ничего не сообщалось, а смерть мужчины в возрасте 54 года без причины представляется нелепой. – Видимо этот человек подорвал свои силы на посту руководителя государства, – подумал учитель, прочитав в газете «Правда» извещение о смерти вождя мирового пролетариата.
– Вон, Николай Второй, почти не занимался государственными делами, и был расстрелян большевиками в возрасте 50 лет совершенно здоровым. Интересно, кто же теперь будет руководить партией и государством, неужели Троцкий? Народ этого не поймёт. Россией, как бы она не называлась, должен руководить русский по духу человек. Иного народ не примет, и тогда большевикам придется трудно. А вдруг власть снова сменится? – размышлял Иван Петрович. – Не дай Бог! Потому что смена власти – это опять борьба за власть, междоусобица и кровь, а у меня трое маленьких детей.
По стране объявили дни траура, в школах отменили занятия, и Иван Петрович, выходя на улицу, не уставал удивляться тому, как люди искренне выражали свое горе по поводу кончины Ленина.
– Помнится, ему было девять лет, когда умер царь Александр Третий, так в их селе никто и не всплакнул о нём, лишь поп в церкви произнес молебен по усопшему помазаннику божьему. А сейчас люди на улицах буквально рыдают, и, несмотря на лютые морозы, собираются толпами в своих учреждениях, школах и фабриках, чтобы поделиться соболезнованиями и выразить поддержку партии и правительству в связи с кончиной Ленина, – так много этот лысоватый рыжеватый человек совершил за шесть лет руководства Россией, что люди поверили ему и шли за ним на лишения и кровопролитие, чтобы устроить, в будущем, себе и своим детям лучшую жизнь, чем при царях и богатеях.
Траурные дни прошли, правительство возглавил некий Рыков, и восстановление страны продолжилось в прежнем направлении. Была объявлена денежная реформа, все прежние денежные знаки изымались из обращения, взамен вводились золотые бумажные червонцы, которые по золоту были аналогичны царским золотым десяткам и обменивались по курсу 5 миллиардов прежних денег на один червонец.
В обращение поступили также серебряные рубли, полтинники и металлические монеты, что остановило инфляцию бумажных денег и стало, наконец-то, возможным хранить деньги впрок, не опасаясь их обесценивания. Учительская зарплата Ивана Петровича в новых деньгах вполне обеспечивала приличную жизнь его семье, оставались некоторые суммы для сбережения, и Иван Петрович начал захаживать на рынок и воскресные барахолки, где присматривал антикварные вещицы и, если была возможность, покупал некоторые из них за смешную цену, поскольку продавцы этих вещей зачастую не знали истинной цены продаваемой вещицы, попавшей им в руки случайно в годы войны и разрушений.
Поняв выгодность приобретения антиквариата с целью последующей перепродажи, Иван Петрович уговорил своего тестя поделиться частью его сбережений, хранившихся дома в укромном местечке в золотых десятках царской чеканки, обещая вернуть эти средства при первой же возможности.
Антон Казимирович скопидомничать не стал, понимая, что Иван Петрович пытается улучшить материальное положение семьи и детей, которых старик любил, как все старики любят своих внуков, видя в них продолжение самих себя и свои несбывшиеся мечты и поступки.
Обретя начальный капитал, Иван Петрович с ещё большим рвением начал покупку понравившихся вещиц, ювелирных украшений, книг, статуэток и даже картин, хотя испытывал почти физиологическое отвращение к художникам, памятуя свою неудачную любовь к девице Надежде, совращённой мерзавцем-художником.
Иван Петрович и сам неплохо рисовал с натуры, чему обучился самостоятельно и с помощью отца-артиллериста, умевшего хорошо рисовать карту местности, необходимую для прицельной стрельбы из орудий при выборе позиции.
Приобретая вещь исключительно по интуиции, Иван Петрович делал её зарисовку цветными карандашами в альбоме, что приобрёл по случаю в лавке нэпмана у городского рынка. Потом, рядом с рисунком, своим аккуратным учительским почерком описывал вещь с упоминанием всех знаков и клейм, если таковые имелись – так постепенно у него образовался каталог имеющихся ценностей, которые он намеревался летом, с наступлением каникул в школе, продать в Москве, полагая, что именно там разбогатевшие лавочники – нэпманы могут дать настоящую цену за изящные безделушки, украшения, книги и прочие предметы старины.
С окончанием занятий в школе и наступлением учительских отпусков, Иван Петрович собрался снова навестить отца, но без жены и детей, поскольку на семейное путешествие не было достаточных средств. Жена Анна поддержала мужа в его намерениях, хотя и имела желание, как и все женщины, проехаться по стране, посетить незнакомые ей места и просто отвлечься от домашних рутинных дел.
Снова в июле, Иван Петрович отправился в путь-дорогу к отцу, с остановкой в Москве по своим антикварным делам, для чего он прихватил свой альбом-каталог и две-три вещицы в натуре, чтобы показать их московским антикварам в сравнении с рисунками из альбома и узнать настоящую стоимость этих изделий.
В Москве он навестил старого революционера Федора Ивановича, у которого гостил в прошлый раз и был приглашён остановиться у него в этот приезд тоже: Фёдор Иванович вместе с женою занимал маленькую квартирку из двух комнат в доме старой постройки в самом центре Москвы на Цветном бульваре, в глубине двора.
В прошлый раз жены дома не было – она гостила у своей сестры в Тамбове, а в этот приезд она оказалась дома – её звали Натальей: это была маленькая сухонькая женщина лет пятидесяти с приветливым открытым лицом и спокойным нравом. Она тоже была революционерка-народница, и они сошлись с Фёдором Ивановичем в царской ссылке под Иркутском, да так и остались вместе.
Иван Петрович за вечерним чаепитием рассказал этой паре революционеров о своей жизни в Иркутске, где был красным командиром, потом вспомнил германский фронт и вскоре к нему отнеслись, как к сыну, которого у революционных супругов никогда не было.
Фёдор Иванович рассказал Ивану Петровичу, что тот Дмитрий, который расспрашивал его в прошлый приезд, сообщил Сталину о случайной встрече с офицером, который подарил Сталину шинель в Ачинске в марте 1917 года, когда ссыльные уезжали из Сибири. Сталин подтвердил слова Ивана Петровича и даже припомнил, что у прапорщика были разного цвета глаза, подивившись случайной встрече Гиммера с этим офицером.
Сталина тогда тоже мобилизовали в армию, и он приехал из Туры Красноярской губернии в Красноярск, на медкомиссию, но медкомиссия признала его негодным к военной службе из-за руки, покалеченной ещё в детстве.
Сталину оставалось быть в ссылке ещё несколько месяцев, и ему разрешили проживать в Ачинске и не возвращаться в деревню Курейку, где он прожил 4 года. Сейчас, по словам Фёдора Ивановича, Сталин стал одним из главных в партии большевиков, и вполне возможно, что возглавит партию, если одолеет других желающих занять пост вождя после смерти Ленина.
Иван Петрович выразил удивление, что грузин может стать во главе России, однако Фёдор Иванович рассказал ему, что Сталин считает себя русским по духу, весьма начитан, и, хотя не имеет образования, кроме духовной семинарии, но по знаниям и умениям в политике не уступит и профессорам, кичившимся своей образованностью, – так говорил ему Дмитрий Гиммер.
На следующий день Иван Петрович обошёл в Москве несколько магазинчиков, где показал антикварам свои вещицы и рисунки в альбоме, убедившись, что вкус его не подвёл, и многие вещи его коллекции стоят в разы дороже, чем он их приобретал, так что продажа этих изделий могла принести хороший доход к учительской зарплате.
В антикварных магазинах Иван Петрович присматривался к разным изделиям, украшениям, книгам и прочим экспонатам на продажу, приценивался, и уже на второй день почувствовал себя знатоком редкостей, полагаясь скорее на свой вкус, чем на знания.
В букинистическом магазине он приобрел несколько книг по искусству разных народов и разных эпох, посетил Исторический музей и поехал дальше к отцу в твёрдом убеждении заняться поиском и торговлей антиквариатом уже на профессиональной основе, а не как учитель-любитель редкостей.
Отец, как ни странно, выглядел лучше, чем два года назад, был бодрее и живее, и встретил приехавшего сына на крыльце дома, а не в постели, как в прошлый раз: видимо, помощь деньгами, что оказывал отцу Иван Петрович всё это время, оказалась полезной и изменила настроение отца к лучшему.
Фрося тоже подтянулась внешне, несколько убавилась в габаритах и выглядела вполне прилично для своих пятидесяти пяти женских лет.
Две недели, что провёл Иван Петрович в гостях у отца, пролетели незаметно: они вместе гуляли по окрестностям, навестили мать на погосте и сестру Лидию в её доме, вспоминали минувшие времена Иванова детства и предавались длительным разговорам за вечерним чаепитием на веранде, в лучах заката солнца и в голубых сумерках, наступающих после захода солнца за дальним лесом на горизонте.
Иван Петрович много расспрашивал отца о былых временах его молодости, армейской службе, русско-турецкой войне на Балканах, о своих братьях, которые были значительно старше его и разъехались из отчего дома, когда Иван был ещё в младенческом возрасте.
Раньше про такие разговоры Ивану было недосуг, а сейчас, памятуя о преклонных годах отца, Иван Петрович пытался узнать как можно больше о своих предках и родственниках, пока отец жив, чтобы после его ухода в мир иной не оказаться «Иваном, не помнящим родства», как гласит русская поговорка.
Отец, соскучившись за годы разлуки по общению с сыном, охотно вспоминал и дни своей молодости, и своего отца и деда, во времена крепостничества, когда часть крестьян из села были их крепостными, а сейчас их внуки стали выше по положению, чем он, Петр Фролович, помещичий сын.
За этими разговорами наступала ночь, Фрося уходила спать, поскольку, в отличие от Ивана Петровича, много раз слышала воспоминания Петра Фроловича зимними вечерами у топившейся на ночь печи.
Отец очень сожалел, что Иван не приехал с семьёй или хотя бы со старшей дочерью, – он, как и все старики, уже тянулся к детям, находя общение с ними более интересным, чем со взрослыми и пожилыми людьми, на которых немало насмотрелся за долгие годы своей длинной жизни. Иван обещал отцу непременно приехать с семьёй следующим летом, надеясь заработать на такую поездку торговлей антиквариатом, которой собирался заняться всерьёз и надолго.
В день отъезда, Фрося, провожая Ивана, привычно пустила женскую слезу, а отец напомнил обещание Ивана приехать с семьёй, и сам пообещал дожить до следующего лета, чтобы повидаться с внучатами. Уезжал Иван Петрович, как обычно, попутной повозкой до Мстиславля, и, оглянувшись на повороте, видел, как двое пожилых людей стояли у ворот его родного дома и смотрели вслед повозке.
Возвращаясь через Москву, Иван Петрович снова остановился у Федора Ивановича, у которого перед отъездом к отцу оставил на хранение книги по искусству, чтобы не возить их туда-обратно, продал антикварам три взятые с собою вещицы, выручив за них хорошие деньги, и уехал к себе в Вологду, чтобы заняться торговлей предметами старины и искусства уже на постоянной основе, как специалист, которым он надеялся стать, изучив купленные в Москве книги по искусству.
За три недели отсутствия Ивана Петровича, дома никаких происшествий не случилось. Анечка встретила его женскими ласками в постели, сказав, что привыкла за два года к совместной жизни и скучала по мужу все три недели его путешествия к отцу.
Вперед было целых полтора месяца летнего учительского отпуска, и Иван Петрович принялся осуществлять задуманное решение о торговле антиквариатом.
Он снял в аренду комнату в магазине одежды у нэпмана, неподалеку от рынка, зарегистрировал на Евдокию Платоновну патент на торговлю предметами искусства, вывесил в окне магазина объявление о скупке картин, книг и украшений, и уже через три недели в воскресный день уселся в своем магазине, который так и назвал «Антиквар», ожидая покупателей и продавцов редкостей.
На покупателей он особенно не рассчитывал в этом захолустном по столичным меркам городке с населением едва за пятьдесят тысяч человек, а вот продавцов всяких безделушек он ожидал. Так и случилось: пришел мужик безногий, как и Антон Казимирович, и принёс церковную книгу, которую Иван Петрович признал древней, примерно семнадцатого века. Книга эта, видимо, досталась мужику в бытность солдатом красной армии, при разграблении какой-то церкви в Гражданскую войну, и Иван Петрович приобрёл её за рубль с полтиной, наверняка зная, что в Москве она будет стоить не меньше сотни.
Он так и рассчитывал: покупать здесь, что ему принесут, а продавать в Москве, сговорившись с кем-то из тамошних антикваров. Так всё и случилось. За пару недель он приобрел несколько книг старинных, золотые украшения с камнями, которые оплатил по весу золота, расплатившись бумажными советскими червонцами, на которых было написано, что один червонец равен 7,74 грамма чистого золота.
За бесценок и тоже по весу он приобрёл серебряный столовый сервиз, видимо, из ограбленной помещичьей усадьбы и еще несколько подобных вещей, которые с большой натяжкой всё же можно было назвать антиквариатом.
За неделю до начала занятий в школе, Иван Петрович поехал в Москву, где остановился у Фёдора Ивановича, который неодобрительно отнёсся к торговой деятельности зятя своего приятеля, но, поскольку партия большевиков провозгласила право людей на свободную торговлю, возражать не стал, зная, что у Ивана Петровича трое детей на руках и тесть с тёщей на иждивении.
За два дня Иван Петрович свёл знакомства с двумя антикварами, сговорился с ними о совместной торговле и продал им в полцены, но с большим прибытком для себя привезённые с собою вещицы и книги. Возвратившись из Москвы, Иван Петрович вернул долг своему тестю, подарил Анечке кольцо и серёжки золотые с изумрудами, что приобрёл у какой-то старухи – видимо из бывших – и через день приступил к занятиям в школе.
Перед началом уроков он получил замечание от директора школы, что негоже учителю торговать в лавке, и если Иван Петрович продолжит свою торговлю, то будет уволен из учителей.
– Поймите, Иван Петрович, мы воспитываем из детей строителей социализма, и как они будут нам верить, если учителя торгуют в лавках, дискредитируя тем самым идеалы социалистического общества, которое будет строится созидательным трудом, а не торговлей учителей-нэпманов, – сказал новый директор школы: большевик с дореволюционным стажем, но без учительского образования. Партийный стаж до революции особенно ценился при назначении на должность, поскольку после Октябрьской революции и победы в Гражданской войне в партию стали проникать всякие проходимцы, надеющиеся получить привилегии, числясь в правящей партии, поэтому партийный стаж стал важнее образования.
Иван Петрович оправдался, что лавка не его, а тестя, бывшего купца, который, став безногим инвалидом, зарабатывает привычным купеческим делом себе и своей жене на пропитание, торгуя всякими безделушками, тем более, что партия разрешила торговлю, но сам Иван Петрович торговать в лавке не будет – это он несколько дней заменял своего заболевшего тестя.
На этом конфликт учителя с директором школы был исчерпан, и Иван Петрович продолжил обучение учеников, восхваляя труд рабочих и крестьян и Советскую власть, что было непременным условием учительства, как раньше приходилось восхвалять царя Николая Второго даже на уроках арифметики: такова жизнь – всякая власть требует лести, оправдывающей эту власть.
В антикварной лавке Иван Петрович посадил тестя, который, вспомнив своё купечество, с удовольствием занялся торговым делом, хотя торговать ему почти не доводилось: Иван Петрович сговорился, чтобы Антон Казимирович только принимал вещи для оценки, которую производил сам, заходя в лавку после уроков, и если вещь представлялось ему интересной, то она покупалась Антоном Казимировичем за цену не выше установленной Иваном Петровичем.
Продажи купленных вещей почти не было: кто в маленьком городке будет тратить деньги на покупку красивых, но ненужных безделушек? Лишь случайные проезжие из Москвы и Ленинграда – так теперь стал именоваться Петроград после смерти вождя революции товарища Ленина.
Подкупив вещиц, Иван Петрович раз в два-три месяца наведывался в Москву, где продавал знакомым уже антикварам свой товар за настоящую цену и с выручкой и купленными книгами по искусству возвращался домой в Вологду.
К лету 25-го года учитель стал вполне эрудированным знатоком искусства, почти безошибочно различая стоящую вещь от подделки, и определяя истинную цену каждого предмета, принесенного к нему в лавку их случайными владельцами.
В учительских заботах и торговых делах промелькнул незаметно учебный год и, освободившись от учебных хлопот, Иван Петрович собрал в лавке всё, что предполагал к продаже, упаковал вещи в два чемодана и при первой возможности выехал в Москву, надеясь выгодно продать свой товар в московских антикварных магазинах.
В этот раз он остановился в Москве у знакомого по торговым делам антиквара, чтобы не смущать Фёдора Ивановича, который относился к торговле весьма отрицательно, называя деятельность Ивана Петровича спекуляцией, что, отчасти, было справедливо, ибо покупка товара с целью его последующей перепродажи с выгодой и есть не что иное, как спекуляция.
Выгодно продав часть вещей, Иван Петрович сдал на комиссию наиболее ценные предметы культуры и искусства, чтобы получить за них настоящую цену.
Освободившись от торговых забот, он навестил старого революционера, который оказался уже одиноким: зимой внезапно умерла его жена, и Фёдор Иванович остался совсем один в своей маленькой квартирке в самом центре Москвы. Потеря жены заметно состарила революционера: он высох, пригнулся к земле и стал походить на несуразного мальчика лет 10-12-ти с шаркающей походкой и обширной лысиной на голове.
– Что же вы, Иван Петрович, огорчили старика и не остановились у меня гостевать, – высказал Фёдор Иванович своё недовольство, услышав, что Иван Петрович уже несколько дней находится в Москве и живёт в другом месте.
– Не хотел вас стеснять, Фёдор Иванович, и смущать своей торговлей, – откровенно признался Иван Петрович. – Семью-то кормить надо, вот и подторговываю всякими редкими безделушками и не вижу в этом ничего плохого: одни люди избавляются от ненужных вещей и получают за них нужные им деньги, а другие люди, имеющие деньги, и не знающие, куда их девать, покупают эти вещи, тем самым обеспечивая и мою многочисленную семью.
– Хорошо вам, Иван Петрович, в семейных заботах жить в окружении детей, и Антону Казимировичу, видимо, скучать не приходится, а я остался один, как перст, – ни родных, ни знакомых не осталось здесь в Москве. В Ленинграде, как сейчас называется Петроград, должны были остаться племянники от старшего брата, но как их отыскать и зачем навязываться им в родственники, ума не приложу.
Иногда думаю: скорее бы безносая смерть прибрала меня к жене поближе, но потом здравый смысл жизни отгоняет плохие мысли. Да и интересно мне пожить ещё и посмотреть, что получается у партийцев-большевиков насчёт построения социалистического общества справедливости – о том ли мы мечтали в молодости, когда вместе с Антоном Казимировичем занялись революционной деятельностью и замышляли убить царя, думая, что другой царь будет лучше и справедливее. Наивные мечты молодости!
Дело не в царях, а в стяжательстве людьми власти и богатства, которое эти цари олицетворяют. Нужно не царей уничтожать, а изгонять из человеческих душ жажду стяжательства власти и наживы, тогда и цари сами собой исчезнут за ненадобностью.
Большевики сейчас ищут пути очищения человеческих душ от желаний наживы и устройства хорошей жизни одних за счет других. Хотелось бы, чтобы это у большевиков получилось, иначе идеи социализма и равноправия будут извращены и погублены алчными до власти и наживы людишками, прикрывающими эти свои низменные чувства выгодными и благородными словами о свободе, равенстве и братстве, – закончил Фёдор Иванович свои рассуждения и пригласил Ивана Петровича попить с ним чаю и просто поговорить за самоваром.
– Вот большевики разрешили торговлю и предпринимательство частное, и сразу же появились люди, которые нажились на торговле, имеют деньги, и покупают красивые безделушки, которые я продаю, – объяснял за чаем Иван Петрович свои соображения старому революционеру. – Другие же перебиваются с хлеба на воду и никак не выберутся из нужды, даже при народной власти. Не кажется ли вам, Фёдор Иванович, что в этом неравенстве уже кроется крах социалистических идей Маркса-Ленина, о которых постоянно талдычат советские газеты. Большевики сначала отобрали имущество у богатеев, а теперь разрешили другим ловкачам обзаводится этим имуществом без меры – были бы деньги, которые большевики тоже хотели отменить да не смогли, и купля-продажа идёт по всей стране.
– Товарищ Ленин уже давно ответил на этот вопрос, что частная торговля и предпринимательство разрешены вынужденно и временно, пока страна не восстановится от разрушений войны и интервенций, чем рабочие и крестьяне занимаются сейчас самоотверженно. Отступить – не значит сдаться.
Помнится, Кутузов отступал до Москвы и даже Москву отдал Наполеону, но в итоге победил, так и сейчас: временно разрешить предпринимательство, чтобы в погоне за наживой некоторые люди производили товары, а крестьяне производили зерно и продукты, продавая их, и сами жили лучше, и рабочим на заводах было, что купить в магазинах.
Как только положение немного выровняется, партия снова вернётся к социалистическому принципу: «От каждого по способности – каждому по труду». Сейчас доходы торговцев не соответствуют их труду, потому что торговать всегда выгоднее, чем производить.
Вы, Иван Петрович, тоже занялись торговлей, потому что это выгоднее, чем учить детишек в школе. Надеюсь, что такое положение продлится недолго, и частная торговля будет ликвидирована, как только государство научится само распоряжаться торговлей, – ответил Фёдор Иванович на слова учителя-торговца.
– Кстати, Дмитрий Гиммер, с которым Вы беседовали в прошлый приезд в Москву, говорил, что товарищ Сталин уделяет большое внимание развитию советской торговли и производству товаров для людей. Но чтобы производить товары, надо создавать промышленность, которая в царской России была отсталой, да и та полностью разрушена была в войнах.
Сталин сейчас выдвигается на первое место в партии, и некоторые лизоблюды уже называют его вождем и начинают восхвалять без меры. Плохо будет, если у этого грузина от «похвалы вскружится голова» как писал в своей басне Крылов, и он начнет устраивать себе роскошную жизнь и будет самодурствовать, забыв о народе и об идеалах революции.
Хотя Гиммер говорит, что Сталин сам живёт скромно и других порицает, особенно Троцкого, за барские замашки, – объяснил Фёдор Иванович своему гостю ситуацию в партийном руководстве страны, где после смерти Ленина началась борьба за власть, и каждый из 6-7 руководителей считал себя лучшим и навязывал другим своё мнение о дальнейшем развитии страны.
Троцкий призывал разжечь пожар мировой революции и только после победы пролетариата во всём мире начинать строить социализм, пусть даже в этом пожаре погибнет половина русских.
Бухарин призывал крестьян «обогащаться» и через развитие частных хозяйств на селе строить «крестьянский социализм», что соответствовало лозунгам партии эсеров.
Каменев и Зиновьев предлагали развивать частное предпринимательство и передать фабрики и заводы в частные руки, и чтобы Советская власть не вмешивалась в дела предприятий.
Рыков, Пятаков и Томский предлагали открыть страну для зарубежных капиталистов, брать у них деньги в долг и на эти деньги, как и при царях, развивать промышленность.
У каждого из этих вожаков большевистской партии были свои прихлебатели, которые устраивали в партии дискуссии по любому вопросу, не позволяя никому заниматься реальным созидательным делом превращения России в сильное и самостоятельное государство на основе социалистической теории Маркса-Энгельса-Ленина.
Лишь Сталин был целиком предан заветам Ленина, намереваясь строить социалистическое государство свободы и равноправия для всех с конечной целью обеспечения достойной жизни для всех трудящихся и всех слоёв общества на основе всеобщей государственной собственности в промышленности и крупных коллективных хозяйствах в сельском хозяйстве, превращая сельские общины, которые пытался уничтожить Столыпин, в предприятия подобные фабрикам и заводам.
Но эти намерения Сталин тщательно скрывал от упомянутых партийцев, понимая, что его планы могут быть осуществлены только после установления в партии его единоличной власти.
С восточной хитростью, Сталин присоединялся то к одной, то к другой группировке в партии, добиваясь, чтобы ошалевшие от власти руководители партии большевиков дискредитировали и уничтожали друг друга как пауки в банке, расчищая ему, Сталину, путь к абсолютной власти, которую он намеревался использовать не в личных целях самодурства, наподобие римских императоров Нерона и Калигулы в древнем Риме, а во благо государства СССР и всех населяющих его народов.
К этому времени Сталину удалось уже отстранить Троцкого-Бронштейна от реальной власти, и тому оставалось лишь злобно шипеть, называя Сталина «серой посредственностью».
В борьбе за власть Сталин опирался на партийный аппарат, который он возглавлял, будучи Генеральным секретарем партии, что соответствовало должности заведующего кадрами на любом предприятии. Эта должность позволяла ему подбирать и расставлять свои кадры по всей стране и в партии, а потом, опираясь на эти кадры, проводить свою линию в партии и правительстве. Несколько позднее Сталин и скажет известную свою фразу: «Кадры решают всё».
Пройдя через тюрьмы, ссылки и лишения подпольной жизни до революции, Сталин и после революции вёл привычный ему, скромный образ жизни, ставя на первое место достижение поставленных целей, а не житейские удобства, сохранив такое поведение до конца своих дней, оборванных предательством партийной верхушки, но это будет через много лет.
Иван Петрович засиделся у старого революционера, слушая его суждения о государстве, революции, старых и новых временах, о политике царской власти и власти большевиков – всё то, о чём он, как учитель и офицер имел слабое представление из опыта своей жизни. По настоянию Фёдора Ивановича он остался ночевать у него, чтобы на следующий день, закончив торговые дела, уехать в Вологду, заработав в Москве денег на семейную поездку к отцу в Белоруссию.