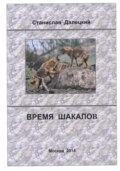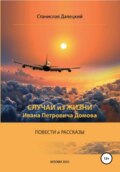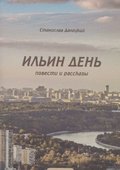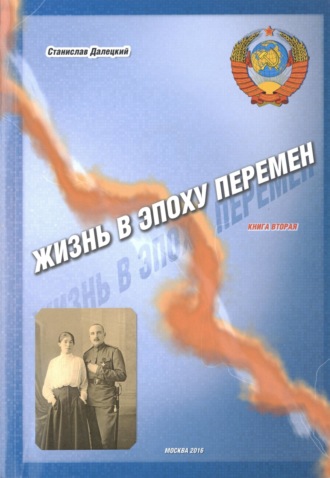
Станислав Владимирович Далецкий
Жизнь в эпоху перемен. Книга вторая
Однако з\к было не до красот Приамурского края – необходимо выкорчевывать участок, отмеченный прорабом колышками, иначе заслужат они штрафной паёк, на котором долго не протянуть при тяжелой работе.
Прораб объявил получасовой перерыв на обед, который состоял из пустых щей на свежей капусте и картошке, выращенных другими з\к в прилагерных подсобных хозяйствах, на расчищенных от тайги участках.
Кашевар зачерпывал половником щи из бака полевой кухни, привезенной на платформе вместе с трактором, и плескал щи в подставленную миску очередному з\к, которые колонной выстроились вдоль путей и медленно продвигались к заветному баку. Вместе со щами каждому давался ломоть хлеба, что и составляло весь обед.
Иван Петрович вместе с Мироновым попали в середину очереди и потому, получив каждый свою порцию, успели съесть свой обед, как, и положено, откусывая хлеб и прихлебывая горячие щи. Хуже было тем, кто получил свою порцию в самом конце. Не успели они отойти от кухни, как прозвучал удар в рельс, подвешенный на суку ближайшей сосны, что означало окончание обеда и начало работ. Эти бедолаги на ходу выпивали щи прямо из миски, засовывали кусок хлеба в карман, чтобы при случае украдкой от прораба, съесть этот хлеб всухомятку во время работы.
Уже темнело, когда урочный участок был очищен от пней и з\к снова погрузились в вагоны, подогнанные тем же паровозом, что доставил их сюда на работу. Паровоз дал гудок и медленно тронулся в сторону лагеря увозя з\к снова за колючую проволоку, от той мнимой свободы, что они провели на деляне, не огороженной проволокой и охраняемые только двумя вохровцами, присевшими на выкорчеванные пни вдоль опушки леса.
Такая охрана вызывала искушение побега, легкость которого ещё более облегчалась уходом в лес по нужде с согласия охраны, но поодиночке: следующий нужник мог отправиться в лес лишь после возвращения предшественника.
Таким образом, побег можно было совершить лишь одиночке или всем вместе разбежаться в разные стороны и два охранника смогли бы подстрелить одного – двух не более того. Кто-то из з\к в вагоне и высказал вслух мысль о побеге не из лагеря, а с места работы, но тотчас был осажден своим более опытным товарищем следующими словами:
– Убежать отсюда – дело нехитрое, а что делать дальше будешь? До границы отсюда почти 100 километров, по тайге – это две недели пути, если не собьёшься, без компаса и не ослабеешь без еды. Можно понемногу экономить хлеб и посушить сухарей, но на фаланге этого не скроешь, и тебя обязательно сдадут другие, потому что после побега вся фаланга объявляется штрафной, и всех отправят, поэтому, в другие лагеря на Север и в Магадан, где по слухам жить значительно хуже.
При этом, всем добавят лет по пять заключения ещё, за то, что не предупредили о побеге. Но и тому, кто убежит ничего не светит: вдоль железки не пойдёшь – там все поезда ходят под охраной и дрезины с охранниками проезжают. По тайге заплутаешь один, но если и выберешься к Амуру, то, как через него перебраться без лодки: все лодки здесь в поселках на цепи и под охраной рыбаков, которые тоже отвечают своей свободой за угон лодки. Скоро зима – зимой и вовсе в тайге не выжить и до Амура не добраться.
По первости, говорят, здесь было несколько побегов, но всех поймали, показали на фалангах, кто и откуда бежал, так з\к сами готовы были кончить беглецов, за то, что им срока добавили и штрафниками сделали.
Послушав эти разговоры, Иван Петрович, тоже оставил мысль о побеге, которая, было мелькнула у него в голове за целый день работы без колючки и охраны с собаками. Там, в охране, тоже не дураки, видимо, сидят, если такая свобода для з\к на местах работы, не то, что в лагере: и проволока в несколько рядов и постов охраны много у ворот и по углам на вышках и у администрации.
– Чудно как – то, – думал Иван Петрович по приезду в лагерь, – здесь охрана на каждом шагу, а на работе чуть ли не свобода: может это нарочно для провокации сделано: побежит з\к у всех на виду, можно и подстрелить его, чтобы другим неповадно было – для охраны достижение и благодарность от начальства.
Когда они вернулись в лагерь столовая уже закрылась, но дежурный по фаланге у печки, с согласия старшего по колонне, взял на всех порции каши пшенной в тазик и раздал её припозднившимся з\к. Поев, Иван Петрович, как и говорил ему прораб, отнёс наряд на выполненные работы в контору бухгалтерии. На этом первый его рабочий день закончился и, вернувшись на фалангу, он лёг и заснул спокойно, ускользающим сознанием думая о жене и детях.
На следующий день с утра занепогодило. Низкие быстрые тучи проносились, поливая землю, бараки и з\к холодными струями позднего дождя из обрушившегося на Приамурье циклона, добравшегося из теплых южных стран до северных мест заключения людей, именуемых з\к. Они и без этой холодной воды на их головы из осенних быстрых туч, испытывали лишения: физические и духовные и эта холодная вода на голову не взбадривала з\к, а лишь прибивала ниже к лагерной земле не давая укрыться от непогоды, под каким-нибудь навесом или на фаланге.
Как и вчера, паровоз – кукушка подогнал вагоны, з\к шестой колонны погрузились в вагоны, и под их крышей опять поехали к местам работы. Когда прибыли, дождь хлынул сплошным потоком, будто разверзлись хляби небесные, и над землей нависла угроза нового потопа, но уже без старикашки Ноя и не для всех тварей земных, а лишь для з\к БамЛага.
Прораб понял, что толку от работы в проливной дождь не будет никакого и разрешил з\к оставаться в вагонах, а сам в дождевике пошел осматривать площадку, чтобы решить, за сколько ясных дней можно выполнить порученные ему работы. По его расчетам получалось, что до зимы здесь не управиться заезжими колоннами зэков и необходимо обустроить здесь временный филиал БамЛага, как это делалось в других местах строительства Байкало-Амурской магистрали. Проще переселить з\к, чем возить их каждый день за тридевять земель на работы.
С таким решением прораб пришел в будку станционного смотрителя, и там, присев за стол у печки – буржуйки, стал составлять записку начальнику БамЛага Френкелю об организации временного филиала у станции Архара, на период строительства вторых путей Транссиба, на 300-500 зэков, чтобы не возить их каждый день на работу. К записке он приложил сметы объемов и сроков работ по благоустройству лагеря и об объемах работ по строительству вторых путей, с обоснованием численности з\к.
Подошло время обеда и з\к поочередно выскакивали под дождь к полевой кухне, которая еле дымилась под проливным холодным дождем, и, получив свою порцию макарон, сваренных на бульоне из сушеных овощей: моркови и картошки, ныряли обратно под крышу вагона.
Дождь не прекращался, и к вечеру состав с з\к, так и не приступивших к работе, отправился назад в лагерь, где промокшие до нитки з\к попытались сушить свою одежду у печек – буржуек, раскалённых докрасна стараниями дежурного по фаланге. Ужин неработающим з\к не полагался.
На следующее утро, получив по несколько ржаных сухарей вместо завтрака и запив их кипятком из титана, разогретого дежурным, который разливал кипяток в подставленные кружки, а воспитатель кидал туда каждому з\к кусочек сахара или давал этот кусочек в руку. Позавтракав з\к, снова под дождем, погрузились в вагоны и опять паровоз потянул состав с з\к к месту работы, на полустанок. Дождь не прекращался и, прибыв на место, состав з\к, как и накануне, простоял весь день на запасных путях так и не приступив к работе. Поздним вечером, промокшие до нитки по пути от места выгрузки до лагеря, з\к шестой колонны возвратились в свои фаланги, чтобы просушиться и немного отогреться после холодного осеннего дождя.
– Лучше бы снег шёл и похолодало,– поделился Иван Петрович со своим товарищем по кабинке Михаилом Мироновым, отжимая рубашку и свитер и развешивая мокрую телогрейку на стенку барака, куда он вбил колышек между досками, вместо вешалки.
– По такой погоде запросто схватить воспаление и отмучиться на этом свете, но у меня семья жена и четверо детей, мне никак нельзя умереть здесь от простуды, продолжал он, меняя мокрые портянки, на сухие, которые извлёк из-под нар.
– Да, непогода разыгралась не на шутку, – поддержал разговор Миронов, тоже пытаясь избавить свою одежду от воды, стекавшей каплями с его телогрейки и неприятно холодившей мокрое тело, хотя в бараке было тепло и душно: две раскаленные буржуйки гоняли горячий воздух по бараку вверх и вдоль стен, где остывая, он возвращался по дощатому полу снова к буржуйкам, чтобы повторить это круговращение.
– Охранники, из местных, говорят, что такая погода может длиться неделю и больше: это осенние тайфуны пробиваются сюда с юга и изливаются дождем или снегом, – продолжал Миронов, снимая рубаху и отжимая её, по примеру Ивана Петровича, скручивая рубаху в тугой жгут, из которого вода струйками стекала на доски пола и сквозь щели уходила в землю.
– Скажи, Иван Петрович, как нам будут рассчитывать по работе эти дождливые дни: как рабочие или актированные по непогоде? Если, как рабочие, то ещё будем на голодном пайке сидеть, поскольку наряд не выполнили, и его надо будет отрабатывать потом, а если дни актируются по непогоде, то нашей вины в том нет, и вся колонна будет получать рабочий паек.
– Как дожди кончатся, я – табельщик, составлю акт и спишу эти дни как нерабочие, – ответил Иван Петрович, переодеваясь в сухую одежду, в которой был вчера, и которая подсохла за день в тепле барака расстеленная на нарах. – Я уже говорил с воспитателем, она сказала, что тоже подпишет акт, и я думаю, что мы останемся на рабочем пайке питания.
– Хорошо бы так, – вздохнул Миронов, тоже переодеваясь в сухое, – но надо, чтобы и прораб подписал этот акт, а наш прораб, по слухам, из бывших зэков, оставлен здесь на поселение и чтобы получить полную свободу гнётся перед начальством и требует от зэков полной выработки нормы каждый день. Вряд ли он простит нам эти дождливые дни и заставит их отрабатывать.
– Что бестолку гадать, давай лучше пить чай с сухарями, что нам выдали утром и на завтрак, и на ужин – у меня и сахарок ещё остался, а на заварку я нарвал ягод рябины, когда ходил в тайгу по нужде, – ответил Иван Петрович, доставая из телогрейки пару гроздей рябины, уже побитой морозом и оттого утратившей горечь и помягчевшей.
– Это дело хорошее – попить чайку на рябине, – оживился Миронов, – как бы цингу здесь не схлопотать на одной каше и макаронах. В сухих овощах ничего полезного нет и я уже встречал здесь в лагере цинготных, что пригнали с северов: смотреть на них: гнилых и беззубых и то оторопь берет, а уж если сам, не дай бог, заболеешь, то и совсем дело худо будет.
Они, молча, попили чаю с рябиной, размачивая в нём сухарь и, согревшись, скоро уснули под мерный стук дождя, по крыше барака.
Следующее утро встретило пробудившихся зэков ясной и морозной погодой: за ночь циклон пронёсся над Приамурьем, с тыла ворвался холодный воздух с Севера, который заморозил воду в воздухе и на земле, словно и не было никаких дождей.
Этот день з\к 6-ой колонны отработали в полную силу и выполнили норму, установленную прорабом, который подписал наряд, но акт на два нерабочих дня подписывать не стал и обругал Ивана Петровича за попытку списать дни, как не рабочие.
– Мало ли, что дождь шёл, вы не работали и теперь должны наверстать упущенное, – злился прораб. – Будете работать по десять часов, вот и нагоните норму.
– Как в полной темноте можно работать: день-то уже короткий, – возразил Иван Петрович, мы бы не против, но дайте свет на площадку, – объяснял Иван Петрович, – вот и воспитательница подписала акт о нерабочих днях, потому что в дождь на БамЛаге всегда не работают – все мокнут, а толку от такой работы нет никакого – только людей мучить.
– Вы что, вместе с воспитателем против меня заговор устроили? – разъярился прораб, – так я вас обоих от должностей отстраняю и перевожу на общие работы, чтобы другим неповадно было. Не хочешь быть табельщиком в подмогу прорабу – покопай теперь землю и корчуй пни, а на ваши места я найду зэков посговорчивее, – закончил прораб и на том закончилась лёгкая работа табельщиком у Ивана Петровича.
IX
Со следующего дня Иван Петрович, работал вместе с остальными з\к колонны на общих работах. Стояли ясные дни, снега не было и по ночам доходило до 15 градусов мороза – земля промерзла и пропиталась влагой от прошедших дождей, схватилась в камень, который не брали ни кирка, ни лом, ни лопата.
Слабосильный колесный трактор, натягивая стальной трос, наброшенный на пень, начинал скользить по мерзлоте, пытаясь выдернуть пень, но это удавалось редко. Тогда з\к начали выбирать пни с корнями идущими вдоль поверхности земли, подрубали эти корни топором, подсовывали под обрубок корня трос и трактору удавалась почти всегда вывернуть пень с большим куском мерзлой земли. Эта земля оббивалась кирками и лопатами, освободившиеся корни обрубались и пень относился на опушку. Работа шла, как и прежде, но медленно и норма выработки на фалангу не выполнялась, что означало перевод фаланги с рабочего пайка питания, на паёк для не выполняющих норму, что означало урезку питания почти в два раза.
Через неделю такого питания и работы на морозе у Ивана Петровича начали шататься зубы, выпадать волосы и кровоточить десны, что свидетельствовало о приближении цинги. Вдобавок тут и там на теле начали появляться чирьи, и он отправился в санчасть с разрешения прораба и нового воспитателя.
В санчасти санитар осмотрел его и поставил диагноз – цинга, что означало перевод Ивана Петровича на питание по больничной норме. В лазарет его не положили, и он отлёживался у себя в бараке, выходя из него только на приём пищи в столовую при лазарете.
Больничный паек был вполне приличный: давали щи и борщ на мясном бульоне, макароны по-флотски и компот из сухих фруктов, селедку и обязательную ложку рыбьего жира перед едой.
Из дома от Аннушки пришла посылка, где были домашняя тушонка, копченая свинина, сахар и чай – всё это собрала тёща Евдокия Платоновна, положив в посылку ещё и вязанный из овечьей шерсти свитер с высоким воротником под самое горло и по две пары носков и рукавиц, зная из письма Ивана Петровича, что работает он под открытым небом, а значит на морозе.
Сосед по каморке, Миронов, приносил из тайги сосновые ветки с шишками: хвою, и шишки Иван Петрович заваривал в кипяток и пил этот отвар – про его целебные свойства он прочитал в одной из книг американского писателя Джека Лондона, который описывал приключения золотоискателей на Аляске.
От усиленного питания и лечебных отваров на хвое, Иван Петрович быстро пошел на поправку и через две недели снова вышел вместе с фалангой на общие работы. Зэки уже закончили раскорчевку вырубки от пней и приступили к валке леса вдоль магистрали, чтобы очистить место для прокладки вторых путей и дополнительных запасных на разъезде.
Надо сказать, что за время его болезни, всем зэкам выдали, наконец, лагерную одежду и теперь все были одеты одинаково: шапка, телогрейка, ватные штаны и валенки, что было весьма кстати, потому, что наступали морозы под 30 градусов и больше. Это была Сибирь, хотя и южная: с морозами, метелями и глубокими снегами, которые зэки убирали с железнодорожного полотна деревянными широкими лопатами.
Работа была вполне посильная, и Иван Петрович поправился окончательно, благо, что вскоре пришла ещё одна посылка от тёщи.
Фаланга втянулась в работу по валке леса и расчистке путей от снежных заносов. В безоблачные и ясные сумерки работать было можно и после захода солнца, которое, здесь, на юге Дальнего Востока садилось позже, чем на родине жены Анны под Омском.
Всё это позволяло выполнять норму, что давало вполне приличное питание: иногда давалось и мясо в борще или с макаронами, а рыба появлялась в мисках зэков почти каждый день – БамЛаг от рыбного побережья Приамурского края находился в дне пути, да и в Амуре туземцы – остяки ловили рыбу в изобилии и сдавали её, мороженную, лагерным снабженцам совсем за бесценок.
За бутылку водку, хотя это и запрещалось, можно было выменять два мешка мороженой рыбы. А запрещалось потому, что местные жители, непривычные к крепким напиткам, очень быстро спивались и становились алкашами, предлагая за пол-литра водки своих жен и дочерей охранникам и поселенцам.
Памятую о совете адвоката, с которым общалась тёща после осуждения зятя, Иван Петрович написал заявление в лагерный отдел по колонизации, где высказал желание стать поселенцем в безлюдных районах Дальневосточного края, чтобы учительствовать где-нибудь в отдаленном селении вместе со своей женой – тоже учительницей.
В отделе ознакомились с заявлением и личным делом, вполне благожелательно отнеслись к его намерениям: партия кинула кличь на освоение Дальнего Востока, молодежь с энтузиазмом ехала по оргнабору в эти глухие места, но учителей и врачей здесь не хватало и каждый специалист ценился особо. К тому же, Иван Петрович был осужден за спекуляцию, не был зверским преступником, и врагом народа, и поэтому вполне мог работать учителем, на должности которого не было соблазнов мошенничества и воровства и неправильного воспитания детей, если бы он был осужден, как враг народа, по 58-й статье УК.
Для рассмотрения вопроса по существу, требовалось согласие жены, и Иван Петрович написал Аннушке подробное письмо о том, какие ей нужно собрать документы и куда их выслать, чтобы они не затерялись и дали положительный ход делу семейной колонизации.
За этими делами незаметно наступил канун нового года – 1936-го. В очередной раз Иван Петрович встречал перемену дат вдали от семьи, но если раньше эти разлуки были по житейским обстоятельствам, то сейчас он впервые встречал Новый год в заключении, как преступник, не совершивший преступления и осужденный невинно по чьёму-то злому умыслу, что было тяжело вдвойне.
Даже колчаковцы в 18-м году выпустили его из тюрьмы накануне Нового года и дали дни отдыха, чтобы он мог встретиться с семьей перед мобилизацией в Белую армию.
Зэки по-своему отмечали Новый год: не как праздник, а как сокращение оставшегося срока заключения на целый год, что увеличивало надежду дожить и до освобождения.
Ушлые уголовники, через вольнонаемных, что служили в лагере на административно – хозяйственных должностях, жили в поселке и свободно входили – выходили из лагеря по пропускам, затарились несколькими бутылками водки. Эти бутылки припрятали под досками пола, чтобы внезапный шмон – обыск, иногда проводимый охраной, не лишил их драгоценной выпивки по случаю приближения срока освобождения на целый год.
Прораб и охрана тоже торопились по домам, и потому смена закончилась раньше обычного и уже в девять часов все зэки были по своим фалангам.
Наступила ясная морозная ночь. Холод крепчал и немногие уцелевшие на территории лагеря сосны и лиственницы потрескивали корой, что свидетельствовало о морозе за тридцать градусов. В бараке было тепло от двух раскаленных докрасна буржуек, куда регулярно подбрасывались новые поленья. Только по углам и по стенам вдоль пола местами серебрился иней – горячий воздух от печей достигал углов успевая остыть, и был не в состоянии растопить эту изморозь.
В середине барака устроили общий стол, куда зэки стащили все припасы, что сберегли в домашних посылках или приобрели в лагерном магазине. Надо сказать, что у многих зэков водились деньги: кому-то присылали переводы из дома, но большинство получало наличные из своей зарплаты.
Если выполнялась норма, то зэкам полагалась зарплата, часть которой высчитывалась за содержание в лагере, а из оставшейся части можно было получить 100 рублей на руки и потратить их по своему разумению в лагерном магазине. Оставшаяся часть зарплаты зачислялась на личный счет зэка, деньги с которого выдавались при освобождении из лагеря. Всего зарплата составляла обычно 300-600 рублей – вполне приличные по тем временам деньги, если учитывать, что начинающие учитель и врач получали примерно столько же.
Уголовники достали спрятанную водку и разлили её по кружкам всем желающим, – каковыми оказались все обитатели барака. Время подходило к полночи, воспитатель сказал короткий тост о том, чтобы им всем дожить до свободы, а если повезет, то и досрочно.
Он намекнул, что им, воспитателям, говорили на курсах политпросвещения, о разработке в новом году новой Конституции СССР и если она будет принята, то обязательно будет амнистия и возможно многие з\к их барака могут попасть под эту амнистию.
З/к послушали этот тост, посмотрели на часы, которые были у некоторых, и аккурат в полночь выпили водку из своих кружек и быстро принялись опустошать стол с едой – закуской. Водки хватило ещё на один разлив, который выпили молча, каждый загадав про себя что– то своё.
Стол мгновенно опустел и зэка разошлись по своим кабинкам, а уголовники устроили игру в карты на интерес или на исполнения желания выигравшего: это разновидность рабства, когда проигравший должен выполнить желание выигравшего, даже если это будет грозить смертью. Впрочем, воспитатель пресекал такие ставки в игре, и обычно играли в деньги под будущую зарплату или под посылку из дома.
Иван Петрович в этих играх не участвовал и вместе с Мироновым ушел в свою кабинку где, улегшись на нары, стал, размышлять о том, что принесет ему этот наступивший, Новый 1936-ой год: – Хуже года минувшего, когда его осудили ни за что, ни про что, на десять лет лагерей – этот новый год точно не будет, а там глядишь, если удастся колонизироваться, то и совсем жизнь может наладиться здесь на Дальнем Востоке, где людей мало совсем, а значит и мало людской подлости, зависти и предательства.
Он давно заметил, что там, где людей меньше, а пространства больше, люди живут дружнее, держатся друг за друга, помогают и сочувствуют другим, потому что сами зависят от природы: если ты сегодня оттолкнешь другого, то завтра, быть может, и он не придёт тебе на помощь в трудную минуту и в безлюдном месте.
– Поселиться бы с Аннушкой и младшими сыновьями где-нибудь здесь в небольшом сельце казацком, где все знакомы и уважают учителей и там спокойно доживать отпущенный век вместе с подрастающими детьми, думал Иван Петрович, расслабившись от пары глотков водки с непривычки.
С самого ареста было не до водки, да и дома, прежде, он употреблял её чисто символически по праздникам, в отличие от царя Николашки, который ежедневно за обедом выпивал три рюмки водки и которого Иван Петрович считал полным ничтожеством и виновником всех бед, что обрушились на страну и на него лично.
– Надо будет зайти в отдел колонизации и справиться насчет моего ходатайства, решил Иван Петрович сквозь свои мечты о свободной и благополучной жизни на поселении.
– Что, Иван Петрович, затаился в своем углу? – вдруг спросил Миронов, приподнимаясь на нарах. – Небось, вспомнил новогодние праздники в своей барской усадьбе? Наверное, и ёлку наряжали, и до поздней ночи застолье длилось, а теперь вот здесь в лагере впервые Новый год встречаешь зэком, как тебе это нравится?
Этот Миронов Михаил Васильевич, тридцатилетний мужчина, успел поучаствовать в гражданской войне в конной армии Буденного пятнадцатилетним парнишкой, потом окончил рабфак и учительские годичные курсы и вернулся работать учителем начальных классов в свой родной хутор на Кубани, но жил отдельно от родителей бобылем.
В тридцатом году его родителей раскулачили, как имевших две лошади и волов, и выслали в Вологодскую область в лесной поселок лесорубов.
Михаил вступился за родителей, писал всюду жалобы на несправедливость относительно родителей, но результата не добился, правда и его самого не трогали, поскольку был красноармейцем и жил отдельно. Но в начале 35 года, кто-то написал донос, на него, что учитель Миронов говорит ученикам о несправедливости раскулачивания его родителей и других хуторян и за контрреволюционную пропаганду относительно колхозов Миронов был осужден на пять лет лагерей, учитывая его красноармейское прошлое. В БамЛаг он прибыл вместе с Иваном Петровичем в одной колонне, и разместились в одной кабинке – как учителя.
– Нет, Михаил, не устраивал отец новогодних посиделок, – ответил Иван Петрович, – да и мало кто в моей юности отмечал новый год. Рождество отмечали, это верно, а новый год не прижился, особенно с ёлкой. Это царь Пётр Первый, обезьянничал праздновать новый год, как в Европе, но ничего у него не получилось, как и во всём остальном у этого царя – кровавого упыря.
– Чем же тебе, Иван Петрович, царь Пётр Первый не угодил, – удивился Миронов.
– Я считаю, что именно с него, царя Петра Первого и начались несчастья земли русской, – ответил Иван Петрович, отвлекшись от своих размышлений о возможном будущем поселении здесь на Дальнем Востоке на постоянное жительство.
– С этого царя и началась деградация династии Романовых, которые, кстати, вовсе и не Романовы были до коронации царя Михаила, а назывались Захарьиными. Я читал в старообрядческой книге, что царя Петра Первого подменили в младенчестве, сразу после рождения, на еврейского детёныша – уж больно он был непохож на своих чисто русских родителей: чернявый, гневливый, несуразного телосложения и запойный. Он потянулся за внешним шиком Европы и отказался от русских правил и обычаев, что веками помогали выживать русскому народу в суровых наших природных условиях.
В Европе только сверху кажется благодать, а души у тамошних народов нет – только выгода и деньги на уме. Вот Пётр Первый по дурости, а может и нарочно, стал ломать Россию через хребет, чтобы всё устроить на европейский манер, с которым он познакомился, когда ездил в Европу и кочевряжился там с их правителями. Со Швецией ввязался в войну, за ненужные болота Балтийские, 20 лет воевал бес толку, и в итоге купил эту Прибалтику у шведов за пять миллионов гульденов, а это был весь годовой доход земли Русской.
На строительстве Петербурга – этого гнилого зуба, положил более миллиона людей. Туда пригоняли крестьян, через полгода они все умирали от болезней и бескормицы, взамен пригоняли новых и, в итоге правления Петра Первого треть населения России погибла в войнах, болотах и от голодухи. Наша жизнь, здесь в БамЛаге, это райское место по сравнению с околотниками на строительстве Петербурга.
Кстати, интересно, почему большевики нахваливают Петра Первого? Может потому, что действуют его методами? Правда тот укреплял свою царскую власть и глумился над народом, а большевики силой тянут народ в светлое будущее, каким оно им видится по их представлениям.
Хотя, надо признать, что кое-что им удаётся. Весь народ посадили за парты на учебу, строят заводы и фабрики, заселяют пустынные земли здесь на Дальнем Востоке, пока только лагерями и колонистами, но ещё Михайло Ломоносов говорил, что могущество России будет прирастать Сибирью.
Вот если бы зверств большевики творили поменьше и думали не о народе вообще, а о каждом человеке в отдельности, может, и мы бы не сидели здесь в БамЛаге ни за что, ни про что.
Иван Петрович замолчал, от обиды и бессилия заскрипев зубами.
– Зря ты, Иван Петрович, обижаешься на большевиков: лозунги и идеи у них верные, а исполнение зависит от людей, которые эти идеи претворяют в жизнь на местах. Вот мы с тобой оба сидим здесь по доносам, так это разве Советская власть виновата, что мерзавцы написали доносы, а другие мерзавцы дали этим доносам ход и осудили нас ни за что?
В Гражданскую войну, пока я, и такие как я, воевали за Советы, ушлые людишки заполонили собой эти Советы и сейчас делают всё, чтобы удержаться у власти, и всякое распоряжение сверху доводят своими делами до абсурда. Да и наверху, у большевиков, судя по всему, идет драчка между собой за власть и влияние в партии.
Смотри, десять лет после Ленина, то один, то другой оказываются наверху: Троцкий, Сталин, Бухарин, Рыков и еще какие-то личности оказывались наверху, а при каждом их них свои людишки и свои взгляды на будущее страны. Вот и разразилась драчка, а ведь известно, что «когда паны дерутся, то у холопов чубы трещат», как говорят у нас на Кубани.
Сейчас, кажется, усатый Сталин побеждает и куда он поведет – одному ему известно. Енох Ягода с соплеменниками, что засели в НКВД в большом количестве, затаились и выжидают команды, а какая команда поступит от Сталина неизвестно: может освободят людей из лагерей, что не виноваты, как мы, а может наоборот будут хватать всех подозрительных элементов и сюда к нам. Это как исполнители делать будут, типа нашего лагерного особиста – Шедвида, мерзкого человечка!
К большевикам у меня претензий нет. Ты вот Иван Петрович, хоть и захудалого дворянского рода, но смог окончить институт при царе, а таким как я не было туда хода, даже для зажиточных. Так бы я и ходил всю жизнь за волами с плугом, если бы не Советская власть, что дала мне возможность учиться и стать учителем, пусть и без институтского образования. И у нас на хуторе, почти все грамоте обучились, кроме ветхих стариков, а при царе почти поголовно были безграмотны – это меня, единственного сына, папаша в школу отправил, а дружки мои при быках остались.
Конечно, и коллективизацию надо было проводить помягче, а то полетели гонцы из района: давайте, все срочно вступайте в колхоз. Кто не согласен, тех раскулачили и выселили на севера.
Вот народ и взроптал и порезали люди скот на мясо, чтобы в колхоз не сдавать свою животину. А пришла весна, и пахать-то наши земли стало нечем: лошадь наш чернозем не берёт, а быков съели. Ничего не посеяли – нет урожая, а отсюда голод начался и много людей, из-за глупостей начальников и своей жадности, померли с голоду в 32-ом году.
Потом наладилось понемногу, трактора прислали, и сейчас родственники пишут, что жить стало получше. И то сказать, даже у нас на Кубани, где палку воткни в землю и вырастет дерево, и при царях были голодные годы: чуть неурожай, так многоземельные кулаки, хлеб за границу продадут для своей выгоды и кто без зерна остался – тот и живёт впроголодь, а бывало и помрёт с голодухи.
Правильно, что земля сейчас стала общая – не может быть дар божий чьей-то собственностью. Надо только на общей земле научиться хозяйствовать, как на собственном огороде.
Без царей жить можно хорошо, если убрать помещиков, кулаков, попов и прочих паразитов присосавшихся к работному люду, а вот без царя в голове у каждого из нас прожить невозможно: жаль, что каждому в черепушку не заглянешь и не увидишь что там: солнышко или потемки. Мне кажется, что у Сталина в голове посветлее будет, чем у многих из правительства и партийного руководства. Поживём – увидим, – закончил свою новогоднюю речь Михаил Миронов и замолчал.