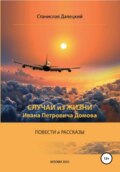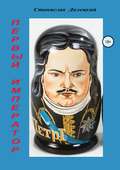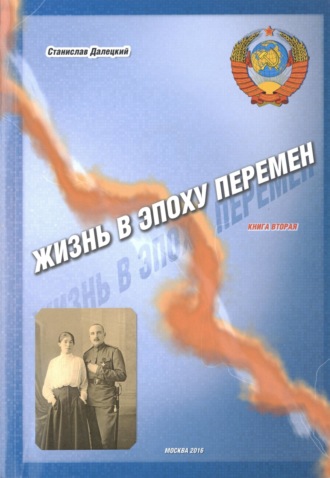
Станислав Владимирович Далецкий
Жизнь в эпоху перемен. Книга вторая
Решение ЧеКа было странным и необъяснимым: при царе его тестя, Антона Казимировича, сослали по Владимирскому тракту, что неподалеку от Вологды, в Сибирь, а сейчас, при Советах, Ивана Петровича ссылают в обратном направлении из Сибири в Вологду. Воистину говорится: «Чудны дела твои, Господи!»
Освободившись из тюрьмы в начале сентября, Иван Петрович собрал свои нехитрые пожитки, получил, как ни странно, своё командирское жалование за истекшие месяцы заключения, и выходное пособие, и отбыл без проволочек к семье с намерением забрать жену и детей и уехать в Вологду до наступления зимы.
С окончанием войны кое-какой порядок начал восстанавливаться в стране, и за три дня Иван Петрович добрался из Иркутска в Омск, а оттуда за два дня на повозке с кучером и тремя пассажирами доехал до дома, и, как обычно, внезапно, под вечер, появился на пороге кухни, где хлопотала тёща, которая лишь всплеснула руками, увидев зятя.
Сняв шинель, он прошел в дальнюю комнату, заслышав детский плач. Анечка как раз переодевала младшую дочку, когда Иван Петрович зашел в комнату и, тихо подойдя сзади к жене, обнял её за плечи. Испуганно обернувшись, она увидела мужа, но не кинулась ему на шею, а продолжала заниматься дочерью.
– У Лидочки начался жар, – пояснила Анечка, – боюсь, не случилась бы горячка. Видимо, простудилась, играя во дворе: днем-то тепло, но ветерок свежий, а много ли ребенку надо! Эх, не уследила за дочкой нашей, Ванечка, казни меня за это.
– Ладно, успокойся, – возразил Иван Петрович, склоняясь над дочерью, которую видел впервые. – Пока ничего плохого не вижу. Кашля нет, а жар может быть и от зубов, которые режутся у годовалого ребёнка.
Дочка, услышав разговор, перестала плакать и взглянула на отца голубыми глазами, точь-в-точь, как левый глаз у Ивана Петровича.
Только сейчас он обратил внимание на свою старшую дочь, которой уже было почти четыре года, стоявшую у окна на двор и внимательно разглядывающую незнакомого ей мужчину.
– Августа, иди сюда, и поздоровайся с папой, – строго сказала Анечка, подзывая дочку. – Разве это мой папа? – удивилась дочка. – Мой папа – офицер, и у него погоны золотые на плечах, а у этого дяденьки погон нет, и значит он не офицер, и не папа! – закончила дочка, рассматривая Ивана Петровича изумрудными глазами, точь-в-точь как его правое око.
– Ну вот, – рассмеялся отец, – Две у меня теперь дочки, и каждая ухватила себе по моему глазу. Осталось завести нам с тобой, Анечка, сыночка, чтобы у него были твои карие глаза.
– Какой сыночек, с этими двумя едва справляюсь, – возразила Анечка, прижавшись, наконец, к мужу и успокоившись от тревоги за дочку, которая, перестав плакать, заснула, пока родители обсуждали своих детей.
– А где Антон Казимирович? – спросил Иван Петрович жену, подавая старшей дочери плитку шоколада, которую он купил ещё в Иркутске ей в подарок. Дочь взяла плитку шоколада и, не зная, что с ней делать, сунула в карман платьица. Она никогда не видела шоколада, шоколадных конфет и других сладостей, которые исчезли у торговцев-лавочников ещё до её рождения. Даже сахар был большой редкостью в этих местах, но всё-таки знаком девочке заботами деда Антона Казимировича.
– С отцом моим случилось несчастье, – ответила Анна на вопрос мужа. – Он курильщик, и от этого у него отказала нога, и её пришлось отрезать выше колена, – так мне сказал врач. Сейчас отец находится в больнице под присмотром тёти Марии, и если всё будет хорошо, то недели через три мы привезем его домой, где будем долечивать, и месяца через два он будет уже сидеть, а потом через полгода или больше столяр смастерит ему культю из дерева, костыли, и он сможет ходить по дому. Такие вот у нас дела, как сажа бела.
Припозднился ты, Иван Петрович, с отпуском своим и нельзя мне с детьми уезжать из тёплого дома тётки Марии, на зиму глядя, в твой Иркутск. Отложим переезд до весны, да и отца в таком состоянии я оставить не смогу.
– Что же, Анечка, и мои известия не лучше: уволили меня из Красной армии, да не просто уволили, но и ещё ссылают в Вологду, а сюда разрешили заехать за семьёй на краткое время. Первого октября я должен быть в Вологде и отметиться в тамошнем ЧеКа, иначе будет считаться побегом. Так что побыть мне здесь можно дня три-четыре, за которые я надеялся управиться, забрать тебя с детьми и уехать в эту ссылку. Хотя Вологда – это древний русский город неподалёку от Москвы, и думается мне, что нам там будет лучше, чем в Иркутске, да и зима там не такая жгучая, как в Сибири.
От этих слов Анечка присела на кровать, дочка проснулась и снова начала плакать. Анечка стала успокаивать дочку, а Иван Петрович, взяв старшую дочь за руку, повёл её на кухню к бабушке, которая уже поставила самовар и собрала кое-какую снедь в честь приезда зятя. В это время в дом вошла тётка Полина, которая была у соседей, вскоре пришла и хозяйка дома тётка Мария, и всё семейство принялось чаевничать под рассказы Ивана Петровича об изменениях в его судьбе и планах на будущее устройство жизни.
Под грузом навалившихся невзгод Иван Петрович как-то обмяк, сник, и даже ночная близость с женою после года разлуки не доставила ему ожидаемой радости.
Но следующим утром он, к своему удивлению, проснулся бодрым и свежим, с ясной головой и созревшим решением, как быть дальше. За завтраком Иван Петрович поделился своими планами с женой и тёщей.
– Давайте поступим так, – начал Иван Петрович. – Мне необходимо через два дня уезжать отсюда, иначе не успею к сроку прибыть в Вологду и отметиться в ЧеКа. Поэтому я уеду один, устроюсь там на жительство, куплю дом хороший, начну учительствовать: я же не под арестом буду находится, а только под надзором. А весною, лучше в мае, вы все вместе приедете ко мне: Анечка с детьми, отцом и матерью.
Хватит вам Евдокия Платоновна с Антоном Казимировичем ютится по углам у тётки Марии. Будете жить с нами и со своими внучками. Вместе не пропадем и уедем из этой Сибири, куда Антона Казимировича сослали, а я оказался здесь по службе. У меня на Западе тоже есть отец, от которого я не имею известий уже пять лет: может, он уже помер, или болеет и не знает, что у меня есть жена и дочки, вот при случае навещу и отца, или его могилку.
Что случилось, того не поправишь, а нам надо с Аней дочерей растить и быть опорой им и твоих, Анечка, родителей поддержать на старости лет. Все согласились, и Иван Петрович пошел в больницу навестить тестя.
Антон Казимирович лежал в больничной палате на три кровати, ещё две койки были в соседней комнате, это и всё, чем располагала местная больничка для лечения своих жителей. Войдя в палату с Анечкой, он не сразу признал в лежавшем на кровати старике своего тестя, Антона Казимировича: так он исхудал и осунулся. К старческой худобе добавилась болезнь и ампутация ноги, и теперь перед ним лежал сухонький старичок с детским тельцем и седой кудлатой бородой, которая ещё два года назад была лишь наполовину седоватой.
Завидев посетителей, Антон Казимирович бессильно встрепенулся на кровати, пытаясь привстать, позабыв об утрате ноги, и поэтому завалился на правый бок, где не было ноги, и свалился бы с узкой больничной кровати, если б Анечка не поддержала его вовремя.
Откинувшись на подушку, Антон Казимирович жалобно улыбнулся: – Видишь, зятёк, тесть-то твой совсем обессилел и ноги лишился: не знаю, поднимусь ли с этой кровати, вернусь ли домой и буду ли ходить на костылях – такие вот дела в нашей семье произошли, пока вы, Иван Петрович, служили в Красной армии.
– Ничего, ничего, – успокоил Иван Петрович своего тестя. – Одна-то нога осталась, к ней добавятся два костыля, и будете, Антон Казимирович, на трёх ногах ковылять с прежней скоростью. Помнится мне, что раньше я за вами угнаться не мог, хотя и спор на ногу, а теперь уравняемся в скорости.
В старой загадке говорится, что человек начинает жизнь на четвереньках, потом ходит на двух ногах, в старости на трёх, опираясь на посох. Значит, время ваше пришло, Антон Казимирович, ходить на трёх ногах, чему скоро научитесь. Выздоравливайте поскорее, а весною я вас из Сибири заберу в Россию, – и Иван Петрович рассказал тестю об изменениях в своей жизни. Антон Казимирович оживился от услышанных новостей. – Сорок лет назад я по Владимирскому тракту шел от Москвы в Сибирь на ссылку в этот городок, а теперь с зятем своим вернусь туда, в Россию, тоже в ссылку.
– Вспоминал и я об этом, – рассмеялся Иван Петрович. – Как говорили древние греки: «Всё, что имеет начало, имеет и конец», жизнь ваша, Антон Казимирович, делает полный оборот и возвратится к своим истокам, значит, была прожита не зря. Будете с внучками своими заниматься или сидеть на завалинке и греться на солнышке, как любят старики, а вам, слава Богу, в прошлом году шестьдесят пять годков стукнуло. Поправляйтесь скорее, Антон Казимирович, и будете собираться в дорогу дальнюю вместе с Евдокией Платоновной, Анечкой и внучками вашими, – сказал Иван Петрович доброе слово на прощание, собираясь уходить.
– Постой, нагнись ко мне, хочу тебе сказать заветное слово, – попросил Антон Казимирович, и когда Иван Петрович наклонился к нему, прошептал в ухо: – Скажи Евдокии, чтобы дала тебе десять золотых червонцев в дорогу и на покупку хорошего дома в Вологде, чтобы всем нам было просторно и не ютится по углам. Не беспокойся, у меня ещё немного есть средств, нам на житьё со старухой хватит, да и вам на первое время поможем. Ведь переезд – это как два пожара: на одном месте всё бросить, а на другом месте всё заново купить.
Закончив сообщение, он снова откинулся на подушку и, махнув рукой на прощание, прикрыл глаза, – встреча и разговор обессилели Антона Казимировича, и он впал в дрёму. Дочь и зять тихонько вышли из палаты.
– Теперь видишь, Ваня, что не могу я бросить отца в таком состоянии, – сказала Анечка, вытирая слёзы, набежавшие от жалости при виде отца.
– Я ведь не обижаюсь и не возражаю, чтобы ты осталась здесь, – успокоил Иван Петрович жену, и они возвратились домой.
Через два дня Иван Петрович попутной подводой уехал до ближайшей станции, там сел на поезд до Москвы, откуда добрался в Вологду в последних числах сентября, как и рассчитывал.
XX
Явившись в Вологодское ЧеКа, он предъявил справку о своем направлении в Вологду под надзор ЧеКа. Там немало подивились решению Иркутских коллег, и один уполномоченный даже пошутил, читая документы Ивана Петровича: – Может нам, по примеру иркутян, сослать вас, Иван Петрович, в Москву, на постоянное жительство и все дела: вам хорошо, и нам мороки с вами не будет. Но шутки шутками, и если вас сюда направили, то устраивайте свою жизнь, как пожелаете, с условием раз в месяц приходить в ЧеКа и отмечаться о своем наличии здесь. Можете выезжать временно даже в Москву: никаких ограничений по этому поводу в вашем деле нет. Да и надзор этот, видимо, будет снят через год или раньше.
Учудили иркутяне, так что пользуйтесь, гражданин Домов, свободой и живите в древнем русском городе Вологде, как получится. Кстати, учителя здесь требуются во многих школах, а у вас высшее учительское образование, и думаю, что с устройством на работу учителем трудностей не возникнет, – закончил чекист свои наставления, вписал Ивана Петровича в журнал поднадзорных лиц и, пожелав удачи на новом месте жительства, отпустил восвояси.
Из Управления ЧеКа Иван Петрович вышел, приободрившись: ссылка оказалась условной мерой и никак не ограничивала его в житейских делах, которыми он немедленно и занялся.
Первым делом пошел на местную барахолку и там сговорился о съёме комнаты в доме у какой-то старушки, которая провела его кривыми улочками к своему дому – пятистенку под тесовой крышей неподалёку от церкви, как он узнал позднее, Ильи Пророка.
Комната Ивану Петровичу понравилась, хотя он и не планировал жить здесь долго: осмотреться, познакомиться с городом, куда его судьба-злодейка забросила, подыскать работу – желательно учительскую, потом купить дом, перевезти сюда семью и зажить спокойной семейной жизнью вдали от бурь и потрясений Москвы в пятистах верстах от этой новой столицы Советов, возвратившихся в древнюю русскую столицу.
Хозяйке дома было едва за шестьдесят, но выглядела она дряхлой от житейских невзгод. Было у неё два сына, которые погибли в гражданскую войну, и так сложилось, что старший, Иван, воевал на стороне белых, а младший, Дмитрий, – на стороне красных. Муж её был плотником, и сам поставил этот дом лет тридцать назад, но в девятнадцатом году умер от испанки – вот и осталась Галина Фёдоровна – так звали хозяйку дома, одна в своем семейном доме.
За сына красноармейца она получала небольшую пенсию от Советской власти, и сдавала комнату постояльцам, тем и жила, вернее, доживала свой век в одинокой старости и бедности: потому и одряхлела рано. Сыновья семьями обзавестись не успели, и даже внуков понянчить ей не довелось. От одиночества она стала набожной и каждый день ходила в церковь, что неподалёку, помолиться за упокой души своих сыновей и мужа, и, пошептать одними губами молитвенные слова, как бы пообщаться своею душою с их безмолвными душами.
Всё это Иван Петрович узнал позднее, а сейчас, осмотрев комнату и договорившись о цене, он поспешил на вокзал за оставленными там вещами, что привёз с собой: тёплая одежда на зиму, валенки, сапоги, бельё и несколько книг по истории России, которые он надеялся использовать, если удастся устроиться на учительскую работу.
Городок Вологда на полста тысяч жителей, располагался кучно, деревянными домами вокруг остатков Кремля по обоим берегам реки Вологды, и поэтому Иван Петрович за полчаса обернулся на вокзал, разобрал вещи и договорился с хозяйкой о пансионе: готовить еду сам он не любил, перекусывать в трактирах было накладно для ссыльного поселенца, а хозяйке – небольшой доход и привычное женское занятие у печи. Галина Федоровна с радостью согласилась кухарничать для постояльца и, получив задаток за жильё и провиант, поспешила на базар, прикупила продуктов и через пару часов Иван Петрович вместе с хозяйкой уже хлебал наваристые щи из свежей капусты со свининой.
За обедом он вкратце рассказал Галине Федоровне о своей судьбе, что забросила его в Вологду и о намерении учительствовать и купить дом, чтобы перевезти семью будущей весной. Хозяйка, хотя и дряхлая на вид, но с цепкой памятью, часто свойственной одиноко живущим людям, которые запоминают самые мелкие подробности своего однообразного существования, обещала разузнать: не продаются ли поблизости дома, а по учительству посоветовала обратиться в городскую комиссию народного образования, что была организована в Исполкоме города вместе с комитетом по ликвидации неграмотности. Война прекратилась, и Советская власть начала организовывать постоянные учреждения вместо временных комитетов и общественных организаций, работавших на энтузиазме и революционном порыве.
В отделе образования строгая женщина лет сорока в кожаной тужурке, увидев вошедшего Ивана Петровича в форме красного командира, но без знаков различия, приветливо спросила:
– Вы, товарищ, по какому делу пришли?
– Понимаете, я учитель, приехал в Вологду на жительство, и хотел бы снова учительствовать, – ответил Иван Петрович.
Женщина от образования проявила живой интерес к словам посетителя.
– Вы красный командир, бывший, и вдруг учительствовать надумали. Нельзя ли поподробнее?
– Можно и поподробнее, – ответил Иван Петрович, присаживаясь к столу и вкратце рассказал, что имеет высшее учительское образование, работал учителем до войны, потом воевал с немцами, был красным командиром, уволился из армии и теперь снова желает работать по своей профессии мирного времени, а именно: учительствовать.
Женщина наконец-то представилась посетителю, и, назвавшись Анфисой Сергеевной, попросила Ивана Петровича предъявить какие-нибудь документы, подтверждающие его слова. Он вынул из кармана шинели, которую надел в этот день ввиду прохладной и промозглой погоды, характерной для начала октября, тугой свиток со своими документами, перевязанный бечевой, и развязав его, стал выкладывать на столе перед Анфисой в кожанке дипломы и справки, подтверждающие его притязания на учительскую работу в школе.
Просмотрев бумаги, Анфиса Сергеевна удовлетворенно отложила их в сторону и почти дружески сказала:
– Бумаги у вас в полном порядке, а учителей с высшим учительским образованием у нас в Вологде почти не осталось: за семь лет войны было не до учителей: кто-то уже умер, кто-то, испугавшись большевиков, уехал в другие края, или даже сбежал за границу. И учительствуют здесь инженеры, строители и отставные красные командиры, так что ваше появление весьма кстати. Мы нынче хотели в школе второй ступени начать подготовку учителей начальных классов, библиотекарей и избачей для сельских изб-читален, но не нашли учителей, думаю, что вы вполне справитесь с этой задачей.
Вы сможете вести уроки общей подготовки учеников по педагогике, литературе и, возможно, истории, но вам придётся пройти самоподготовку, чтобы вписаться в нашу единую, трудовую советскую школу. Вы перестали учительствовать с 14-го года, прошло семь лет, власть теперь советская, а не царская и преподавание педагогики вам необходимо будет вести с позиций нашей Советской власти. Литературе и истории тоже учить с позиции победившего пролетариата, а не мещанского мировоззрения и буржуазного устройства общества.
Я доложу в исполкоме о вашей просьбе и думаю, через неделю нам удастся решить ваш вопрос. Дети – наше будущее, и мы не можем поручить их обучение человеку прошлой эпохи, хотя и образованному. У нас уже есть рекомендации из Москвы, как проводить уроки по общественным наукам в старших классах, я дам вам несколько книжек для ознакомления, и через неделю вы зайдите снова ко мне, и если согласны с этими рекомендациями, наверное, сможете приступить к урокам в одной из школ города.
Я сама-то не учительница, была комиссаром в пехотном батальоне, а до войны работала в типографии, но закончила шестиклассное городское училище. Потому-то меня партия и поставила сюда, поднимать образование в народе, ликвидировать неграмотность и проводить политику партии в школах, так сказать, прививать ученикам пролетарский дух, о котором в мещанской Вологде знают лишь понаслышке.
На этом, бывший учитель и бывшая комиссарша расстались до следующей встречи через неделю.
Свободную неделю Иван Петрович провёл в своей комнате, читая учебные пособия, данные ему комиссаршей, а также сходил в библиотеку, где почитал в газетах некоторые декреты Советской власти об образовании в Советской России.
Оказалось, что ещё в восемнадцатом году Советы организовали единую трудовую школу, куда вошли все учебные заведения, кроме университетов и институтов. В этой трудовой школе было две ступени образования: первая ступень включала пять лет обучения и давала начальное образование, а во второй ступени из четырех классов давалось среднее образование, подобное гимназическому в царской России. Все дети имели равные права на получение бесплатного образования на каждой ступени, но обязательному обучению дети не подлежали даже на первой ступени.
Преподавание истории в том виде, как привык Иван Петрович, было отменено, но взамен было введено революционное воспитание, где школьников нужно было обучить истории революций в России и объяснить роль партии большевиков в этих революциях. Предмет этот был неясен Ивану Петровичу, и он решил не связываться с историей партии, сосредоточившись на возможном преподавании основ педагогики, подготавливая учеников к работе учителями начальной школы сразу после окончания второй ступени единой трудовой школы.
С преподаванием русского языка и литературы тоже выявились большие затруднения: в октябре еще 18-го года вышел Декрет Советской власти «О введении новой орфографии», где говорилось, что:
«Для обеспечения широким массам усвоения новой грамоты и освобождения школы от непроизводительного труда при изучении правописания:
а) исключить ненужные буквы,
б) облегчить написание букв.
За основу нового алфавита и написания букв был взят проект комиссии министерства образования царской России от 1912 года, который был принят ещё Временным Правительством, но так и не дошёл до школ. Иван Петрович, как учитель, и сам осознавал необходимость упрощения алфавита, в котором одних букв со звуком «ф» было три штуки, две буквы читались как «и» и еще этот твердый знак в конце слов, что делало изучение правописания весьма сложным. Когда он служил у белых, то пользовался, как и все, старым алфавитом, потом, служа у красных, он перешёл на новый алфавит, и вполне успешно овладел новым правописанием, но преподавать это правописание едва ли решился бы.
Почитав книжки, что дала ему Анфиса Сергеевна, он окончательно понял, что изменился не только общественный строй в России, но и все основы человеческой жизни, в том числе и всё образование. В школе насаждался атеизм, историю и географию исключили из обучения, а остальные предметы должны были излагаться с позиций марксизма и его основы: учения о диктатуре пролетариата и материалистического устройства мира, в котором нет места Богу – его место занял человек труда, преимущественно физического.
– Ладно, – подумал Иван Петрович, полистав последнюю книжонку от Анфисы, – попрошусь стажироваться у кого-нибудь из учителей, что присоветуют в комиссии, почитаю ещё инструкции наркомата Народного Просвещения и, опираясь на свои знания и опыт, буду учительствовать по любой дисциплине нынешней трудовой школы, кроме физкультуры – так теперь называются уроки гимнастики, потому что прихрамываю на правую ногу.
Через неделю Иван Петрович снова пришёл в комиссию по народному просвещению, где получил известие от Анфисы Сергеевны, что его берут в школу второй ступени, находившуюся неподалёку от закрытой церкви и располагавшуюся в бывшем здании гимназии. Вологда осталась в стороне от войны с немцами, да и гражданская война едва задела город боком, и потому здесь не было разрушенных зданий, и советские учреждения располагались в тех же домах, что и при прежних властях, лишь сменив вывески.
Иван Петрович честно признался, что за годы войны отвык от учительства и хотел бы с пару недель походить на уроки к другим учителям, которые уже освоили новые требования к обучению, овладели программами обучения старшеклассников, и тогда, переняв их опыт, он надеялся снова стать хорошим учителем и не допустить ошибок при изложении дисциплин, даже орфографии, с марксистских позиций победившего пролетариата.
Он заметил, что новые власти любят громкие слова, и к месту и не к месту поминают марксизм, как раньше власть имущие поминали Господа и Закон Божий, живя, впрочем, не по божеским заповедям, а зачастую и совсем не по-христиански. Теперь Бога заменило учение Маркса, которого Иван Петрович читал ещё в юности, но ничего не понял, кроме того, что если одни люди работают на других, то это есть обман и несправедливость, которые марксизм грозился уничтожить, а большевики это сделали на практике в России.
Анфиса Сергеевна поддержала решение Ивана Петровича немного попрактиковаться у других учителей, и дала ему записку к директору школы, в которой сообщалось, что Домов будет работать там учителем старших классов после практики у других учителей, чтобы восполнить пробелы в учительстве за семь лет войны.
Иван Петрович пошел оформляться учителем в предписанную ему школу. Путь его лежал мимо храма Преображения Господня, который недавно закрыли по распоряжению исполкома Горсовета, а церковную утварь вывезли в Москву для распродажи за границу на зерно в помощь голодающим жителям Поволжья. Советская власть, используя стихийное бедствие – неурожай и голод, боролась с церковью, вернее, верхушкой церковной иерархии, не смирившейся с отстранением церкви от политической жизни страны и, соответственно об отделении церкви от денежных потоков.
Иван Петрович и сам относился к церкви неприязненно, считая все вероучения оплотом мракобесия и подавления человека, как личности, в угоду придуманному верховному существу, непонятного происхождения – Господу Богу, как бы он ни назывался: Иисус, Аллах, Будда или как-то ещё иначе.
В Бога верят слабые люди, не способные сами вершить свою судьбу и потому всю ответственность за своё безрадостное существование перекладывающие на Бога – мол «такова Божья воля». Особенно возмущало Ивана Петровича то, как знать, прикрываясь божьими именами, совершала самые страшные злодеяния против людей: своих и чужих, не страшась кары небесной, ибо её не существует, а от людской кары их прикрывала церковь, призывая к смирению и покорности неправедной власти и неправедному устройству человеческого общества.
Взаимоотношения Советской власти и церкви интересовали Ивана Петровича и как человека, и как учителя истории, знакомого с деяниями религий в разных странах и в разные исторические эпохи.
Из истории следовало, что религиозные распри уничтожили больше людей, чем войны за власть, причем религиозные войны более жестоки и беспощадны.
В войне за власть и богатства достаточно победить противника, а в религиозных войнах иноверцы и вероотступники подлежали уничтожению, потому религиозные войны и были более кровавыми.
Большевики, затеяв сотворение нового мира, руководствовались словами гимна «Интернационал»: «Весь мир насилья мы разрушим, до основанья, а затем, мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем!»
Мир насилия держался на власти и религии. Власть подавляла силой протесты угнетённых и униженных, а религия увещевала людей покориться власти и не роптать – на то, дескать, Воля Божья, ибо любая власть от Бога, а значит, и устройство жизни в человеческом обществе тоже от Бога.
Захватив власть, большевики освободили народы России от гнёта знати и капитала, а, отделив церковь от государственной власти, лишили церковников благополучной жизни за счёт общества, ибо религия стала частным делом каждого человека в меру его склонности к мистике или здравомыслию.
Декретом от января 1918 года Советы отделили церковь от государства и от школы, объявив всё церковное имущество национальным достоянием, и, не покушаясь на это достояние, передало его в безвозмездное пользование религиозных сообществ.
Но попы желали не только пользоваться имуществом, но и владеть и распоряжаться им, а потому начали с церковных амвонов хулить и проклинать Советскую власть, говоря, что это власть не от Бога, а от чёрта.
Двести лет назад, когда царь Пётр I – самодур и тиран, отбирал собственность у монастырей и церквей ради своих бесчисленных войн со Швецией, ликвидировав Патриаршество на Руси, провозгласив себя главой церкви и поставив своего управляющего церковными делами – обер-прокурора Святейшего Синода, но попы, кроме раскольников, не призывали к свержению царской власти.
Большевики разрешили восстановить патриаршество, и не препятствовали избранию патриархом Тихона, который тотчас предал большевиков анафеме. Попы организовали сопротивление Советской власти, принимали участие в вооруженной борьбе против Советов, хотя религия и запрещает брать оружие в руки. А кто с оружием в руках – тот враг, даже если и носит рясу. Если в гражданскую войну более половины царских офицеров перешло на сторону большевиков, видя в них защитников целостности России, то попы в массе своей были против Советской власти или держали злобный нейтралитет.
В бытность свою колчаковским офицером, Иван Петрович слышал, будто в белой армии есть воинские части, целиком состоящие из церковников: попов, дьяков, монахов и прочей братии, которые сражались с Красной армией, не жалея живота своего и отличались безмерной жестокостью к противнику по примеру своего Господа.
Помнится, читая Закон Божий, Иван Петрович всегда поражался жестокости наказания верующих и неверующих этим Богом: будь-то Иисус, Аллах и прочие божества: за сомнение – смерть, за ослушание – смерть, за грехи – смерть, просто садизм какой-то, а не религия христианская, мусульманская и прочие разновидности вероучений, единственная цель которых, не воспитание доброты и чести в человеке, а его подчинение догмам и религиозным заповедям, внушающим непротивление власти и покорное восприятие неправедного устройства благополучной жизни одних людей за счет обездоливания других.
Вот и сейчас, когда разразился жестокий голод в Центральном Поволжье из-за засухи, попы в проповедях убеждали людей, что это им наказание Господне за сатанинскую власть Советов.
Большевики, конечно, не оставили без внимания эти поповские призывы против Советской власти и начали закрывать церкви и арестовывать попов, которые наиболее рьяно выступали против Советов.
Но разорённая многолетней войной страна не могла ещё оказать необходимую помощь голодающим Поволжья, и поэтому власть Советов призвала граждан помочь, кто чем может, в том числе такое обращение было и к церкви православной и другим религиозным общинам.
В октябре месяце, когда Иван Петрович оформился учителем в Вологде, вышло постановление Совнаркома о сборе средств в помощь голодающим, но церковь проигнорировала этот призыв, ограничившись лишь сбором пожертвований с прихожан.
Позднее, в феврале следующего года ВЦИК выпускает Постановление: «Предложить местным Советам немедленно изъять из церковных имуществ, переданных в пользование группам верующих всех религий по описям и договорам, все драгоценные предметы из золота, серебра и камней, изъятие которых не может существенно затронуть интересы самого культа, и передать в органы народного комиссариата финансов со специальным назначением для фонда «Помощь голодающим Поволжья».
В ответ на это постановление ВЦИК, патриарх Тихон обратился к верующим с посланием, начинающимся словами:
«Среди тяжких бед и испытаний, обрушившихся на землю нашу за наши беззакония, величайшим и ужаснейшим является голод, захвативший обширные пространства с многомиллионным населением…» и далее, в своем послании патриарх Тихон говорит, что изымать в пользу голодающих можно лишь те церковные ценности, которые не освящены, но таких в церквях попросту нет, ибо всё освящается: и соборы, и их убранство, и церковные земли, и имущество попов, и любое пожертвование церкви любым человеком, тут же освящается во славу церкви.
Патриарх Тихон вещал: «Желая усилить возможную помощь вымирающему от голода населению Поволжья мы нашли возможным разрешить церковноприходским советам и общинам жертвовать на нужды голодающих драгоценные церковные украшения и предметы не имеющие богослужебного употребления… , однако ВЦИК для оказания помощи голодающим постановил изъять из храмов все драгоценные духовные вещи, в том числе священные сосуды и прочие богослужебные церковные предметы. С точки зрения Церкви подобный акт является актом святотатства…