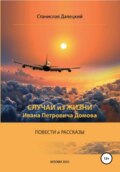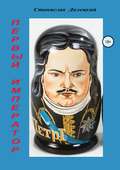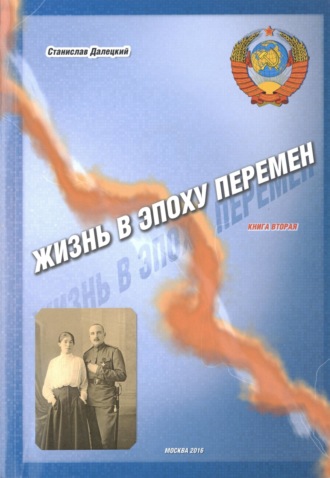
Станислав Владимирович Далецкий
Жизнь в эпоху перемен. Книга вторая
XXIX
В августе, вполне освоившись на новом месте жительства и совершив несколько выгодных сделок с антиквариатом, Иван Петрович отправился за семьёй к своему отцу в Белоруссию.
Старшие дети за лето вытянулись, загорели и носились целыми днями по селу или на речку, забегая в дом лишь за куском хлеба. Младший сын Рома начал уже переворачиваться на живот и пытался ползти, вглядываясь не моргающим взором в незнакомое лицо мужчины, склонившееся над ним. Жена Аня от деревенской жизни окрепла и похорошела и встретила своего мужа крепкими ночными объятиями, отдавая ему всю накопившуюся за лето женскую неудовлетворённую страсть.
Фрося без устали хлопотала по дому, обихаживая большую семью, а Пётр Фролович, как обычно, сидел на веранде, перечитывал старые, ещё дореволюционные газеты и гонял внуков с огорода, куда они наведывались за горохом, морковкой и другими овощами и ягодами, представляющими интерес для детских желудков.
Иван Петрович провёл с семьёй две недели, отдохнул сам душой и телом, затем собрал всё семейство и отправился в обратный путь, не поддавшись уговорам отца остаться здесь с семьёй и заняться учительством в сельской школе. Он, по-юношески, надеялся достичь успеха в столице, справедливо полагая, что подрастающим детям будет легче получить образование, проживая в Подмосковье, нежели приехать в столицу из глухого белорусского села.
Отец разочарованно вздохнул на отказ сына остаться жить в родных местах, сказав:
– Как знаешь, сынок. Надеюсь, что тебе не придётся горько сожалеть, что не послушал своего старого отца и уехал пытать счастья на чужбине. Ты уже седеть начал, а всё мечешься в надежде ухватить жар-птицу за хвост. В стране идут большие перемены и с твоей биографией лучше держаться подальше от столичной суеты и злобы, пока страсти не улягутся, но знай, что в отчем доме ты с семьёй всегда найдёшь пристанище и заботу, если плохо твои дела повернутся там, на чужбине.
Под это напутствие отца Иван Петрович и уехал с семьёй из родного дома искать счастья в Подмосковье.
Поначалу обстоятельства складывались по его задумке. Детей он устроил в школы, немного позанимался с ними в свободное время, чтобы они приступили к занятиям в новых для них школах с устойчивыми знаниями, дабы избежать издёвок одноклассников, которые по-детски бывают жестоки к новичкам, делая их предметом насмешек. За лето, общаясь со сверстниками в селе, дочери и сын Борис переняли от крестьян местный белорусский говор, разительно отличающийся от речи москвичей. Анна терпеливо отучала детей от местечкового выговора и, немного проучившись, дети вполне сносно освоили московское наречие, заслужив одобрение сверстников.
Устроив детей, Иван Петрович занялся торговыми делами, разъезжая по Подмосковью и окрестным областям в поисках редких вещиц и старинных икон, которые продолжали появляться на барахолках в воскресные торговые дни. Ему сопутствовал успех и дела пошли значительно лучше, чем в Вологде. Связи с московскими антикварами стали постоянны, и его, как знатока, частенько приглашали на консультации для оценки подлинности вещиц и икон и определения их художественной ценности.
Икон на барахолках продавалось множество, так как шла борьба с религией, церкви и монастыри продолжали закрываться, а церковное имущество частенько попадало в руки местных жителей и тащилось ими на продажу за бесценок.
Иван Петрович приноровился быстро, с одного взгляда определять ценность вещиц, и потом небрежно и как бы с неохотой и сомнениями приобретать действительно ценную вещицу почти даром.
Вскоре у него скопилась приличная коллекция вещиц, старинных поделок и икон, которые Иван Петрович разместил в углу спальни ввиду отсутствия кабинета. Антиквариат продавался медленно и трудно, и вещицы продолжали накапливаться, не давая ожидаемого дохода.
Однажды Иван Петрович обнаружил отсутствие двух икон и, проведя расследование, выяснил, что сын Борис утащил их в школу и там, во дворе школы, ученики кидали в эти иконы камнями, соревнуясь в меткости и, вдохновленные антирелигиозной пропагандой, что велась в школе.
Сын Борис за свой проступок был бит первый и единственный раз Иваном Петровичем офицерским ремнём, бережно хранившимся ещё с гражданской войны. Этот урок восьмилетний Борис усвоил твёрдо и больше к отцовским вещам не прикасался.
Течение семейной жизни на новом месте вошло в размеренное русло будничных забот и обязанностей, что вполне устраивало Ивана Петровича, привыкшего за годы учительства к жизни по распорядку занятий в школе.
Дети почти целый день посвящали школе и домашним заданиям, Анна хлопотала по хозяйству, стараясь накормить детей и следя за их внешним видом, а Иван Петрович дважды в неделю ездил по своим антикварным делам в Москву, зарабатывая на содержание семьи и возвращаясь в этот же день поздно вечером, а иногда и на следующий день, если дела требовали его присутствия в Москве.
Ночевать он останавливался у знакомых антикваров, иногда заглядывал и к хозяину дома Фёдору Ивановичу, если был без вещей, поскольку старый большевик продолжал относиться к торговым делам Ивана Петровича с неодобрением и всякий раз уговаривал учителя бросить торговлю и заняться учительством, на что всегда получал ответ, что к учительству Ивана Петровича не допускают ввиду происхождения из нетрудовых классов.
Учитель, в свою очередь, просил Фёдора Ивановича продать дом, чтобы семья имела постоянное жильё, а не съёмное, пусть и бесплатно.
Фёдор Иванович неизменно обещал заняться оформлением продажи дома, как только позволит его здоровье, которое, к сожалению Ивана Петровича, не улучшалось, а лишь слабело и слабело.
Год жизни в Подмосковье пролетел незаметно, и в мае Иван Петрович снова отвёз своё семейство на всё лето к отцу в село, чтобы дети и жена отдохнули от забот, пока он будет добывать средства на семью своими торговыми делами, которые шли не шатко, не валко, но обеспечивали безбедное существование всей семьи.
В августе семья Ивана Петровича самостоятельно и вполне благополучно вернулась из Белоруссии для продолжения своего существования в Подмосковье.
Иван Петрович продолжал свои торговые дела, несмотря на то, что частная торговля повсеместно запрещалась Советской властью и сохранялась лишь торговля предметами искусства, изделиями народных промыслов и крестьянской продукцией на базарах и ярмарках.
Прошло уже четырнадцать лет с Октябрьской революции, а Советская власть не рушилась вопреки ожиданиям внутренних и внешних врагов всяких мастей и оттенков, в том числе и в самой партии большевиков. Сопротивление врагов усиливалось, и вождь партии Сталин постоянно призывал к повышению бдительности и непримиримости к врагам, чем и занимался наркомат внутренних дел, находившийся под фактическим руководством Генриха Григорьевича Ягоды (Еноха Гершоновича Иегуды) в связи с болезнью руководителя НКВД – Менжинского.
В поисках врагов проводились облавы в городских кварталах, и проверка документов у приезжающих на вокзалах столицы. Под эти проверки неоднократно попадал и Иван Петрович, приезжая паровиком на Савёловский вокзал. Из документов у него по-прежнему была лишь справка лишенца прав вместо паспорта. Иногда, проверив справку, милиция отпускала его восвояси, а иногда наиболее ретивые милиционеры задерживали Ивана Петровича и препровождали в отделение милиции для выяснения обстоятельств лишения прав, что занимало несколько дней.
В этих случаях, жена Анна, не дождавшись мужа, на третий день ехала в Москву, находила Ивана Петровича в одном из ближайших к вокзалу отделении милиции и, предъявив свой паспорт, доказывала, что она жена задержанного и проживает с ним и с четырьмя детьми в Подмосковье. Этого оказывалось достаточно, и Ивана Петровича отпускали с миром, не предъявляя никаких обвинений с предупреждением, что постоянно находится в Москве он может не более трёх суток, что Иван Петрович всегда обещал соблюдать.
Освободив мужа, Анна уезжала домой вместе с ним или, получив от него деньги на содержание семьи, возвращалась домой одна, оставив Ивана Петровича завершать дела, которые ему помешала закончить милиция его арестом.
После ареста Иван Петрович обычно навещал хозяина дома Фёдора Ивановича, предлагая ему в очередной раз продать дом: тогда, имея собственное жильё в Подмосковье, Иван Петрович надеялся получить паспорт полноправного гражданина СССР, на что получал очередное заверение Фёдора Ивановича уладить дело с домом, как только наберётся сил. На том всё и заканчивалось до очередного ареста Ивана Петровича.
Конечно, прояви учитель настойчивость, и дело совершилось бы в его пользу, на такой настойчивости Иван Петрович не проявлял, полагая, что нехорошо надоедать человеку, который и так много сделал, разрешив проживать в его доме без всякой оплаты.
В подобных делах и торговых занятиях Ивана Петровича незаметно прошли осень и зима, наступила весна, и семья Ивана Петровича привычно уехала в Белоруссию к его отцу на всё лето.
XXX
Между тем в стране раскручивался маховик строительства социализма под жёстким управлением Сталина. Разгромив организованную оппозицию в партии большевиков, Сталин, являясь Генеральным секретарем этой партии и не занимая никаких государственных постов – как вождь, взял курс на ускоренное развитие промышленности и коллективизацию сельского хозяйства, справедливо полагая, что лишь имея сильную промышленность и развитое сельское хозяйство, страна социализма сможет устоять во враждебном капиталистическом окружении других стран.
Первый пятилетний план развития страны выполнялся досрочно. По всей стране строились заводы и фабрики, везде требовались рабочие руки и квалифицированные кадры, исчезла безработица в промышленности, рабочих не хватало, но в сельском хозяйстве был избыток крестьян, связанный с единоличным ведением крестьянских хозяйств.
Требовался стимул к перемещению крестьян из деревень в города и переход их на промышленные предприятия. Таким стимулом являлась коллективизация сельского хозяйства, оснащение колхозов машино -тракторной техникой, что позволяло высвободить лишних крестьян и заставить их переселиться в города.
Партией большевиков было принято решение ускорить коллективизацию сельского хозяйства, но добровольно и без нажима на крестьян.
Скрытые враги и партийные группы, желающие выслужиться, рьяно взялись за сплошную коллективизацию, не объясняя крестьянам преимуществ коллективного хозяйствования на земле и не дожидаясь массового поступления средств механизации, облегчающих крестьянский труд и высвобождающих лишних крестьян, которые добровольно могли бы переселяться в города, чтобы строить новые заводы и фабрики, и потом работать на них, обретая квалификацию.
Процессом коллективизации необходимо было руководить, а не принуждать крестьян к вступлению в колхозы без объяснения крестьянской выгоды. Сталин писал: «Искусство руководства есть серьёзное дело, нельзя отставать от движения, ибо отстать – значит оторваться от масс, но нельзя и забегать вперёд, ибо забежать вперёд – значит, потерять связь с массами. Кто хочет руководить движением и сохранить вместе с тем связи с миллионными массами, тот должен вести борьбу на два фронта – и против отстающих и против забегающих вперёд».
Несмотря на эти предупреждения, коллективизация в большинстве случаев проводилась с нажимом на крестьян и обобществлением скота и тягловой силы, которой являлись лошади и быки. Лошадей неохотно, но сдавали в общественный табун, а вот быков можно было зарезать на мясо, и этим мясом потчеваться, не сдавая быков в общественное стадо, что многие крестьяне и делали.
Наступила весна, в Украине и на Северном Кавказе пахать землю было нечем, ибо тяжёлые чернозёмы здесь пахали на быках, которых съели при коллективизации. По этой причине половина полей в этих краях оказалась незасеянной, лето выдалось засушливым, и к осени жители Украины, Кавказа и Поволжья, где прошла жестокая засуха, остались с урожаем сам-два, который пришлось сдать государству под нажимом местных руководителей, скрывающих от руководства страны неурожай и его причины, ибо в случае огласки, они наверняка остались бы без тёплых местечек, на которых пригрелись за прошедшие годы. В итоге в этих местах наступил голод, о котором вскоре узнало и руководство партии, но было уже поздно, и страна оказалась без запасов хлеба для городов, где голод грозил остановить дальнейшее развитие промышленности.
Сталин говорил: «Не подлежало сомнению, что при таком состоянии зернового хозяйства армия и города СССР должны были очутиться перед лицом хронического голода».
Развитие промышленности должно было обеспечить сельское хозяйство техникой и исключить повторение голода в будущем, и Сталин указал обеспечивать продовольствием города, надеясь, что крестьяне как-нибудь прокормятся на земле, что неоднократно происходило в царской России.
В городах ввели продовольственные карточки, все ресурсы продовольствия направлялись в промышленные центры, и голодающие края оставлялись без государственной поддержки продовольствием, как и в царские времена.
Нехватка продовольствия ощущалась и в Москве, что вызвало рост цен на рынках, но при наличии денег можно было купить всё, что угодно.
Иван Петрович приспособился посылать денежные переводы своей тёще Евдокии Платоновне в Сибирь, где не было нехватки продовольствия.
Тёща закупала продукты и отправляла их посылками семье Ивана Петровича, что служило серьёзным подспорьем для семьи.
В заботах о содержании семьи и пропитании детей прошли осень и зима, а весною, навестив Фёдора Ивановича в надежде выкупить дом, Иван Петрович узнал, что Фёдор Иванович уже три недели как умер от сердечного приступа, не успев оформить дарственную Ивану Петровичу на дом. В его московской квартире власти поселили новых жильцов, а дом перешёл в наследство его двоюродной сестре, о которой Иван Петрович ничего не слышал от Фёдора Ивановича, утверждавшего, что родственников у него не осталось.
Эта сестра вскоре посетила семейство Домовых и объявила, чтобы они убирались подобру-поздорову, иначе она выселит их с милицией.
Иван Петрович с трудом уговорил сварливую женщину погодить с выселением до окончания занятий в школе, намереваясь за этот месяц подыскать новое место жительства и проклиная себя за то, что не уговорил Фёдора Ивановича продать дом.
Опять приходилось начинать всё сначала. Знакомый антиквар посоветовал Ивану Петровичу перебраться с семьёй в городок Переславль-Залесский, откуда он был родом. Город этот стоит на берегу Плещеева озера, где одержимый царевич Пётр когда-то строил парусные ботики и обучал свои потешные полки, залившие потом кровью пол– России и ставшие императорской гвардией: Семёновским и Преображенским полками.
Иван Петрович поехал в этот городок, что был на пути в Вологду в полутораста верстах от Москвы. В этом городке Иван Петрович неоднократно бывал и раньше в бытность своего жительства в Вологде, покупая на барахолках иконы и церковную утварь, поскольку в Переяславль -Залесском было множество церквей и монастырей, часть из которых была закрыта в годы гражданской войны, а предметы религиозного обихода растаскивались жителями на продажу, пополняя, в том числе и антикварную торговлю Ивана Петровича.
Родственники антиквара посодействовали в поисках жилья, и вскоре отыскался заброшенный дом, вполне пригодный для проживания, а куда делись хозяева этого дома, доподлинно было неизвестно даже соседям. Поговаривали, что глава дома сгинул в гражданскую войну, а хозяйка с тремя детьми перебралась к родственникам в Москву, как только дети подросли и больше здесь не показывалась.
Иван Петрович всегда удивлялся, что в Москве люди ютятся в подвалах и мансардах семьями в комнатушках, а стоит отъехать от Москвы на сто вёрст, и множество домов пустует, ибо их обитатели сгинули в годы гражданской войны, а наследники так и не объявились. Вселяйся в дом и живи, пока соседи не заявили в милицию, и милиция не заинтересовалась, кто и почему здесь живёт и на какие средства, поскольку найти работу в небольшом городке весьма проблематично. Люди перебираются в большие города, где на стройках социализма не хватает рабочих рук, но не хватает и жилья, даже во временных бараках.
Подыскав жильё, Иван Петрович наведался в отделение милиции, чтобы справится, не будет ли у него проблем с законом, если он с семьёй поселится здесь, имея лишь справку лишенца прав.
Милицейский начальник повертел эту справку так и эдак, и выслушал объяснения Ивана Петровича насчёт семьи, что он хотел бы, осмотревшись, работать учителем, а жена его, имея учительское образование и участие в революционной деятельности, будучи семинаристкой, непременно станет учительствовать, лишь только подрастёт младший сын.
Объяснения эти вполне устроили начальника, и он разрешил регистрацию семьи в заброшенном доме, распорядившись завести домовую книгу на этот дом, тем более, что Иван Петрович подкрепил свою просьбу двумя пол – литрами водки и увесистым шмотком сала, присланным тёщей из далёкой Сибири.
Получив разрешение на жительство, Иван Петрович навестил ближних соседей, объяснил им, что будет здесь жить, и есть милицейское разрешение, чтобы не вызывать пересудов соседских и доносов на самовольный захват дома, на который кто-то из соседей мог иметь свои виды. Соседи беззлобно приняли эти объяснения, и Иван Петрович, разыскав плотников, с их помощью привёл дом в порядок, особенно тесовую крышу, которая за годы запустения местами прогнила и протекала в дожди.
Закончив с ремонтом, Иван Петрович отбыл за семьей, наказав ближнему хромому соседу по имени Павел присматривать за домом, чтобы кто не порушил его и обещая за присмотр бутылку водки, чему этот Павел был весьма рад, поскольку был сильно пьющим, объясняя пристрастие к выпивке своей инвалидностью, полученной несколько лет назад на заготовке леса: подпиленная им лесина упала в нерасчетную сторону и придавила ногу незадачливому лесорубу.
Городок этот до революции жил услугами для церквей, которых здесь было множество, работой на железной дороге и заготовками леса, который отгружался в Москву. Теперь церкви многие были закрыты, оставшиеся попы притихли при большевистской власти, и не вели обширное церковное хозяйство, а потому местные мужики сбивались в строительные артели и уезжали в Москву, наведываясь домой лишь по окончании очередного подряда, чтобы снабдить семью заработанными деньгами, отдохнуть, побаловаться с женой, построжить детей и снова уехать на заработки в столицу.
Примерно такой же образ жизни вёл и Иван Петрович на прежнем месте и намеревался продолжать эту деятельность, перебравшись в этот церковный городок подальше от Москвы.
Возвратившись домой в Подмосковье, Иван Петрович принялся за сборы к переезду, и лишь закончились занятия в школе, и дети успешно перешли в следующие классы, как вся семья тронулась в путь, перекочевывая в поисках благополучия на другое место жительства.
Умом Иван Петрович понимал, что надо остановиться, осесть на одном месте, вернуться к учительской профессии где-нибудь поодаль от Москвы, где его никто не будет укорять, как лишенца прав, и люди будут уважать в нём учителя, но торговое дело уже захватило его своей доступностью и призрачной возможностью жить обеспеченно в разоренной и отсталой стране, напрягающей силы, чтобы возвыситься и обеспечить лучшую жизнь всем в недалёком будущем, о чём неустанно писали большевистские газеты.
Но бывшему учителю грезилось благополучие семьи сейчас, а не в призрачном будущем, и потому он решил продолжать антикварное торговое дело, пока позволяют власть и обстоятельства.
Перебравшись на новое место жительства, семья стала приживаться в незнакомом городке, и потому дети не поехали вместе с матерью к деду – Петру Фроловичу, который занемог и письмом просил сына приехать попрощаться, чувствуя стариковской прозорливостью свою скорую кончину.
Иван Петрович отписался отцу, что не сможет с семьёй приехать этим летом: надо обживаться на новом месте, да и материально он не в состоянии обеспечить это путешествие, но в помощь отцу высылает двести рублей, что и было сделано.
XXXI
Летние дни пролетали незаметно в домашних хлопотах и поездках Ивана Петровича в Москву по антикварным делам, а в августе он получил письмо из родного села, писанное незнакомым ему почерком, в котором со слов Фроси сообщалось о кончине Петра Фроловича, случившейся за неделю до написания письма.
Известие это заставило Ивана Петровича пригорюниться: несмотря на преклонный возраст, а в прошлом году отцу исполнилось девяносто лет, он по-сыновьи считал отца молодым и вечным, и вот его не стало, и этот уголок в его душе опустел навсегда.
В прошлом году отец сообщил ему о смерти старшего брата Иосифа, случившейся в Ленинграде от злой болезни, как известил об этом старший сын Иосифа – Александр, которого Иван помнил ещё подростком, когда приезжал вместе с Надеждой погостить у брата в Петербурге.
Другой брат – Станислав – бесследно сгинул из Москвы после гражданской войны. Иван Петрович пытался разыскать следы брата, но безуспешно. Помнится, что брат этот преподавал курс физики в московской гимназии, но Иван не виделся с ним с раннего детства и не помнил его вовсе. Однажды, будучи в Москве, Иван Петрович пробовал отыскать брата Станислава по адресу жительства, который ему сообщил отец – Пётр Фролович.
Дверь квартиры по указанному адресу открыла незнакомая женщина, которая сообщила, что ничего не знает ни о каком Станиславе Домове, а проживает она с семьёй в этой квартире с 23-го года, и здесь живут ещё три семьи, занимая по комнате.
Соседи из ближних квартир тоже ничего не слышали о Станиславе, только одна древняя старушка, занимавшая комнату в соседней квартире, где проживала до революции вместе с мужем, занимая всю квартиру, припомнила Станислава, но о судьбе его, жены и двоих детей тоже ничего не знала, поскольку выезжала из Москвы в смутные годы, а когда вернулась, то соседей уже и след простыл, и ей приходится ютится в комнатке в собственной же квартире, отдав остальные комнаты новым поселенцам из рабочих – так распорядилась Советская власть.
Ивану Петровичу мучительно захотелось посетить могилу отца, понимая, что если он не сделает этого сейчас, то вряд ли когда сможет сделать это в будущем. Жена Аня поддержала такое намерение мужа, и уже следующим утром Иван Петрович выехал поездом в родное село.
Вечером второго дня с отъезда, Иван Петрович соскочил с повозки, что доставила его в родное село. Во дворе усадьбы его встретила старая женщина, в которой он с трудом узнал Фросю – верную подругу жизни Петра Фроловича, с которой он прожил более сорока лет, пока не переселился на сельский погост.
– А, Ванечка, приехал, – сказала женщина, расплакалась и добавила, – Пётр-то Фролович, всё ждал и ждал сыночка младшего, но не дождался и умер, тихо, во сне. Я утром заглянула в его комнату, а он уже холодный лежит – видно ночью и помер. Хворал, конечно, по старости, но не шибко, и чтобы умереть, даже и в мыслях моих не было.
Одни мы, Ванечка, остались на белом свете: осиротели без Петра Фроловича. Ты ещё не знаешь, но сестра-то твоя, Лидия, через неделю после отца тоже померла, как и мать твоя, от чахотки. Выходит, что ты, Ваня, остался теперь старшим в роду Домовых: я же не в счет твоих родичей.
Как, однако, быстро жизнь прошла, будто вчера ты бегал по двору мальчонкой, я хлопотала у летней плиты, а Пётр Фролович читал газету на веранде, и вот жизнь наша утекла словно песок сквозь пальцы.
– Ладно, что это я гостя расстраиваю бабьими слезами и воспоминаниями, – встрепенулась Фрося, – ты с дороги, небось, проголодался. Иди, раздевайся, будем ужинать, а завтра пойдем навестить Петра Фроловича, мамашу твою и сестру Лидию, царство им небесное, – закончила женщина, вытерла старушечьи слезы и принялась хлопотать у самовара для вечернего чаепития, ибо угостить гостя с дороги у неё было нечем по бедности: что было припасов, пошли на поминки, и старая женщина осталась без припасов, продуктов и без средств существования, и не представляла себе, как она будет жить дальше без Петра Фроловича.
До этого они жили по-стариковски скромно на те средства, что присылал Иван Петрович, посильную помощь оказывала Лидия, и с огорода, а теперь остался лишь огород, обещавший хороший урожай картошки и овощей.
Иван Петрович прихватил из районного городка хлеба и сала, что купил на базаре – тем они и поужинали, запивая пустым чаем.
– Плохо совсем стало с провиантом, как говорил Пётр Фролович, – пожаловалась Фрося. – Сахару нет уже который год, поэтому варенья не варю, а ягоды сушу, потом размачиваю и получается сладкая жижица, нам, старикам, в утешение. Дров не успели запасти на зиму, может племянницы мои из села помогут старухе запастись дровами.
– Ничего, Фрося, я дам денег, а за деньги тебе и чужие мужики дров подвезут, сколько надо. И провиантом, тоже за деньги, запасёшься, зиму перезимуешь, а дальше видно будет. Я перед отъездом сюда одну вещицу хорошо продал иностранцу, так что и моей семье хватит денег до весны и тебе подмогу немного. Не брошу в беде подругу отца, – заверил Иван Петрович женщину и пошёл спать, устав с дороги.
На следующий день он с утра пошёл с Фросей навестить отца в его последнем пристанище. День выдался тихим, тёплым и солнечным, каким бывают последние дни лета. Обойдя церковь, которая оказалась наглухо закрытой по приказу властей, они прошли на погост и остановились у двух холмиков свежей земли, рядом с заросшей бурьяном могилой матери.
– Вот здесь и упокоился наш Пётр Фролович, рядом с вашей матушкой, слева от неё, как и просил. А рядом с ними и сестра ваша, Лидия, обрела покой, – пояснила Фрося, указывая на свежие могильные холмики, с новыми крестами без подписей, чему постоянно удивлялся Иван Петрович при каждом своём посещении этого сельского кладбища.
Постояв и помолчав несколько минут, Иван Петрович достал химический карандаш, что прихватил в дорогу, сорвал лист лопуха, плюнул в него и, смачивая карандаш в слюне, начал выводить надпись на отцовском кресте «Домов Пётр Фролович» и годы жизни: 1842-1933. Потом он подошел к могиле сестры и обозначил её присутствие на этом погосте, затем вырвал бурьян на могиле матери и вывел надпись на её кресте. Закончив дело, он удовлетворённо сказал:
– Ну вот, теперь известно, кто и где здесь лежит. Может когда мои дети навестят эти места и поклонятся могилам бабушки и деда, который ещё прошлым летом играл с ними на веранде в шашки, а младшего Ромочку качал на руках. А без подписей попробуй отыскать на погосте эти могилы. Вон как кладбище разрослось здесь за минувшие годы: на селе людей прибавилось, вот и здесь тоже.
Мне отец говорил, что надписи на крестах мол ни к чему: и так известно, кто и где лежит, но это верно лишь для живущих здесь, а уже мои дети ни за что не отыщут эти могилки, поскольку никогда здесь не были. Когда вырастут и захотят навестить эти места, я и подскажу им, как отыскать дедов по этим надписям. Жаль отец ничего не сказал мне о соседних крестах: кто и когда там захоронен из наших прадедов, а я не расспрашивал об этом. Всё недосуг было, а теперь и сказать некому.
Пока он занимался надписями, Фрося присела рядом с могилой Петра Фроловича и, закрыв глаза, медленно раскачиваясь, что-то тихо пришёптывала, а что, и не разобрать. Когда Иван Петрович закончил работу, Фрося встала с просветленным лицом и тихо сказала:
– Слышала я голос Петра Фроловича, звал он меня к себе и сказал, что есть место мне рядом с ним, и матушка Ваша не возражает. Я обещалась Петру Фроловичу не задерживаться на этом свете, где для меня не осталось ничего хорошего и в скорости присоединиться к нему – если Бог даст.
– Пойдём, Ванечка, домой, я приготовлю борща на обед, и ты расскажешь мне, как живёшь, как детки подросли с прошлого года, когда гостили здесь у деда, а я потом передам твои слова Петру Фроловичу, когда встречусь с ним на том свете.
Иван Петрович не стал разубеждать женщину насчёт того света и загробной жизни, и они медленно пошли сельской улицей, здороваясь со всеми встречными, что встречались им по пути: такова сельская традиция здороваться на селе со всеми, даже и вовсе незнакомыми людьми.
Как всегда, ради приезда гостя, Фрося зарубила курицу, и к обеду приготовила изумительный борщ с куриными потрошками, курицу, запечённую с картошкой и компот из свежих яблок и крыжовника с усадебного сада-огорода.
За обедом Иван Петрович рассказал Фросе о событиях в своей семейной жизни, а Фрося поделилась воспоминаниями из своей жизни с Петром Фроловичем и сельскими новостями.
Колхозная жизнь постепенно налаживалась, землю уже пахали тракторами, колхозникам разрешили держать коров во дворах и домашнюю живность при условии отработки членами семьи обязательных трудодней в колхозе. Правда, почти всё зерно приходится сдавать государству, потому что в некоторых местах, по слухам, люди голодают и даже мрут целыми семьями, но даст Бог, всё уладится, и сельчане будут жить лучше прежнего, когда и сами частенько голодали при царях.
Иван Петрович подтвердил, что действительно во многих местах из-за засухи и нерадивости властей людям приходится голодать и в некоторых южных губерниях или по-новому – областях люди мрут, и дело доходит до людоедства, но в газетах об этом не пишут, и поэтому определить, как живут люди при социализме пока неясно: лучше или хуже, чем при царях.
Мне один иностранец, которому я несколько икон продал, говорил, что в далёкой Америке тоже много людей от голода померло: но там голод случился при изобилии еды: крестьян – единоличников, по-ихнему фермеров, сгоняли с земли, чтобы организовать крупные хозяйства, наподобие помещичьих и эти фермеры и безработные мёрли, как осенние мухи, от голода при изобилии еды в Америке. У нас в стране люди мрут с голода от неурожая, а там мрут с голода при полных закромах, но результат один – гибель простых людей, и какая разница этим людям, помереть с голода при социализме или помереть при капитализме?
– Отец, конечно, при большевиках стал жить много хуже, чем при царях: пенсию офицерскую ему перестали платить, а взамен ничего не дали, несмотря на преклонный возраст, – заметил Иван Петрович. – Старик же не виноват, что служил Родине при царях, но его лишили пенсии как служителя царскому режиму, – возразил Иван Петрович на слова Фроси о нынешней жизни крестьян на селе.
– А вы, Фрося, подайте заявление в сельсовет, что живёте одна, и в возрасте за шестьдесят лет, может власть и назначит вам какую-то пенсию или от колхоза будет помощь, хотя бы дровами на зиму. Моя тёща в Сибири получает пенсию за мужа, который был в молодости революционером, может и одиноким старым женщинам тоже положено пособие, чем чёрт не шутит, – посоветовал Иван Петрович.