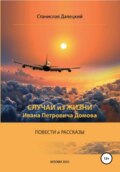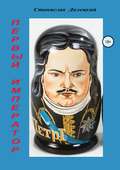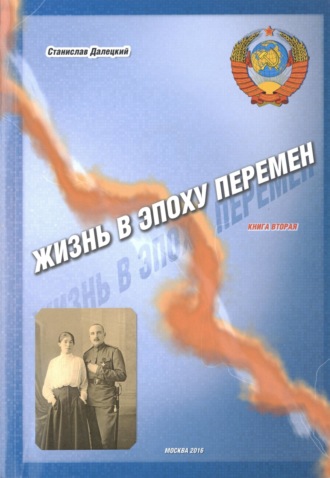
Станислав Владимирович Далецкий
Жизнь в эпоху перемен. Книга вторая
Лагеря, концентрационные, придумали англичане во время англо – бурской войны в Южной Африке. Буры эти были голландцами и их всех с семьями англичане свозили в лагеря и там бросали взаперти за колючкой: без еды и воды мало кто выживал.
У нас, в России, лагеря появились при Временном правительстве, которое не хуже большевиков, расстреливало несогласных, организовало продотряды отнимающие хлеб у крестьян, а тех, кто сопротивлялся, отправляло в лагеря. Как мне известно, первый такой лагерь временные организовали на Соловецких островах в монастыре и ссылали в этот лагерь всех кто за Советскую власть и кого не успели расстрелять. Потом этим лагерем пользовались опять-таки англичане, которые захватили Архангельск. Сейчас, как мне известно, от зэков, там, на Соловках тоже лагерь, но уже для уголовников и тех, кто против Советской власти.
– Лучше в лагере жить, чем в земле гнить, – ответил Миронов в рифму. Вот если бы прибор, какой придумали, наподобие радио: послушать человека и сразу определить: враг он тебе или нет. Тогда бы и мы с тобой Иван Петрович в лагере не маялись, а вместо нас здесь сидели бы наши доносчики, которые клеветой на людей подрывают доверие к Советской власти.
И что-то я не слышал, чтобы цари и помещики мечтали о коротком рабочем дне для простых людей и об их образовании, а вот товарищ Сталин открыто сказал о своей мечте, потому люди за ним и тянутся.
– Как хочешь Миронов, только в сталинские мечты не поверю, пока на свободу не выйду и лично не удостоверюсь, что людей невиновных перестали сажать в лагеря.
– Чудак – человек, – возразил Миронов, кто тебе признается, что он враг власти. Спроси любого у нас в бараке и каждый скажет, что он невиновен и сидит здесь ни за что, ни про что. Даже тот убийца, что в дальнем углу живёт, и тот говорит, что убиенный им сам кинулся на его нож, а ограбил он убитого уже по привычке.
Да и мы, если хорошо разобраться, тоже виновны, что попали в лагерь. Я сболтнул лишнего при свидетелях вот и попал под донос, а ты, Иван Петрович служил офицером у белых, по согласию своему, – вот и приходится отвечать. А отказался от этой службы, посидел бы у белых в тюрьмах и вышел на свободу при большевиках – никто бы на тебя доносы писать не стал, – закончил свои рассуждения Миронов под завывания вьюги.
– Сермяжная твоя правда в этом есть, конечно, но пойди, разберись в те времена гражданской войны, кто прав и к кому примкнуть. Я хотел было остаться в стороне от этих революций и переворотов, но мне такой возможности не дали ни белые, ни красные: каждый тянул на свою сторону, так я и болтался, как дерьмо в проруби: то у белых, то у красных.
И у тех сидел в тюрьме, и у этих теперь сижу в лагере, а мне одного надо: чтобы все отстали от меня и дали дожить спокойно остаток жизни, вырастить детей, понянчить внуков и успокоиться на сельском погосте навсегда. Я готов дать любые клятвы и обещания любой власти, что не буду им врагом, но не верят сейчас клятвам и обещаниям, а верят доносам и фактам биографии.
– Ваша братия, офицеры и дворяне, приучили большевиков не верить клятвам, – возразил Миронов. На курсах политграмотности в рабфаке, где я учился, агитатор говорил, что в Октябрьскую революцию 17-го года в Питере большевики взяли власть без единого выстрела.
Посадили Временное правительство в крепость Петропавловскую, а через неделю всех министров выпустили вместе с другими генералами и офицерами: под честное слово, что они не будут воевать против Советской власти. Ну и где оказались эти их клятвы и обещания? Деникин, Краснов и Корнилов убежали на Дон и организовали там восстание, против Советской власти, с чего и началась гражданская война.
Ваш Колчак в Сибирь, вообще приехал из Америки и вместе с чехами, японцами и прочими оккупантами зверствовал здесь в Сибири, уничтожая большевиков и сочувствующих им и совсем невиновных, как ты, Иван Петрович. Скажи честно, если бы ты не согласился служить у Колчака, тебя бы расстреляли, наверное?
– Вполне возможно, – отвечал Иван Петрович, вспоминая свое полугодовое пребывание в Омской тюрьме, – Сначала посидел бы в тюрьме, а при отступлении белых всех зэков расстреляли, наверно и меня бы тоже.
– Ну вот, у белых не было ни чести, ни совести, царь мерзавец, а ты большевиков хаешь за лагеря. Ваши аристократы и прочие враги простого народа зверствовали в гражданскую войну, куда хлеще большевиков: не щадили ни старого, ни малого, всё уничтожали.
Правда у нас, на Дону и Кубани, красные тоже никого не щадили, потому что Свердлов и Троцкий – оба из евреев, объявили всех казаков врагами, хотя конная армия Буденного была сплошь из казаков за Советскую власть. Но как говорил, товарищ Сталин: лес рубят – щепки летят. Мы с тобой, Иван Петрович, и оказались этими щепками, и я считаю, что по своей вине наказаны мы по справедливости нашего времени, когда все капиталисты против нашей страны ополчились, а внутри страны врагов тоже хватает с избытком.
Погоди, пройдет лет двадцать, построят большевики сильную страну, будут люди хорошо жить, власть смягчится, и сажать политических будут не за слова неосторожные или прошлые дела до революции, а за реальные поступки, как сейчас осуждают уголовников. Все будут равны перед законом, независимо от происхождения. Я так думаю. А теперь поспать немного под вой метели и пускай приснится мне учительница – Надежда, с которой я женихаться начал, но не успел и загремел в лагеря, – закончил Миронов их беседу и вскоре засопел ровным дыханием спящего человека.
Иван Петрович подумал над словами Миронова, и получалось, что простой мужик, выучившийся на учителя, понимает дела в стране и своё наказание за неосторожное слово, лучше, чем он: потомственный дворянин с высшим образованием. – Наверное, правильно эти большевики сделали, что отменили все сословия и привилегии: все люди, по их представлениям, равны и пусть каждый добивается успехов в жизни благодаря своему уму, знаниям и умению, а не по заслугам предков или наследному достоянию.
Правильно говорил их вождь Ленин, что кухаркины дети смогут управлять государством, только овладев знаниями – вот и Миронов уже начал разбираться в государственном устройстве. Тут котёнок подлез ему под руку, запел свою песню, и Иван Петрович забылся дневным сном.
XII
Зима прошла в работах по строительству нового лагеря и валке лесов для строительства лагеря, для лесопилок и шпалопропиточного завода в Свободном.
В марте днями уже пригревало солнце, снег с южной стороны бараков почернел и стал ноздреватым, с крыши бараков спустились сосульки, которые на солнце слезились капелью, обещая скорое наступление настоящей весны. Зэки приободрились, пережив зиму, и работали усердно, чтобы выполнить норму и заслужить полный паек и очки для досрочного освобождения. Такие очки придумало руководство лагерей за хорошую работу, что в будущем давало основания для досрочного освобождения зэков, не представлявших социальной опасности по совершенным ими деяниям.
За зиму в их бараке умерло трое зэков: двое простудились, на лесопилке, заболели воспалением легких и скончались в горячке, от которой не было лекарств. Ещё один зэк, возраста Ивана Петровича, надорвался при валке леса: у него хлынула горлом кровь, и он мгновенно умер, как говорили, от разрыва сердца.
Иван Петрович, в самом конце февраля тоже пострадал: он не осторожно подвернул ногу, больное колено распухло, и колупаться в снегах, обрубая ветки спиленных деревьев ему было трудно.
Воспитатель Гладышева перевела его временно истопником в барак, где нужно было поддерживать огонь в печах-буржуйках, вовремя подбрасывая поленья, из кучи дров, лежавших у стены барака. Эти дрова подвозили на санках другие зэки, занятые лагерными работами, а также приносили обитатели бараков: возвращаясь с деляны, каждый прихватывал по полену, которое бросалось в кучу, ожидая своей очереди на сжигание в печи.
Работа истопником была по силам, больная нога не утруждалась ходьбой и через пару недель, Иван Петрович возвратился на лесосеку, уступив место истопника очередному приболевшему зэку из их барака. Место истопника давало возможность отдохнуть и восстановить силы слабым или приболевшим зэкам.
В середине марта подули южные тёплые ветра, яркое солнце слепило и грело, снег быстро осел, потемнел, образовались проталины земли на опушках, а около деревьев в проталинах появились первые подснежники. Весна пришла по настоящему, земля сверху оттаяла и зэки, не ожидая ее полной разморозки, снова принялась корчевать пни на местах будущей станции ж/д и на территории лагеря, где стояли уже несколько бараков подведенных под крышу, но с пустыми проёмами окон и дверей. По окончании строительства, всю 4-ю колонну должны были переселить сюда, ближе к месту работы.
В середине апреля, когда снег на полянах сошел окончательно, а в лесу оставался лежать в тёмном ельнике отдельными пятнами, случился побег из колонны трех зэков – уголовников. На что, они рассчитывали, сказать трудно, может просто поддались весеннему чувству к перемене мест, но через пару дней их поймали на полустанке, где они пытались подсесть в поезд, идущий в этом месте медленно из-за подмытых весенним половодьем путей.
Всем известно было, что в таких местах охрана поездов, следующая с каждым составом, особенно бдительна, а на станциях и полустанках у всех отъезжающих проверяют документы и выбраться из этих мест по единственной ветке железной дороги невозможно, а подишь-ты, беглецы рискнули бежать с деляны прямо в лагерной одежде.
Беглецов отправили в ИЗО, колонну наказали половинным снижением пайка на целый месяц, так что пришлось покупать продукты в лагерном магазине, чтобы не отощать. Благо деньги водились почти у всех, за исключением проигравшихся в карты, поддавшись на уговоры лагерных шулеров. Такие игры постоянно велись в выходной день, но Иван Петрович и Миронов никогда не принимали в них участия.
В мае наступила жара, и сразу же появился таёжный гнус: смесь мошкары, комаров, слепней и еще каких-то кровопийц – насекомых, от которых не было никакого спасения, ни на работе, ни в бараке. Мошкара забивалась под одежду в укромные места и в кровь искусывала тело, дырявя кожу долго не заживающими саднящими ранками. Местный зэк – охотник, говорил что если оставить голого человека привязанным к дереву, то за один день гнус высосет из него всю кровь , так что останется только мумия.
Спасение от гнуса нашлось на шпалопропиточном заводе, где начали применять новый состав для пропитки шпал от гниения – креозот. Запаха этого креозота гнус не терпел, и все зэки начали мазать открытые места на лице и руках и слегка сбрызгивали креозотом на одежду, чтобы отпугивать гнус. Это помогло: хотя кожа опухала и шелушилась, но все же лучше, чем гнус.
Иван Петрович навестил отдел по колонизации, чтобы справиться о своем деле. Документы от жены Анны на согласие по колонизации пришли, но лагерное начальство распорядилось временно приостановить рассмотрение дел до прибытия новых партий заключенных взамен освобождаемых на колонизацию. Кроме того, колонист должен был сам подыскать себе место жительства и подходящую работу и получить согласие местных властей на проживание, что из лагеря сделать было весьма трудно.
Иван Петрович написал об этом жене, и та начала писать письма во все поселки Амурской области, какие только смогла отыскать на карте, с предложением работать у них учителями вместе с мужем бывшим заключенным, но ответа пока не поступило ни одного.
Отстроенный лагерь заселили почему-то вновь прибывшими заключенными, которые стали работать на лесоповале, а 4-я колонна занялась, наконец, строительством вторых путей Транссиба. Кое-где такие пути уже были построены, и требовалось соединить эти куски в единый путь, чтобы на всем протяжении могли ходить поезда в обоих направлениях, без отстоя на разъездах, пропуская встречный поезд.
Основная часть колонны работала на отсыпке полотна. Грунт для отсыпки брали в местном карьере, куда проложили узкоколейку и вагонетками, вручную подвозили грунт к железке и подсыпали его к действующей насыпи, отходя в сторону, когда мимо мчался состав с пыхтящим паровозом во главе, о приближении которого предупреждали сигнальщики на обоих концах строящегося участка пути.
После отсыпки участка полотна, его уминал гусеничный трактор, приданный в помощь строителям, сверху укладывалась щебенка, на которую укладывались шпалы. На шпалы заносились рельсы, прибивались к шпалам, заезжал маневровый паровоз с гружеными вагонами, путь оседал под их тяжестью и тогда зэки вновь подсыпали грунт до подъема нового пути на уровень действующей колеи.
Работа была, конечно, тяжелая, но с частыми перерывами на пропуск поездов, а потому и норма выработки всегда ставилась от выполненного объема, что обеспечивало приличное питание по пайку для успешно работающих.
В июне, Иван Петрович как-то отпросился от работы у воспитателя на прием к фельдшеру, жалуясь на больную ногу, колено которой всё в шрамах от операций после давнего ранения, опять распухло и покраснело.
Фельдшер осмотрел колено, дал какой-то мази и посоветовал впредь туго бинтовать колено перед работой, ходить только прямо и постараться меньше приседать.
Советы были дельные, но глупые для зэка: работать приходилось, там, где заставляли, а уж надо будет приседать или нет – как потребуется. Ещё фельдшер дал кусок холста для бинтования ноги и показал, как надо делать повязку.
Иван Петрович поблагодарил, и пошел было назад в барак, принять участие в уборке помещения, как заболевший, но передумал и направился в парикмахерскую, где ему подстригли голову по опушкам лысины и побрили бороду, которую он отрастил за зиму, для защиты от мороза и, как оказалось, от гнуса борода тоже помогала. Стрижка и бритье обошлись ему в 5 рублей, поскольку парикмахер был из вольнонаемных и услуга платная.
После парикмахерской он зашел в отдел колонизации, где снова посоветовали ждать решения сверху, а ещё лучше, чтобы он сам написал в Москву в НКВД: он не враг народу, и ему должны пойти на– встречу.
Вернувшись в барак, Иван Петрович принялся писать письма в НКВД, Калинину, который был тогда руководителем Советов и ещё он написал знакомому большевику – Гиммеру, который хотя и был уже на персональной пенсии, но имел влиятельных знакомых и вполне мог бы помочь в деле колонизации.
Пока Иван Петрович писал письма, котёнок, который незаметно превратился во вполне взрослого кота, тёрся об его ноги, выпрашивая подачку. Иван Петрович недавно получил очередную посылку от тёщи и там оставался еще кусочек соленого сала. Он отрезал кусочек и бросил его коту. Тот понюхал, попробовал, недовольно морщась, съел солонину и пошел вон из барака в поисках пропитания. Он уже вполне обучился охоте на мышей и удачно их ловил в куче мусора у барака, куда зэки иногда, выбрасывали остатки каши, привлекательные для серых грызунов.
Фаланга вернулась с работы засветло, зэки поужинали, вечерняя заря дожидалась прихода утренней зари, в эти длинные, летние дни и Иван Петрович с Мироновым присели на бревно у входа в барак, отдыхая от труда и забот тихим и теплым, летним вечером.
– Жаль Иван Петрович, что ничего у тебя не получается с колонизацией, – продолжил разговор Миронов, который был уже в курсе неудачного похода напарника в отдел по колонизации.
– Глядишь и я за тобой вслед подался бы в колонисты – учителя, хотя вряд ли мне уже придется работать учителем: моя судимость – антисоветская, а таким работать учителями нельзя. Опять мы с тобой в разных сословиях находимся: прежде ты был дворянин, а я крестьянин – казак, теперь ты уголовник, а я политический. Хорошо, что большевики сословия отменили, как ты думаешь, Иван Петрович, правильно они это сделали?
– Конечно, правильно, не должно быть никаких сословий. Все люди рождаются равными: маленькими и голыми, но сразу начинается их разделение в зависимости из какой семьи, кто происходит, и какое обеспечение эта семья может дать ребёнку.
А дальше пошло-поехало: один – дворянин, ему, как было и мне, кое-какие привилегии, а другой – крестьянин, тому одни обязанности да повинности положены и никаких прав. Тоже было и с рабочими, бесправными при царе. Сейчас при большевиках, рабочие стали правящим классом по марксисткой теории. Опять из грязи в князи, что, по-моему, тоже перегиб, но в другую сторону.
Все люди должны иметь равные права и, главное, равные возможности пользоваться этими правами. Что толку иметь право учиться, но не иметь средств платить за эту учебу? Привилегий не должно быть ни у кого: ни у дворян – бывших, ни у рабочих – настоящих.
Большевики неправильно разделили людей на классы и дают привилегии рабочим. Надо людей делить по способностям и порядочности: рабочий тоже может быть подлецом, а дворянин – порядочным: например декабристы все были дворянами и вождь большевиков – Ленин, тоже был дворянином.
А главное зло, по-моему, не в привилегиях сословий и классов, а в наследовании собственности от отцов к детям и далее. Дети помещиков наследовали поместья вместе с крепостными крестьянами, а когда крепостное право отменили, то эти крестьяне стали арендовать земли у помещиков, отдавая взамен часть урожая.
Крестьяне работали, а наследнички жили в свое удовольствие. Тоже самое с наследниками фабрикантов, банкиров, купцов и прочих, кому родители передают своё имущество и капитал по наследству.
Человек сам ничего не сделал полезного, ничего не умеет и никогда не работал, а получил наследство и пожалуйста, живи в свое удовольствие, пока наследство не промотаешь.
Моему отцу от деда достался только дом с усадьбой, а землю дед продал местечковому еврею, имевшему в селе трактир и магазин. Дед рассчитался с долгами, а отец поступил на военную службу в офицеры, дослужился до капитана артиллерии и, выйдя в отставку, жил в дедовском доме на пенсию и ещё работал учителем.
Потому я и говорю, что наследование имущества и капитала это главное зло человечества. Животные не наследуют от родителей ничего, кроме инстинктов и потому в животном мире властвует животная справедливость: родители, как умеют, выращивают потомство, а это потомство дальше само заботится о себе наравне с другими.
Кто-то из людей, в прошлом, обманом, силой или умением и сноровкой стал владельцем имущества и капитала, пусть даже по заслугам, но причём здесь его наследники, которые ничего не сделали и ничего не умеют? Почему они, бездельничая, могут жить благополучно на наследство, а более достойные люди добывают трудом средства к существованию? Именно в наследовании привилегий, имущества и капиталов изначально закладывается неравенство людей в обществе.
Полное ничтожество, царь Николай Второй, стал царём только потому, что родился наследником в царской семье, и при переписи населения он на вопрос: род занятий, ответил: «хозяин земли русской». А великий баснописец древней Греции – Эзоп всю жизнь был рабом, раб не мог иметь никакого имущества – всё принадлежало его хозяину. Сколько талантливых и трудолюбивых людей так и не смогли получить образования и выбраться из нищеты, поскольку родились и выросли в бедных семьях? Таких миллионы есть и будут пока не ликвидируется наследование.
Большевики ликвидировали частную собственность и эксплуатацию человека человеком, когда одни, опираясь на наследственное или неправедно нажитое имущество, заставляли других работать на себя и присваивали себе результаты их труда. Но мало ликвидировать частную собственность – надо сделать так, чтобы эта частная собственность не появлялась вновь, для чего необходимо ликвидировать наследование этой частной собственности, кроме, конечно, личной собственности семьи, необходимой для нормальной жизни.
И сдаётся мне, именно на наследовании привилегий и частной собственности большевики потерпят, в будущем, поражение и крах своих идей.
Уже сейчас в партии большевиков есть люди, которые хотят свои должности иметь навсегда и передавать их детям, а еще лучше, чтобы к должностям добавить имущество, например фабрику, где папа директор.
Они хотят не только распоряжаться, но и владеть – об этом свидетельствует борьба за власть в партии большевиков и в Советском правительстве, а зачем людям власть? Чтобы иметь привилегии, возвышаться над другими и, главное, распоряжаться и владеть собственностью, которая позволяет жить лучше многих, а это и есть крах социализма.
Сейчас власть захватил Сталин – нынешний вождь и он, похоже, является фанатиком идей социализма о равенстве всех и уничтожении частной собственности в СССР. Но другие руководители страны, видимо не разделяют этих взглядов Сталина, и, например, Бухарин – один из руководителей партии большевиков, прямо говорил, обращаясь к крестьянам – обогащайтесь! Скоро начнется второй процесс по делу Каменева – Зиновьева и других и одним из обвинений им инкриминируется предательство идей социализма о всеобщем равенстве людей.
Конечно, полного равенства людей никогда не будет по способностям и здоровью, но полное равенство по возможностям реализовать свои способности, получить образование, медицинское обслуживание, жильё и работу должны и могут все, но как этого добиться, похоже, не знает никто, даже их товарищ Сталин.
– Чудно, говоришь, Иван Петрович, – перебил его Миронов, – по-твоему, выходит, что не богатство портит человека, а передача этого богатства наследникам. Что плохого, если крестьянин передает свою землю своим детям – пусть работают на своей земле и дальше: сами живут и других кормят.
Гончар делает посуду – пусть его мастерская тоже перейдёт детям и так далее. Это в тебе обида говорит, потому что наследство от отца не получил, и не стал помещиком – пришлось учиться на учителя.
– Глупость твоя, Миронов, от необразованности, – парировал Иван Петрович. По христианской вере, стяжательство, а именно так называется стремление к богатству, является одним из десяти главных смертных людских грехов. Даже Иисус Христос не смог победить стяжательство. Иуда предал Христа за деньги, многие люди ради денег готовы на любые злодеяния.
Вот и большевикам не удастся победить стяжательство в людях и в самих себе. Пусть даже они построят новое общество без частной собственности, где всё будет принадлежать всем людям, а управлять будет государство и их партия. Но как только появится благополучная жизнь, так многие заходят жить ещё лучше, да и сейчас начальники устраивают себе жизнь поудобнее, возьми хоть наших лагерных особистов и интендантов.
Выпивоха за бутылку водки готов мать родную продать – так и среди большевиков найдутся корыстолюбцы и стяжатели, начнут грести под себя – тут-то их социализму и придёт конец. Да и заграничные капиталисты не оставят страну – СССР в покое, чтобы не было примера для своих бедняков по отъёму частной собственности у богатых в пользу всех.
Может я и не прав, но будущее покажет, а пока нам с тобой Миронов, получить бы в нашу частную собственность нашу свободу – это моя мечта и мое стяжательство. Желать можно не только материальных благ, но и духовных, что не является грехом и называется божьей благодатью. Я неверующий, хотя и крещённый, но за свою свободу готов и душу чёрту заложить. Пусть чёрт берёт мою душу взамен обретения семьи, а потом после смерти делает с моей душой всё, что хочет – я согласен, только нет ни чёрта, ни бога, а вот НКВД есть, доносчики тоже есть и как с ними справиться, чтобы выйти на свободу никак не могу додуматься и решить.
– Хватит философствовать о великом и вечном, пора спать, завтра на работу, а мы, русские, обсуждаем мировые проблемы, чтобы потом копать землю и носить шпалы и рельсы, – закончил разговор Иван Петрович и, отвернувшись к стенке, уткнулся головой в тёплый живот кота, который уже расположился на подушке и мурлыкал свою кошачью песню, вполне довольный своей лагерной жизнью среди зэков.
Работы по строительству путей продолжались в установленном порядке, прошла середина лета, начался и закончился август месяц, а в жизни Ивана Петровича не происходило никаких изменений. Его посещения отдела по колонизации были безрезультатны: ответ был один – ждите, пока колонизация зэков прекращена и оставляют на поселение только зэков отбывших срок наказания, не разрешая им вернуться в родные края.
Иван Петрович вполне обжился в лагере и часто сравнивал свою жизнь в лагере с окопной жизнью на фронте, когда их часть длительное время стояла в одном месте и обустроила блиндажи под постоянное жилье.
В работе появилась сноровка, и тяжелый труд на строительстве железной дороги уже не казался изнурительным, да и результаты труда были очевидны, медленным, но постоянным приращением второго пути Транссиба на перегонах между разъездами, где трудилась 4-я колонна.
Несостоявшийся переезд колонны в новый отстроенный ими лагерь тоже оказался кстати, потому, что бытовые условия жизни в большом лагере были лучше устроены, чем в этот филиале, где зэки жили не в отдельных кабинках, а в общих бараках с двухъярусными нарами, где не было отдельных мест для личных вещей.
Иван Петрович продолжал работать на общих работах и табельщиком его больше не ставили, хотя воспитатель фаланги и ходатайствовала о возвращении Ивана Петровича на лёгкие работы, но прораб возражал, не желая иметь грамотного помощника, в деле учета выполненных работ. Однако, в конце каждого дня, прораб отдавал заполненный им и подписанный наряд Ивану Петровичу для передачи его в бухгалтерию для учета выполненных норм выработки и начисления пайков питания всей колонне.
Обычно, Иван Петрович заходил в бухгалтерию по утрам, пока не подали состав для перевозки колонны к месту работы, передавал наряд учетчику и уходил, пока бухгалтерия обсуждала утренние новости из газет и радио, чёрные репродукторы которого, этим летом повесили в комнатах административного барака.
В августе все оживленно обсуждали начавшийся в Москве суд над троцкистско-зиновьевской бандой контрреволюционеров. Все ожидали: каков будет приговор этим заговорщикам, и пару раз Иван Петрович не удержался и высказал мнение, что этих врагов народа, как их именовала газета «Правда» не расстреляют, поскольку многие из них раньше занимали большие посты в партии и правительстве и имели заслуги перед партией, в революцию 1917 года и в гражданскую войну.
Учетчик из бухгалтерии всегда возражал Ивану Петровичу, говоря, что врагам народа не должно быть никакой пощады, иначе они снова будут вредить партии и государству. На том спор и заканчивался, но каждый оставался при своём мнении.
Трудно поверить, но два раза за лето Ивана Петровича выпускали из лагеря в город на почту за посылкой, потому что тёща Евдокия Платоновна забывала указать БамЛаг и писала в адресе только город Свободный. Ивану Петровичу давали в администрации справку, что это именно он, и по этой справке на почте ему выдавали посылку. Можно, наверное, было пытаться бежать с этой справкой, но он почему-то такой попытки не сделал.
В город, по каким-то надобностям, выпускали иногда и других заключенных, осужденные по уголовке за мелкие преступления, и никто из них не делал попытки бежать. Был даже случай, когда зэк, выпущенный в город тоже на почту, купил водки, напился и подрался в городе с милиционером, который с помощью других ментов связал этого зэка, доставил в милицию и был несказанно удивлен, что пьяный драчун является зэком из лагеря. Случай замяли, но выпускать в город стали реже и только таких спокойных и тихих, как Иван Петрович.
Наступила осень, которая не принесла никаких перемен, и Иван Петрович понял, что ему придётся ещё одну зиму провести в лагере. Он написал жене, что с колонизацией пока ничего не получается и попросил прислать теплых вещей: свитер, носки и рукавицы, чтобы не мерзнуть зимой при работах на открытом воздухе. Посылка с теплыми вещами пришла от тёщи в конце октября, когда холода ещё не наступили, и стояла теплая, тихая и солнечная дальневосточная осень.
В эти же дни куда-то исчез чёрный кот – друг и воспитанник Ивана Петровича. Все лето кот успешно охотился на мышей в бараке и за его пределами, иногда пропадал на день – два, по-видимому посещая другие бараки в поисках своих сородичей или подруги, но всегда возвращался. И вот уже неделю, как о коте не было ни слуха, ни духа. Иван Петрович в выходной день, после бани, прошелся по соседним баракам, расспрашивая зэков о чёрном коте, но никто его не видел и не мог сказать ничего определенного.
Контрреволюционную банду Каменева – Зиновьева, вместе с подельниками, к этому времени уже расстреляли, а в НКВД был назначен новый начальник – Ежов Николай Иванович, который обещал партии повести беспощадную борьбу с врагами народа, чтобы защитить завоевания социализма в преддверии принятия новой конституции СССР.
Конституция СССР Ивана Петровича не очень интересовала, но он рассчитывал на амнистию по поводу её принятия, тем более, что осужден он был, как уголовник, по лёгкой статье уголовного кодекса РФ за спекуляцию, и к врагам народа не относился. Однако пропажа кота очень огорчила Ивана Петровича, и он счёл это плохой приметой.
XIII
Иосиф Сталин (Джугашвили), как восточный человек и горец, инстинктивно ощущал опасность, исходившую от людей, или природы. Природное чувство опасности развилось в нём за долгие годы политической борьбы и скитаний по тюрьмам и ссылкам и безошибочно предупреждало его об угрозах личности в годы борьбы за власть и пребывания на вершине власти в стране и в партии.
Реализация идей построения людского общества справедливости и равноправия для всех, проходила в бескомпромиссной борьбе с многочисленными врагами этой идеи, и природное чувство опасности не раз и не два предупреждало Сталина о происках врагов идеям социализма и ему лично.
К осени 1936 года Сталин начал ощущать нарастающее сопротивление в верхушке партии и правительстве проводимому им курсу на ускоренное построение социалистического общества, в СССР. Отчасти это объяснялось успехами в развитии страны за две пятилетки и закреплении этих успехов в новой конституции, проект которой готовился под его руководством.
Сталин полагал, что по мере развития социализма сопротивление и классовая борьба будут нарастать, особенно среди тайных врагов нового общества. Насколько опасны тайные враги и предатели для народной власти показал фашистский мятеж генерала Франко в Испании, где скрытые враги оказали внутреннюю поддержку фашистам, обеспечивая успех наступления Франко, который говорил, что он наступает на Мадрид четырьмя колоннами, а пятая колонна – это его тайные сообщники в самом Мадриде.