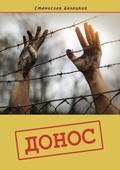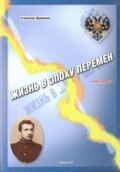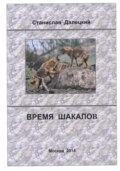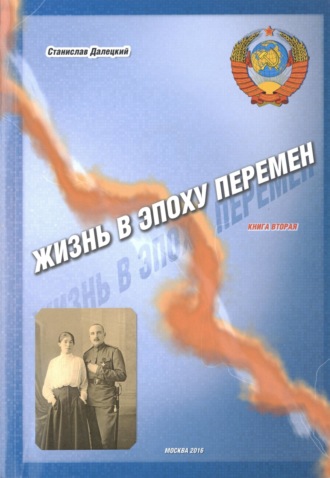
Станислав Владимирович Далецкий
Жизнь в эпоху перемен. Книга вторая
Сегодня отдыхай дома, а завтра сходим с тобой на погост поклониться могилам твоей матери и дедов наших. Там, на погосте, в полной мере ощущаешь смысл бытия: мать твоя ушла в небытие, но остались вы, её дети. Уйдёте вы – останутся ваши дети, и так будет до скончания времён, если мы здесь, на земле, не уничтожим сами себя в погоне за богатством и вожделея стяжательства, в азарте алчности под прикрытием Божьих заповедей о человеколюбии к ближним своим.
Смысл жизни в детях не означает жизнь ради детей, а состоит в том, чтобы передать им наше понимание прожитого и помочь им стать лучше, чище и благополучнее, чем были мы на этой грешной, по мнению попов, земле, – закончил отец свои рассуждения и, улыбнувшись, добавил: – Видимо, становлюсь я по-старчески сентиментальным, коль излагаю нравоучения своему зрелому сыну, который и сам хватил лиха полной мерой. Прости, Ваня, старика за назидания.
– Ничего, отец, – я и сам понял смысл жизни своей после рождения дочери, а сейчас у меня уже трое детей, и надо вырастить из них людей, но не хищников, чем и буду заниматься все последующие годы жизни, пока дети не станут вполне самостоятельны.
Пойду пройдусь по окрестностям, вспомню свои детские годы – не сидеть же во дворе, размышляя о смысле жизни, – подвёл Иван Петрович итог своей беседы с отцом и пошёл со двора пешком к речке, где и проходили счастливые летние дни его детства.
Присев на берегу под берёзой, он смотрел на речные воды, которые протекали мимо и исчезали вдали за излучиной реки, как и в те далекие уже годы, – ведь прошло тридцать лет: целая человеческая жизнь с той поры, когда жизнь его только начиналась.
Годы жизни утекли сквозь время, как речные воды утекают сквозь пространство бесследно, сливаясь в туманной дали горизонта с небом: так и его земная жизнь однажды сольётся с небесной и скроется за горизонтом небытия, оставив лишь краткую память о себе в его детях.
От этих мыслей его отвлек плеск воды: стайка детей лет пяти-семи прибежала на речную косу, где и он купался мальчишкой, и затеяла возню на отмели, беззаботно плескаясь и бултыхаясь в водах, прогретых жарким, июльским солнцем.
Посмотрев на ребятишек, Иван Петрович отвлекся от своих воспоминаний и решил пройтись по селу и навестить сестру Лидию, жившую, по словам отца, на прежнем месте, что и в пору его детства, что само по себе было удивительно – лавочника вместе с семьей должны были выселить из дома и отобрать лавку, как только советская власть укрепилась в этих местах. Но власть эта появилась здесь лишь год назад, и почти сразу был объявлен НЭП, что и позволило семье лавочника сохранить свой дом, а самому лавочнику сохранить свою лавку.
Войдя в село, Иван Петрович был поражён его запустением и обветшалостью. Тут и там вдоль улицы виднелись проплешины на месте когда-то стоявших изб и домов: семьи из них вымело ветрами перемен или злой волей войны, а соседи, выждав несколько лет, разобрали избы на дрова, не решаясь самовольно занять опустевшие жилища. Это было вполне в крестьянском духе общины: присвоить нельзя – общество осудит, а вот уничтожить – можно. Пустые места вдоль улицы, как утерянные зубы у человека, свидетельствовали о былых тяжёлых временах, пережитых селом за прошедшие годы с последнего приезда Ивана Петровича сюда вместе с Надеждой.
На улице кувыркались лишь маленькие ребятишки, за которыми присматривали старухи: все остальные жители села были на покосе или на заготовке дров. Старухи вглядывались подслеповато на проходившего мимо Ивана Петровича, но никто уже не признавал в нём барского сына, как это бывало в детстве.
В дом сестры Лидии он вошёл, как всегда, с улицы, а не через лавку, дверь в которую была открыта, но внутри никого не было – полдень не самое удачное время для торговца в обедневшем селе, да и торговля была скорее обменом чем торговлей: денег у крестьян почти не бывало, и потому крестьянин, например, приносил лавочнику живую курицу, получая взамен мешочек соли, потом лавочник увозил этих куриц в город, продавал там на базаре, а на вырученные деньги покупал снова товар или вещицу, которую всегда можно обменять на деньги по текущему курсу – инфляция лишала торговлю за деньги всякого смысла.
Сестра Лидия встретила Ивана Петровича радостно и разом признав в вошедшем мужчине своего брата. Ей было под пятьдесят лет, как отцовской жене Фросе, но выглядела она совсем старухой, возраст которой подчеркивался темным платьем и черным платком, накинутым на голову, несмотря на жаркий день. В отличие от Фроси, сестра Лидия не раздалась вширь, а подсохла телом, как отец, что придало ей живости в движениях и видимость здоровья, на которое она жаловалась ещё в Иваново детство.
– Ванюша, не верю глазам своим, – воскликнула Лидия, обнимая брата. Столько лет ни слуха, ни духа, и вдруг объявился сам. Отец мне говорил, конечно, что получил письмо от тебя, но приезда не ожидал. Какие ветры тебя носили, братец, рассказывай, а я самовар поставлю и напою настоящим чаем – не как у отца на смородиновом листе.
Отец наш совсем обеднел за эти годы – вот тебе и дворянин, чем он всегда гордился, презирая моего мужа-лавочника, который теперь и подкармливает своего тестя. Сыновья разъехались по стране, и ни слуха, ни духа от вас нет много лет, а дочка-то здесь осталась и приглядывает за отцом, который её знать не хотел.
Эта обида на отца, видимо, глубоко засела Лидии в душу, и она всё повторяла и повторяла слова о заботе своей родному отцу, которой тот не заслужил.
Иван Петрович прервал сестру, спросив, почему она носит черный платок, будто вдова по деревенским обычаям – муж-то жив и крутится в лавке.
– Это, братец, мой траур по сыночку среднему. На войну его забрали в 15-м году, а в 16-ом пришло известие, что погиб он здесь за Могилёвом вёрст сто отсюда. Я ездила туда ещё при немцах, но могилки сыновней не нашла: при царе-батюшке, будь он проклят со всем своим семейством, могилки с именем ставили только офицерам, а солдат сбрасывали в общую яму и ставили простой крест – один на всех. Немцы, когда захватили эти земли, кресты-то посбивали, и не найти теперь могилку моего Андрюши, что погиб за царя и Отечество, как было написано в той бумаге, что принёс мне урядник.
– Царя Николая Второго большевики расстреляли вместе с семьёй ещё в 1918-м году, – успокоил Иван Петрович свою сестру, услышав проклятие царю из её уст.
– Ну и правильно сделали эти большевики. Царь миллионы людей сгубил в дурной войне с немцами, и детей немало сгинуло, – пусть и царские отпрыски познают ужас неповинной смерти, – злобно скривилась Лидия.
– В каком полку служил твой Андрей? – заинтересовался Иван Петрович, переведя разговор на другую тему. – Я ведь тоже воевал в этих местах, севернее на двести вёрст, и тоже солдатом. Потом обучился на офицера, ну а дальше меня закрутила судьба по России, – и он рассказал сестре о прожитых годах, как бы оправдываясь, что не посещал отца и не оказывал ему никакой помощи.
– Успокойся, Ваня, не виню я тебя, зная твой нрав, если б мог, конечно, навестил бы отца. Хорошо, что ты уцелел, обзавёлся семьёй и детишек нарожал. Та дама, что ты привозил ещё перед войной, мне показалась не парой тебе – так и случилось, а твою жену и детишек хотелось бы повидать.
– Непременно повидаешь, Лида, как только подрастут немного и если позволят обстоятельства жизни нашей, обязательно приедем всем семейством в гости к отцу и тебя навестим. Что с другими-то детьми у тебя? – спросил Иван Петрович, присаживаясь к столу за чашкой чая.
– Старший мой сынок крутится в городе, был приказчиком в лавке у дяди, потом завёл своё дело с помощью отца, но война это дело порушила, он жил здесь в помощь отцу, а объявили НЭП в прошлом году, и он снова подался в Могилёв, затеял своё дело по торговле и, кажется, немного развернулся с помощью отца. Женился он в прошлом году, но детишек пока нет.
Дочка моя, Даша, вышла замуж, живёт здесь неподалёку, в Мстиславле, муж у неё фельдшером при больнице и двое детей у них: девочка-шестилетка и сынок-погодок. Они и познакомились по больному делу: Даша простудилась, сильно кашляла и в горячке была, вызвали доктора, но приехал этот фельдшер, прожил у нас неделю, вылечил Дашу, а потом и уманил за собой. Но я не против была: лечить людей – хорошее дело. Он и мне всякие настои привозит, и стала я себя лучше чувствовать, хотя и подсохла немного, не то, что отцова Фроська – разнесло бабу: поперёк шире стала, чем ростом, – закончила Лидия.
Иван Петрович помнил, что Лидия всегда плохо отзывалась о Фросе, считая её, простую крестьянку, не ровней своему отцу-дворянину.
– Если бы не Фрося, отец давно бы лежал на погосте рядом с нашей матерью, – возразил брат сестре, – или дом бы у него отобрали по нынешним временам. Живут они вместе уже тридцать лет, и дай Бог мне так прожить с моей Аннушкой в ладу, как отец живёт с Фросей.
– Ладно, защитник полюбовницы своего отца, – примирительно сказала Лидия, – допивай чай, а я соберу кое-какие припасы для отца, – у них, верно, в доме шаром покати: хлеб и то не всегда бывает, а ты гость и брат мой, поэтому негоже тебе картошкой питаться вместе с отцом-дворянином. Соберу я посылочку с провиантом от жены лавочника нашему отцу – теперь он не брезгует брать от меня помощь и не воротит нос от своей дочери – жены лавочника.
– Злая ты стала, Лидия, – осудил Иван Петрович сестру. – Отец не нажил капиталов и постарел, а новая власть не жалует бывших дворян и богатеев, а потому не платит им пенсию, если старые и в нужде. Я теперь тоже немного буду помогать отцу в старости, братьям напишу – думаю, что и они, если в силах, помогут своему отцу.
Мир перевернулся: теперь рабочие и крестьяне у власти, а дворяне в нужде, и, если разобраться, то в этом есть справедливость: сотни лет крестьяне были холопами у дворян и жили в бедности, – пусть дворяне попробуют, что это такое – жить бесправно и в нужде. Ты же говорила о царе и его семье, что поделом их убили, по твоему получается, что и нашему отцу тоже поделом досталась такая жизнь на старости лет?
– Не со зла я ополчилась на отца и его Фросю, – оправдывалась Лидия, подавая брату корзину со снедью, что успела собрать за разговором. – Это во мне давняя обида говорит, да и ворчливая я стала к старости. Вы, мужчины, не понимаете, что женская старость наступает раньше мужской, и она более тяжело переживается, – вот мы, стареющие женщины и злимся иногда понапрасну на своих близких, и брюзжим без конца, так что не обращай внимания на мои слова, и передавай привет нашему отцу, которого я люблю как дочь и всегда любила, но обижалась на его отношение ко мне несправедливое.
Простившись с сестрой, Иван Петрович возвратился в отчий дом, где его ждали отец и Фрося, чтобы вместе отобедать: Фрося зарубила и запекла в печи курицу, что по нынешним временам было событием весьма редким, и хотела придать обеду праздничный вид, почему и дожидалась возвращения гостя из его прогулки по селу.
Отец вполне оправился от прострела поясницы и грелся на солнышке, на крылечке, ожидая возвращения сына.
Иван Петрович, не мешкая, присел за накрытый стол, Фрося достала из шкафчика бутылку самогона, что хранила на всякий случай, и сама налила стопку Петру Фроловичу в честь приезда сына и выздоровления самого хозяина дома. Даже скудный обед у Фроси получился весьма вкусен, и скоро сытые хозяева и гость, отодвинув тарелки, приступили к чаепитию со свежим мёдом, что принесла им Лидия в прошлое посещение. Корзину с припасами, принесённую Иваном Петровичем от сестры, оставили до следующей трапезы, чтобы разнообразить стол на время гостевания Ивана Петровича.
– Живём мы, Ваня, на одной картошке и зелени с огорода, – пожаловалась Фрося, прихлёбывая чай из блюдца, которое по-крестьянски держала на растопыренных пальцах левой руки у самого лица. Сейчас, летом, выручают курицы, что несут яйца, к зиме кур зарублю, оставив парочку с петухом в сарайчике на зиму для весеннего развода – так и перебьёмся ещё одну зиму.
Денег нам на покупки взять негде, – хорошо, что у Петра Фроловича была припрятана заначка из серебряных рублей, на которые я покупаю муку прямо у мельника, – так дешевле, и масла постного иногда приносит Лидия – на хлебе и картошке перебиваемся всю зиму до урожая на огороде.
Хорошо, что не голодаем, как некоторые сельчане, а Пётр Фролович говорил, что на Волге и вовсе страшный голод царит: поп сказал, что люди едят мертвечину человеческую – это нам, мол, наказание за грехи наши и за новую власть, которую мы не звали, она сама пришла из больших городов.
Я помню, лет тридцать назад, у нас здесь и по России случился голод из-за неурожая зерна и картошки, люди тоже мёрли целыми деревнями от бескормицы, но чтобы кушать мертвечину, такого не было никогда. И попы тогда не кричали с амвона, что, мол, царь-батюшка в этом виноват, а всё сваливали на грехи человеческие, ибо любая власть есть от Бога.
– Какую власть народ заслужил, такая власть и правит людьми, – вмешался в разговор Пётр Фролович, размягчившийся от выпитого самогона.
– Что-то мы после сытного обеда заговорили о голоде – к чему бы это? – спросил Иван Петрович и, не дождавшись ответа, продолжил: – Времена военного лихолетья прошли, и даже при этих большевиках жизнь начинает налаживаться.
Конечно, таким как отец, из бывших классов, жить трудновато, есть и будет, но остальные слои населения крепко поверили в Советскую власть и готовы строить новую жизнь в нужде и невзгодах, я в этом уже много раз убеждался. А тебе, отец, я помогать буду по мере сил моих и доходов: учительством, конечно, хором каменных не наживёшь, но на хлеб хватает, и учителей Советская власть уважает больше, чем бывшая царская власть. У меня трое детей, и ещё тесть и тёща со мною, но немного помочь деньгами смогу – я и сейчас рублей тридцать серебром оставлю в помощь перед отъездом, так что, отец, и ты, Фрося, голодать не будете.
– Кстати, – вспомнил Иван Петрович, – я же взял с собой несколько фотографий своих и своего семейства, чтобы показать здесь, сейчас принесу. Он прошёл в комнату, порылся в вещах и вынес напоказ несколько фотографий, сделанных по случаю несколько лет назад или совсем недавно в Вологде.
Отец и Фрося с интересом рассматривали фотографии, а Иван Петрович давал пояснения к ним: – Здесь я с товарищем в Витебске, август 1914 года, через неделю после начала войны с немцами, простым солдатом. Здесь с женой Аней после венчания уже офицером, в феврале 17-го года в Омске. Здесь мои тесть и тёща с Анечкой, ещё ученицей гимназии, а здесь Анечка с дочками в канун рождения сына, уже в Вологде, а это мы вместе с ней, но без детей. Все эти фотографии были сделаны по случаю и по настроению, и запечатлели нас такими, какими мы были, навсегда. Жаль, что в селе нет фотографа, чтобы нам всем вместе запечатлеться у родного дома, – закончил Иван Петрович показ своих фотографий.
– Здорово придумала наука фотографии с живых людей делать, – восхитился отец. Жаль, я не догадался запечатлеться с женою и детьми, когда ты ещё малышом был. Можно ведь было сделать это в Мстиславле – там как раз объявился фотограф, но помнится мне, что мать твоя воспротивилась, что негоже с живых людей делать картины, будто иконы, потому и нет таких фотографий: ни тебя, Ваня, ни твоей матери, царство ей небесное.
– А жена твоя, Ваня, на вид простенькая женщина, но с умом, видно по взгляду, и любит тебя, коль детей нарожала подряд.
– Надеюсь, внуков увидеть вживую, а не по фотографиям, если доживу до Вашего приезда. Поторопись, Ваня, стар я становлюсь, чувствую, что лет пять-семь ещё протяну на этой земле, если беды какой или болезни не случится, а там и время наступит стучаться в райские врата, как говорится в книге «Закон Божий», что читаю вечерами перед сном. Пойду, пожалуй, отдохну после обеда и фотографии эти посмотрю повнимательнее, если ты не возражаешь.
Иван Петрович не возражал, и отец с Фросей ушли в свою спальню, прихватив фотографии, а он остался сидеть за опустевшим столом, вспоминая те обстоятельства, при которых были сделаны фотографии. Незаметно накатила дрёма, и он тоже ушёл в спальню и заснул крепким послеобеденным сном, как это бывало с ним в младенчестве.
Вечером отец и Фрося вернули Ивану фотографии, сказав, что рассмотрели их внимательно и ещё раз решили, что Ивану повезло с выбором жены: даже с фотографии от нее исходит тёплое спокойствие взгляда и в жизни, конечно, Анна является надёжной опорой мужу и детям.
Фрося, сама бездетная, любила порассуждать о детях в семье и потому сказала Ивану Петровичу следующее: – Многие жёны, обзаведясь детьми, ставят заботу о них выше заботы о муже, что является совсем неверным и может испортить супружескую жизнь.
Дети в семье есть благодаря мужу, и муж всегда для жены должен быть главной заботой и любовью. Тогда забота о детях будет для родителей делом само собою разумеющимся. А увидит муж, что жена только о детях и думает, не обращая на него никакого внимания, и у него начинает портиться отношение к жене, он начинает искать внимания где-то на стороне, и тогда семья рушится.
Дети вырастают и уходят в свою жизнь, а муж и жена остаются в одиночестве без приязни друг к другу на старости лет, и это получается уже не супружество, а сожительство чуждых меж собою мужчины и женщины.
Иван Петрович согласился с этими доводами бездетной Фроси, пояснив, что его Анечка не такая, и он для жены всегда на первом месте в её сердце и семейных заботах.
Неделя под крышей отчего дома пролетела незаметно. Иван Петрович бродил днем по окрестностям, вспоминая забавные случаи из своего детства, что происходили в этих местах с ним, барчуком, и с его друзьями-крестьянами. Этих друзей уже не было здесь и в его прошлый приезд, а сейчас и подавно никто не слышал, не видел, и не знал об их судьбе и участи в годы войны и перемен.
Людские жизни, как снежинки, падали на раскаленную войною и смутою землю русскую и исчезали бесследно в потоке времени и событий планетарного масштаба; что уж там жизни трёх крестьянских детей, выросших в эпоху перемен и сгинувших в этих переменах уклада и смысла жизни простых людей из глухих сел и деревень.
Иван Петрович иногда заводил разговоры с отцом о его жизни в прошлые времена, когда тот был молод: чем он жил, и к чему стремился, как дворянин, когда его отец, Фрол Григорьевич – дед Ивана Петровича, был мелкопоместным дворянином и имел крепостных крестьян в этом селе, возможно дедов друзей Иванова детства.
Петр Фролович охотно рассказывал о делах минувших лет: как он служил офицером, кутил, играл в карты и любил продажных женщин, потом остепенился, женился на Ивановой матери, обзавелся детьми, потом вступил в наследство этим домом-усадьбой, вышел в отставку и живёт здесь почти сорок лет, и ничуть о своей жизни не сожалеет.
Желаний и мечтаний своих в те годы, отец не помнил или не хотел говорить о несбывшемся. Конечно, как и всякий служака, он втайне мечтал стать генералом, но понимал всю несбыточность этой мечты ввиду захудалости своего дворянского рода: даже участие в русско-турецкой войне за освобождение болгар, ему – артиллеристу не помогло выдвинуться в чины выше капитана.
Как-то днем в усадьбу пришла сестра Лидия, принесла очередную корзину с провиантом, как сказал отец по армейской привычке. Они вчетвером посидели на веранде за самоваром, попили чаю, поговорили о делах и заботах, вспомнили былые годы, радости и горести, и к вечеру Лидия ушла, вполне довольная проведенным временем с отцом и братом.
После ухода Лидии, ободренный мирными отношениями отца с дочерью, Иван Петрович предупредил отца, что дня через два и он тоже соберется в обратный путь: здесь, как он убедился, жизнь в усадьбе вполне налажена, хотя и не отличается достатком, а там, в Вологде, у него жена Анна с младенцем на руках, и потому душа его тянется к детям, чтобы провести свободные дни в семье, пока не начались занятия в школе.
Петр Фролович огорчился столь быстрым отъездом сына, но, понимая его тревожность за семью, возражать не стал, и через два дня, попутной лошадью Иван Петрович отправился из гостей в обратный путь, через Мстиславль, возвращаясь из Белоруссии, где теперь проживал отец, назад в Россию, в древний город Вологду, где он собирался жить долго и счастливо в своей семье, состоящей из семи душ человеческих: он с Аней, их трое детей и тесть с тёщей.
Пётр Фролович с Фросей проводили повозку за околицу, наказав Ивану обязательно приехать сюда с детьми и женою, как только позволят обстоятельства, и не затягивать этот приезд на долгие годы ввиду преклонного возраста отца.
Обратная дорога заняла три дня, потому что один день Иван Петрович провёл в Москве, где, по просьбе тестя, навестил его друга-революционера, чтобы выразить благодарность за содействие в назначении пенсии Антону Казимировичу.
Революционер этот, Фёдор Иванович, оказался крепким стариком, который, выслушав историю странствий Ивана Петровича, свёл его вечером со своим знакомым большевиком, по имени Дмитрий, из иудеев, входившим в верхушку партии большевиков, и попросил повторить рассказ о перипетиях судьбы дворянина и офицера, ставшего лояльным партии большевиков, опирающейся исключительно на рабочих и крестьян.
Дмитрий Дмитриевич тоже с удовольствием выслушал Ивана Петровича и пообещал рассказать об этом товарищу Сталину, с которым был дружен: -У нас в партии некоторые горячие головы, как Троцкий, бредят мировой революцией, которую собираются совершить посредством диктатуры пролетариата, а Сталин утверждает, что к делу построения общества социализма в России надо привлекать всех бывших буржуа и дворян, которые не являются врагами Советской власти, а признают её и сотрудничают с партией большевиков, как Иван Петрович.
Вы были учителем крестьянских детей при царе, остались учителем при Советской власти, и какой же вы враг, по понятиям Троцкого, если помогаете нам, большевикам, бороться с неграмотностью и просвещать народ знаниями. Только просвещенный народ способен построить новое общество равноправных и свободных людей, без эксплуатации человека капиталистами и помещиками, и мы такое общество построим ради людей, а не ради своей наживы, как было всегда в истории!»
– А кто такой товарищ Сталин? – спросил Иван Петрович у своего нового знакомого, Дмитрия.
– Он сейчас является Генеральным секретарем ЦК партии большевиков, организует работу аппарата партии и подбирает кадры руководителей. Его настоящая фамилия Джугашвили, он из грузин, бывал много раз осуждён и сослан при царизме, а сейчас один из главных большевиков и член Политбюро.
– Позвольте, – вдруг вспомнил Иван Петрович, – с февраля 1917 года и до Октябрьской революции я служил в Ачинске помощником коменданта по мобилизации и в марте отправлял команду мобилизованных солдат с воинским эшелоном на фронт, а рядом была группа ссыльных, которых освободили по указанию Временного правительства. Они отправлялись в Петербург, среди ссыльных был некий грузин, которого остальные называли Сталиным. Уж не тот ли Сталин сейчас командует в партии большевиков?
– Именно он, – подтвердил Гиммер, – Сталин отбывал ссылку в Курейке Туруханского края, и оттуда, после Февральской революции, уехал в Петербург организовывать социалистическую революцию. Он уезжал вместе с другими ссыльными: Каменевым, Самойловым и ещё несколько человек.
– Я приказал тогда своему ординарцу выдать Сталину шинель, видя, как этот грузин мёрзнет на морозе в ожидании поезда, – продолжал вспоминать Иван Петрович, и он надел эту шинель, потом подошёл и поблагодарил меня.
– Интересное сообщение услышал от вас, Иван Петрович, – оживился Дмитрий, – я обязательно расскажу этот случай товарищу Сталину, и что тесть ваш, Щепанский, был народовольцем, а потом в ссылке стал купцом, имущество которого большевики экспроприировали, а сейчас этот народоволец – купец получает пенсию как старый революционер, благодаря хлопотам Фёдора Ивановича.
Сталин любит слушать такие истории о превратностях человеческих судеб и их пересечении, хотя, как марксист, конечно, не верит, ни в какие высшие силы: ни в Бога, ни в чёрта, а верит в партию большевиков, и в её вождя – товарища Ленина, который сейчас немного приболел, но должен непременно выздороветь и продолжить дело революции на благо людям.
Попрощавшись, Гиммер ушёл в Кремль, где проживал с семьёй.
После его ухода, Иван Петрович заметил Фёдору Ивановичу: – Что-то большевики чтут своего Ленина, будто икону святую, как православные чтут Икону Казанскую: Ленин сказал, Ленин сделал и прочее. Это похоже на поклонение, а ведь большевики говорят, что человек должен быть свободным и в мыслях своих, и поступках.
– Понимаете, Иван Петрович, – мягко возразил Фёдор Иванович, наливая гостю чаю из самовара, большевики борются с религией, которая лишает людей воли к справедливому устройству общества и говорит, что на всё Божья воля, а русские люди, особенно крестьяне, привыкли чтить Бога и царя: убери в избе икону из красного угла – всё равно крестьянин, по привычке, будет креститься на пустой угол.
В так называемых заповедях Божьих тоже говорится, что: «Я есть бог твой» и «не сотвори себе кумира» – то есть Бог как бы призывает поклоняться только ему и никому более. Вот большевики и решили восхвалять своего вождя Ленина, чтобы он в умах людских занял опустевшее место Божье, и я знаю, что в некоторых избах крестьянских, портрет Ленина находится в углу вместе с иконами, и это сейчас правильно, учитывая безграмотность людей.
Будет образованное общество в России заботами большевиков, и народ перестанет поклоняться большевистским вождям, как перестал поклоняться царям. Я лично, ничего плохого не вижу, чтобы люди тянулись за умным, справедливым и решительным человеком, которым, без всякого сомнения, является Ленин.
Для построения общества без царей и без поклонения золотому тельцу наживы, потребуются десятилетия, потому что власти царской и религиозной сотни, если не тысячи лет и пусть люди верят в наших вождей, а не в бога, пока не обучатся грамоте и сами не избавятся от церковного мракобесия.
Вон как сейчас попы взвыли, когда Ленин предложил им поделиться накопленными церковными сокровищами, чтобы спасти голодающих людей. Попы открыто подбивают народ на сопротивление власти большевиков, а потому Ленин призвал не церемониться с церковниками, и если они сопротивляются изъятию ценностей, то поступать с ними, как с врагами, без всякой пощады. Враг и в рясе остается врагом.
Я знаю от Дмитрия, что у Ленина был апоплексический удар и опасаюсь, что он долго не проживёт. Тогда на замену ему придёт другой вождь, которого тоже начнут восхвалять. Главное, чтобы меры не потерять в этом восхвалении, иначе тот человек может поверить, что он действительно всемогущ, а его окружение, используя восхваление, как лесть, начнёт добиваться собственных целей, и тогда народную власть будут ожидать опасности и предательство идеалов революции, что уже бывало в истории.
Раб всходил на трон и становился таким же жестоким и себялюбивым правителем, как и свергнутый царь, – закончил Фёдор Иванович свои рассуждения за чаем и начал расспрашивать гостя о его тесте – Антоне Казимировиче, с которым был дружен в молодости, занимался революционной деятельностью и тоже бывал в ссылке у Байкала.
XXIV
Возвратившись домой из поездки к отцу, Иван Петрович занялся детьми и домашними делами.
Старшей его дочери Аве было почти пять лет, и он, памятуя своё детство, начал потихоньку учить её чтению, разучивая первые буквы алфавита, счёту до десяти и заучиванию коротких детских стишков. Дочка прилежно слушалась отца и до начала его занятий в школе выучила пять букв и счёт до пяти.
Второй дочери Лиде едва исполнилось два года, она только-только научилась говорить и лепетала без умолку со всеми, кто встречался ей на пути, когда она перебегала из комнаты в комнату, оттуда во двор, со двора на веранду, и так без конца, пока, умаявшись, не засыпала в самом неподходящем месте, если мать за делами не укладывала её вовремя в кроватку.
Младший сын, Борис, которому едва исполнилось два месяца, прилежно сосал материнскую грудь и таращился бессмысленно на отца своими карими глазами, когда Иван Петрович склонялся над его колыбелькой.
Антон Казимирович вполне приноровился к деревяшке вместо своей ноги, отбросил костыли, и, опираясь на трость, которую купил на базаре, бодро вышагивал по дому и двору, занимаясь обустройством усадьбы, как он называл своё жилище.
Евдокия Платоновна распоряжалась на кухне, обеспечивая всей семье приличное пропитание, что в этом голодном в Поволжье году, было весьма непросто исполнить: продукты все покупались на рынке, выбор их был ограничен, а постоянное обесценивание денег делало невозможным сделать хоть какие-то запасы впрок.
Потому, в дни зарплаты Ивана Петровича и выплаты пенсии Антону Казимировичу, все деньги передавались Евдокии Платоновне за вычетом необходимых средств на детей и, если требовалось, на одежду, а на всё остальное закупались продукты на рынке, и потом Евдокия Платоновна хозяйничала так, чтобы купленного хватало на всю семью до следующей зарплаты и пенсии.
В таких заботах Иван Петрович приступил к занятиям в школе, и дальше жизнь семьи покатилась в этом привычном русле без излишеств, но и без унизительной бедности, все ускоряясь и ускоряясь по времени. Не успел Иван Петрович оглянуться, как осень сменилась зимой, зима – весной, которая сменилась летом, вот и год пролетел, как один день: без особых происшествий, в спокойной жизни умеренного благополучия.
Летом Иван Петрович не поехал вновь к отцу, как обещался из-за стесненности средств: учительская его зарплата, хотя и постоянно росла в денежном выражении, однако не успевала за инфляцией денег, и потому приходилось экономить буквально на всём, чтобы прокормиться большой семье.
В погожие дни Иван Петрович вместе с тестем занимался ремонтом дома: покрасил железную крышу суриком, чтобы ржавчина не проела железо насквозь, поправил крыльцо и забор вдоль улицы и заменил два подгнивших столба под углами дома, которые служили ему опорой вместо фундамента. Дела эти, вроде нехитрые, требовали, однако, сноровки и времени, но приносили удовлетворение и ему, и тестю от ощущения своей нужности остальному семейству.
Иногда, в наиболее тёплые дни, Иван Петрович вместе с детьми и женой выходил на берега реки Вологды, что протекала через весь город и там, на отмели детишки плескались в мелководье, а родители, присев на берегу, наблюдали за своими детьми, которые, повизгивая и вскрикивая от восторга, все трое бултыхались в теплых струях воды: именно так Иван Петрович и представлял себе семейное счастье, когда сидел в окопах на германском фронте или лежал на нарах в Омской и Иркутской тюрьмах, ожидая решения своей участи то от белых, то от красных.