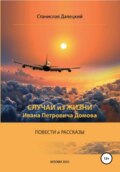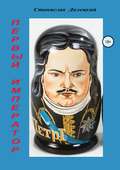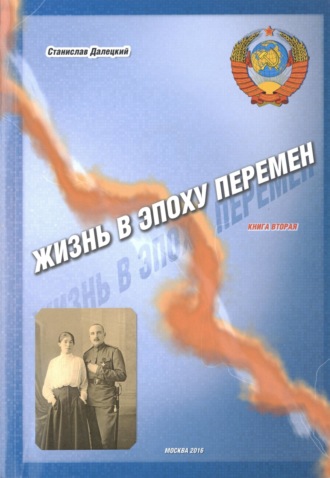
Станислав Владимирович Далецкий
Жизнь в эпоху перемен. Книга вторая
– Не надо уже мне ничего, Ванечка, проживу с огорода, Бог даст, а там и на погост под бочок к Петру Фроловичу, видно не зря он меня к себе звал, – ответила Фрося, – но в сельсовет зайду насчёт дров на зиму: как ни крути, а печь топить надо будет зимой, не замерзать же по своей воле до смерти, не по-христиански это будет.
От сытного обеда Ивана Петровича разморило и, прекратив разговор, он ушёл отдыхать на своё место в пустом большом отцовском доме. Проспав до позднего вечера, он вышел из своей комнаты лишь к вечернему чаю, что спроворила заботливая Фрося, которая в ожидании пробуждения гостя уже разожгла самовар и настояла чай на смородиновом листе.
– Жаль сахарку не осталось ни кусочка, чтобы побаловать гостя дорогого, – вздохнула Фрося, усаживая Ивана Петровича за стол и наливая чашку чая.
– Мы с Петром Фроловичем уже много лет пьём чай без сахара, которого у нас и купить-то негде, и не на что. В прошлый раз, когда жена ваша, Анна приезжала с детьми – она привезла из Москвы фунта два сахарку, так Петр Фролович припрятал два больших куска, и мы с ним по престольным праздникам пили чай с сахарком, но закончился сахар, и жизнь моего Петруши тоже закончилась, – снова пригорюнилась Фрося, вспомнив о сожителе, с которым прожила в ладу больше сорока лет.
Иван Петрович удивился, впервые услышав от Фроси, чтобы она назвала отца Петрушей. При людях, и при нём тоже, Фрося называла отца не иначе как Пётр Фролович, подчеркивая этим его статус как хозяина.
– Почему бы, Фрося, тебе не взять из села какого-нибудь внучатого племянника или девочку малую: и веселее в доме будет, и родители малыша помогут, чем смогут. Я, наверное, знаю, что в селе крестьяне живут тесно, и спят вповалку на полу, а здесь дом большой – можно даже всю семью своих родственников сюда поместить – ты теперь хозяйка этого дома и можешь распоряжаться, как хочешь – я возражать не буду.
– Не надо мне ребёночка на воспитание, старая я, чтобы детей нянчить, и семью племянников тоже не надо, будут шуметь и хлопотать здесь, как хозяева, а я привыкла к покою с вашим батюшкой, – возразила Фрося. – Мы с Петром Фроловичем уже с самой войны, почитай лет двадцать, на зиму закрываем половину дома и оставляем лишь кухню с печкой и спальню, которую эта печь обогревает, и где померли ваша матушка и Пётр Фролович – царство им небесное. Зимой топить большой пустой дом на двоих – это никаких дров не напасёшься!
Летом мы открывали вторую половину, наводили порядок, и к вашему приезду с семьей весь дом был готов к проживанию гостей. Буду одна здесь куковать, пока Господь к себе не позовёт, – вздохнула Фрося, – а племяшей я иногда навещаю на селе, если подарок какой соберу: яблок или ягод из сада, книгу детскую, что от вас осталась или что ещё.
Вы уж не взыщите, Иван Петрович, что я ваши детские книжки своим племянникам передавала. Сейчас все дети учатся в школах, не то, что в прежние времена, а книжек для чтения не хватает, вот я и сподобилась ваши детские книжки отдавать. А остальные книги в целости и сохранности, как стояли в шкафчиках, так и стоят, не сомневайтесь, – извинилась Фрося.
– Пустое это всё: и детские книги, и остальные можешь смело отдать племянникам или в избу-читальню, что я видел неподалёку от церкви. Я уезжать буду, часть книг возьму с собой, а остальными распорядись по усмотрению, – успокоил Иван Петрович старую женщину, заканчивая разговор.
Он погостил в отцовском доме ещё несколько дней, заставил Фросю сходить в сельсовет насчёт пенсии и дров на зиму и, возвратившись, Фрося сообщила, что насчет пенсии председатель ничего не слышал и справится в районе в каком-то собесе, а вот насчёт дров обещал завести в сентябре как помощь от колхоза в знак уважения к Петру Фроловичу, у которого прадед был хозяином предков многих нынешних колхозников.
Накануне своего отъезда из отчего дома, Иван Петрович снова посетил могилу отца, посидел рядом на скамеечке под нежарким солнцем, взгрустнул немного и, мысленно попрощавшись с отцом, матерью и сестрою, пошёл домой собирать вещи.
Он выбрал несколько книг, которые хотел увезти с собой, взял все фотографии, что были у отца, оставив Фросе на память фото отца в офицерской форме, отложил несколько безделушек из накопившихся в доме за долгие годы и упаковал всё это в увесистый тюк. Вечером он допоздна просидел с Фросей, вспоминая за чаем былые годы жизни здесь, когда он был мальчиком, а Фрося молоденькой служанкой.
От этих воспоминаний Фрося, ставшая старой женщиной, не раз всплакнула, по-старушечьи вытирая слёзы уголком фартука.
Утром Иван Петрович попрощался с одинокой женщиной и с почтовой повозкой уехал из родного села, чтобы никогда больше не возвращаться сюда, к истоку своей жизни.
Потом, в течение года, он иногда посылал Фросе почтой небольшие деньги в помощь одинокой женщине, пока однажды такие деньги не вернулись с отметкой, что адресат выбыл, и это означало, что Фрося, как и хотела, перебралась на погост к Петру Фроловичу, закончив свой жизненный путь.
Дома Ивана Петровича ждала неприятная новость: жена Анна, поскользнувшись неловко, сломала себе руку и встретила его с загипсованной правой рукой на перевязи. По этой причине она не могла заниматься домашними делами, часть из которых взяла на себя старшая дочь Августа. Но скоро должны были начаться занятия в школе, и кто и как будет управляться по дому, чтобы кормить семью, было неизвестно. Нанять служанку не позволяло ни материальное положение Ивана Петровича, ни социалистические отношения в обществе, осуждающие эксплуатацию человека человеком и полагающие, что прислужничество унижает человеческое достоинство.
Анна, которая, видимо, для себя уже всё решила, сообщила Ивану Петровичу о своём скором отъезде в Сибирь к матери, чтобы успеть к началу учебного года устроить детей в школы.
– Пойми, Ваня, – уговаривала она мужа, – там мать и две тётки Мария и Полина, будут заниматься нашими детьми, пока моя рука не заживёт, на что, доктор сказал, можно рассчитывать через полгода. Здесь плохо с пропитанием, продукты по карточкам, которых у нас с тобой нет, поскольку мы не работаем, а лозунг власти: «Кто не работает – тот не ест». На детей есть карточки, но на них не прокормишься. На базаре трудно что-либо купить из съестного, кроме картошки, а детям нужны мясо и молоко.
Деньги ты, конечно, зарабатываешь, но получается, что купить на них нечего. А в Сибири, по словам матери, трудностей с продуктами нет – были бы деньги. Ты матери посылаешь деньги, и взамен мы получаем посылки с продуктами, где есть и сало, и колбаса, и масло сливочное. Если мы все уедем туда, то не надо будет пересылать и деньги, и посылки. Можно будет устроиться там на работу учителями: тебя там знают и помнят как депутата Совдепа и наверняка разрешат работать учителем.
Всё это Анна говорила мужу поздно ночью, когда дети все спали, и она ублажила мужа женской ласкою, несмотря на сломанную руку. Иван Петрович вяло возражал на уговоры жены, понимая, что, в основном, она права.
– Делай, как знаешь, но я сразу поехать не смогу: слишком много скопилось вещиц у меня, которые надо умело продать, ожидая покупателей. Там, в Сибири, на эти предметы старины, искусства и ювелирные изделия спроса нет, поскольку нет ценителей с деньгами. Здесь, в Москве их тоже мало, но они есть среди иностранцев. Мне придется много ездить в Москву, иногда и жить там по нескольку дней и поэтому я не смогу оказывать тебе помощь по домашнему хозяйству.
Дочь Августа заканчивает школу, и ей тоже будет не до борщей, а Лидия ещё маловата, чтобы хозяйничать на кухне под твоим присмотром. Я помогу вам уехать, а своими делами займусь позднее. Посмотрим, что из этого получится и потом решим : уехать ли в Сибирь насовсем или вы вернётесь сюда будущим летом для устройства Августы в институт после окончания школы.
Решение было принято, и Анна удовлетворенно уснула на плече у мужа, получив свою порцию женского удовольствия и согласие на переезд в Сибирь к матери. Она давно уже искала способ избавиться от домашних дел, заниматься которыми не умела и не желала, прожив много лет в пансионах при школе, в учительской семинарии и потом на работе в училище прапорщиков: везде девушке не приходилось домохозяйничать, поэтому и не было у неё стремления к простым и повседневным женским заботам по дому.
На следующий день Анна, не мешкая, пока муж не передумал, принялась собирать вещи свои и детей и к вечеру всё было готово к очередному переезду на новое место жительства в далёкую и холодную Сибирь.
Ночь перед отъездом Анна была заботлива и отзывчива на ласки мужа, понимая, что долго ей придётся жить вдали от мужних объятий и смирившись с неизбежной разлукой.
Поутру, быстро собравшись, вся семья Домовых отправилась на вокзал, где через два часа ожидания Иван Петрович погрузил всё семейство на проходящий поезд, следующий до Омска. Стоянка поезда была пять минут и, попрощавшись с детьми и обняв жену, он успел выскочить из плацкартного вагона, паровоз дал гудок, окутался паром, дёрнулся и медленно потянул состав за собой, увозя семейство Ивана Петровича за тысячи вёрст, куда ему, возможно, придётся уехать позднее, если здесь, вблизи Москвы не удастся обрести твёрдое положение, обеспечивающее благополучие подрастающих детей и любимой жены: только в этом случае он вызовет семью сюда, на что, оставшись один на перроне, он продолжал надеяться.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Исход
I
Кружение по Подмосковным городкам в поисках антиквариата на баврахолках и заезды в Москвудля продажи добытых красивых безделушек не давали Ивану Петровичу достаточно средств на содержание семьи: народу России под жестким руководством Сталина было не до дорогих безделушек – прокормиться и уже хорошо. Торговцев – нэпманов прижали налогами, партийная верхушка еще не переродилась в паразитов, желающих купить антиквариат было немного, и доходное прежде занятие Ивана Петровича рухнуло.
В конце апреля 1935 года Иван Петрович возвращался из московских скитаний на родину жены в сибирский городок Токинск, где не был четырнадцать лет с гражданской войны. Жена Анна с четырьмя детьми уже два года как проживала в Токинске у своей матери, в доме тетке Марии и настойчиво звала мужа присоединиться к семье и заняться учительством. В городе как раз открывалась средняя школа и требовались учителя, но не самоучки, а с хорошим образованием и у Ивана Петровича были все основания получить учительскую должность.
Молодое советское государство, настойчиво борясь с неграмотностью населения, одновременно готовило специалистов во всех отраслях народного хозяйства, чтобы преодолеть вековую отсталость страны от Европы, создать промышленность, поднять сельское хозяйство, и этим обеспечить улучшение жизни всех слоев населения, как и обещалось в Октябрьскую революцию но не было исполнено и спустя семнадцать лет. Конечно, была вина гражданской войны и послевоенной разрухи, но кто из простых людей будет слушать объяснения власти живя впроголодь в бараке, разутый – раздетый и занимаясь изнурительным и тяжким физическим трудом для подъема страны, в ущерб личной жизни? Никто!
Вот и Иван Петрович, не верил в посулы власти о лучшей жизни для всех, но наблюдая стремление простых людей к грамотности и образованию понимал, что именно через грамотность и образованность народа можно, упорным трудом, изменить жизнь к лучшему и, как учитель, он готов был все свои силы и знания отдать людям, несмотря на классовые различия между ним – дворянином и работными людьми, тянущимися к знаниям.
На ближней к городку железнодорожной станции Иван Петрович, в полдень, сошел с поезда с двумя увесистыми фибровыми чемоданами, которые поставил на скамейку у пристанционного здания и, глядя вслед уходящему составу, стал решать, как бы добраться до городка – куда было, без малого, семьдесят верст по раскисшему под весенним солнцем большаку.
В царские времена извозом здесь занимались местные купцы, которые обозами подвод на лошадях перевозили товары и людей от этой станции к уездному городку. По слухам, именно купцы в прошлом веке подкупили устроителей железной дороги, заставили их проложить дорогу именно через это село – станцию, чтобы не лишиться барышей от извоза. Нынешняя власть разогнала купцов – извозчиков и бывший уездный город – цель, поездки Ивана Петровича, остался без постоянного транспорта до Омска и этой железнодорожной станции.
Приходилось, рассчитывать только на попутную повозку и Иван Петрович, взяв чемоданы, направился на большак в надежде перехватить телегу или бричку с лошадью в попутном направлении. Идти пришлось совсем немного: большак на Токинск начинался сразу за станцией и, изогнувшись улицей приземистых домов, скрывался в березовой роще, которая начиналась сразу за крайними избами, где Иван Петрович и остановился, выбрав сухое место для своих чемоданов.
В этих чемоданах Иван Петрович вёз всё свое достояние, что удалось заработать за годы скитаний в Подмосковье и на что он рассчитывал оказать помощь семье в первое время проживания здесь в Сибири. Это были кое-какие вещи, ювелирные изделия и антикварные вещицы, которые можно было обменять на местном рынке на одежду и продукты даже в таком захолустной городке, как Токинск.
Простояв у дороги около часа, он решил было, что сегодня уехать не удастся и следует идти устраиваться, где-нибудь на ночлег, как вдали показалась повозка. Каурой масти тощая лошаденка понуро тянула за собой телегу, скользя копытами по дорожной грязи. Когда повозка поравнялась, Иван Петрович жестом показал лошади остановится, что она охотно исполнила. Возница – затёртый мужичонка в изношенном нагольном полушубке и стоптанных валенках, на которых сверкали чёрным лаком новенькие галоши молча уставится на городского жителя, каковым, несомненно, считал Ивана Петровича с его чемоданами.
– Вы случайно не в Токинск путь держите? – спросил Иван Петрович возницу. Мужичонка, подождал, обдумывая вопрос и вдруг оживившись, ответил: – Именно туда и еду, везу гвозди для нашей строительной артели, эти вот, -показал он на ящики, лежавшие на телеге. – А вам барин, какая надобность спрашивать меня, куда я еду?
– Какой же я барин,– запротестовал Иван Петрович, я учитель, и мне надо добраться до города, где живёт моя семья. Не прихватите попутчика? Я заплачу сколько надо.
– Мужичонка опять помолчал, с сомнением посмотрел на свою лошаденку и на чемоданы Ивана Петровича, выглядевшие солидно и увесисто, и выговорил: – Однако, моя лошадь не потянет по такой грязи вас и чемоданы вдобавок к гвоздям. И так плетётся еле-еле: всю зиму прокормилась на одном сене, без овса, вот и нет силы у неё тянуть телегу. Думал с утра выехать по заморозку, но не удалось получить гвозди пораньше, а сейчас по распутице, не езда – сплошная маета.
– Я могу и пешком идти, рядом с телегой, лишь бы чемоданы не нести, – попросился Иван Петрович у мужика. Тот опять помедлил, посмотрел на чемоданы, на лошадь и решил: – Однако, кладите барин свои чемоданы в телегу, а сами идите рядом: авось и доберемся до хорошей дороги, там и сами подсядете, глядишь, завтра к вечеру и доберёмся до города.
Иван Петрович, не медля минуты, подхватил чемоданы и забросил их на телегу. Возница понукнул лошадь, та напряглась и медленно потянула телегу по большаку, осуждающе косясь глазом на идущего рядом человека, который добавил ей в поклажу свои чемоданы.
Через несколько минут лошадь вытянула телегу за околицу, где дорога была получше: от близко подступивших березовых колков солнце не прогревало землю и на дороге, местами, сохранялся мерзлый наст не подтаявшей земли. Лошадь бодрее потянула телегу, и Ивану Петровичу тоже пришлось ускорить шаг, держась сбоку за край повозки.
Так он прошагал с час и начал прихрамывать – дала знать о себе старая рана, полученная в гражданскую войну. Возница, который молчал всё это время, заметив хромоту попутчика, обеспокоился: – Что-то вы барин хромаете, так мы далеко не уедем, наверное, ноги натёрли с непривычки к пешему ходу, надо бы переобуться, – и он, натянув вожжи, остановил лошадь.
– Нет, нет – запротестовал Иван Петрович, – едем дальше. Это старая рана разыгралась, но потом пройдет, ничего страшного.
– Ну, вам, барин, виднее, – ответил мужичок и, понукнув лошадь, продолжил путь.
– Я же сразу понял, что вы из бывших господ, наверное, офицер: вот и рана у вас от войны имеется, – рассуждал он.
– Сейчас может и учитель, а раньше точно офицером были. Эх, зря я вас прихватил в дорогу! Как – бы неприятностей не схлопотать. Документы– то, у вас барин имеются?
– Да не опасайтесь вы, точно я учитель. И документы есть у меня, и семья моя живёт в городке за речкой, напротив церкви и за дорогу я заплачу, – успокаивал Иван Петрович подозрительного мужичка, который продолжал называть его барином.
– Как жизнь в городе? Налаживается? Я не был здесь много лет. А был членом уездного совета, потом Колчак нас арестовал. Так и закрутило – завертело. И вот пришла пора возвращаться, – объяснял он мужику, чтобы снять его опасения и подозрения. Тот успокоится и предложил сесть Ивану Петровичу в телегу, когда повозка въехала на промёрзшую полосу дороги, протянувшуюся вдоль леса, в котором лежал снег, еще не подвластный апрельскому солнцу и выстуживающий дорогу.
Лошадка, ступив на твердую землю, ободрилась и без натужного усилия тянула телегу даже с дополнительной поклажей в виде присевшего в неё Ивана Петровича.
Через пару вёрст дорога вышла на обширную пустошь, вновь появилась липкая грязь и Иван Петрович, соскочив с телеги, опять зашагал рядом. Мужичок, оценив поступок, успокоился окончательно и начал рассказывать о жизни городка, куда он перебрался пять лет назад, в разгар коллективизации, из ближней деревеньки, и стал работать в строительной артели, для который и вёз три ящика гвоздей из станционных складов.
Артель эта поначалу рубила дома и избы для горожан по их заказу или заказу властей, а два последних года начали строить скотные дворы в колхозах для коров и лошадей, навесы для обмолота зерна и прочие немудрёные постройки.
– Работы хватает, успевай только поворачиваться, – рассказывал мужичок,– ты не гляди, что я мелкий, топором владею, нате – будьте, а за гвоздями послали взамен заболевшего конюха, потому и лошадёнка не привыкла ко мне. Вот вернусь в артель и снова за топор: не моё это дело -лошадью управлять.
– Как звать – то вас?– спросил Иван Петрович мужика, шагая рядом и держась за край телеги.
– Иваном кличут, – ответил возница, доставая кисет с махоркой и сворачивая самокрутку из обрывка газеты, заботливо сложенной в несколько слоев так, чтобы удобно было отрывать на одно курево.– Курите и вы, барин, угощайтесь табачком самосадом, сам табак рощу, сушу и сам режу махорку – такая забористая получается, даже глаза слезятся, когда курю.
– Спасибо я не курю,– ответил Иван Петрович, – меня тоже Иваном звать, так что мы тёзки, и перестаньте называть меня барином, а то в селе, куда мы скоро доберёмся, и впрямь подумают, что я барин, какой – то из бывших. И мне и вам, Иван, неприятности ни к чему.
– Ладно, Иван – учитель, будь по вашему, только негоже учителя называть по имени. Учителей, как и попов, следует называть полностью, по имени – отчеству.
– Полностью будет Иван Петрович Домов, учитель истории, бывший командир Красной армии, – сказал Иван Петрович, умолчав о своей недолгой службе у белогвардейцев.
– Вот и ладно будет, Иван Петрович, – приободрился возница, услышав о службе в Красной армии.
– Только мил человек, скажи мне, что за историям таким ты людей учишь? Невдомек мне: учился я в церковно – приходской школе, грамоте обучен, письму, арифметике, а вот про истории что-то не слышал.
– Я Иван, про то учу, как люди у нас в России и в разных странах жили раньше, что делали, как страна наша образовывалась и какие знаменитые люди были раньше. Нужно знать свою страну и свои корни, чтобы чтить своих предков и не совершать таких ошибок, которые делали они. Вот ты, Иван, помнишь своих дедов, наверное?
– Нет, Иван Петрович, не помню. Дедки и бабки померли, когда я еще маленьким был. Знаю только, от отца, что предки перебрались сюда в Сибирь из Малороссии еще при Александре Третьем, как и где жили там, не знаю ни я, ни мой отец – батюшка, царствие ему небесное. Грамотных в роду нашем почти не было, только отец мой и я грамоте в Сибири обучились, потому и записей о родственниках никаких не осталось. Знаю от отца, что мой прадед был из казаков, не крепостной и здесь считался казаком войска Сибирского.
– Выходит, что ты есть Иван – родства не помнящий, как в русских сказках говорится. Ну а сестры и братья есть? – продолжал расспрашивать мужика Иван Петрович, снова присев на телегу.
– Как не быть, есть, конечно, два брата и сестра. Сестра живет здесь же в деревне, замужем и трое детей, теперь работает в колхозе. А где братья не ведаю: одного Колчак забрал в армию, и он там сгинул – ни слуха, ни духа, а другой к красным примкнул и тоже пропал. Они сильней меня были, а я по своей хилости на войну не попал, вот и уцелел при всех передрягах. А что дедов не помню, так то, не беда – на том свете свидимся, хотя я и не шибко верующий по нынешним временам.
Незаметно, за разговорами, повозка миновала небольшую деревеньку, протянувшуюся единственной улицей вдоль дороги, и путники снова углубились в прозрачный березовый лес, обступивший дорогу с двух сторон.
Дорога была малоезженая: только две-три колеи от телег виднелись на чуть подтаявшей, под склоняющимся к западу апрельским солнцем, глине вперемежку с черноземом. Видимо, прошлым летом, здесь прошелся трактор с мощным плугом, который, вывернув пласт земли на дорогу, образовал по обочинам глубокие канавы, сейчас затопленные вешними талыми водами, для которых не было стока. Местность в этих местах была совершенно ровная и гладкая, без пригорков и уклонов, лишь вдалеке на открытых местах виднелись чаши озер, покрытых зеленоватым и ноздреватым апрельским льдом.
Иван – возница, сидя на телеге, порылся в холщовом мешке и достав оттуда кусок хлеба и кусочек сала, стал есть, поочередно откусывая хлеб и сало. Иван Петрович тоже почувствовал голод, но перекусывать было нечем: утром он попил в поезде чаю с пирогами и картошкой, которые купил поутру на ближайшей остановке поезда прямо у вагона поезда у одной из старушек, которые с корзинами обходили вдоль поезда, предлагая пассажирам пироги и плюшки. Но пироги были съедены и он, сойдя с поезда, не озаботился на станции приобрести даже хлеба.
Иван – возница сочувственно посмотрел на устало шагавшего рядом с телегой Ивана Петровича, снова порылся в своем мешке и постав еще кусок хлеба и кусочек сала предложил их своему попутчику, добавив: – На, перекуси и ты, мил человек, но вечером, на постое в селе, вам придется оплатить хозяевам и ночлег наш и ужин. Уж не обессудьте, но мне нечем расплатиться за постой: видите, купил себе галоши на валенки и поиздержался. – И он горделиво показал на свои новые галоши, надетые на старые латаные валенки.
Подкрепившись и попив воды из фляжки, поданной ему возницей, Иван Петрович приободрился и продолжил путь, когда пешком, когда присаживаясь на телегу, где дорога было получше. Березовые леса то подходили к самой дороге, то удалялись к горизонту, открывая обширные поля и пустоши, лишь местами покрытые потемневшими остатками снежных сугробов, накопившихся за долгую сибирскую зиму.
Иван – мужичок, обернулся, и, показывая на почти оголившиеся от снега поля, пояснил: – Нынче много снега была зимой и на полях намело, всё никак не растает, а много весенней влаги – значит быть урожаю хорошему, если засухи в июне месяце не будет и майских заморозков. Земли вон сколько: паши и сей, как снега сойдут, и установится тепло. Надо только угадать, чтобы ни припоздниться с севом пока земля держит влагу, но и не поторопиться, чтобы ни попасть под заморозки.
Есть в деревнях старики, которые могут указать точно, когда сев вести надо, только мало их нынче кто слушает. Образовался колхоз в моей деревне, туда прошлым годом прислали трактор, он вспахал за ночь сколько смог и, не дожидаясь срока сева в другой колхоз переехал, а сеяли, конечно, лошадьми.
Надо сказать, что прошлый год выдался урожайным на зерно и люди приподнялись в колхозах. А вот в позапрошлом году засуха здесь была, рожь и пшеница выгорели, картошка тоже не уродилась, сено и то заготовить негде было: зимой скотину вениками березовыми кормили в колхозах и на подворьях – где коровы уцелели. Народ почти голодал, а в прошлом году ничего, справно с харчами было.
Вот так берёза помогла спасти скот. Мне отец говорил, что слышал он от деда, будто здесь раньше береза не росла, а появилась она вместе с русскими людьми, которых привёл Ермак Тимофеевич: казахи местные так и говорили, что пришел белый человек, и с ним появилось здесь белое дерево.
Только сомневаюсь я этим рассказам: получается, что в те времена здесь и лесов совсем не было: иначе куда бы делись сосны и ели? Ведь этих лесов здесь нет на сотни вёрст вокруг. Наверное, здесь степь была сухая без озер и лесов, потом береза и осина прижились, низины заполнились водой– так появились озера и болота и стало, как сейчас нам видится, – продолжал рассуждать мужичонка, разговаривая вслух о географии местности.
Иван Петрович то шёл, то присаживался на телегу, иногда вступая в разговор и расспрашивая о подробностях местной жизни в которой он намеревался принять участие спустя много лет.
Оказалось, что уклад жизни здесь почти не изменился после революций и гражданской войны: угар потрясений прошел, и новые веяния появлялись и приживались здесь постепенно, прорастая, как весенняя трава сквозь дёрн отживших свое предыдущих наслоений и нравов. Единственно, что сильно встряхнуло жителей этих мест, стала коллективизация крестьян в колхозы, однако, общественное ведение земледелия в этих местах было присуще и прежде, поскольку частной собственности на землю почти не было, земля и леса вокруг деревень принадлежали общине и распределялись среди семей по едокам – по лицам мужского пола. А далее семья сама распоряжалась доставшимися ей по жребию угодьями, или несколько семей сговаривались и совместно засевали поля, убирали урожай и делили его по работникам и лошадям. Теперь то же самое, стали делать и в колхозах, только часть урожая надо было сдать государству, как налог на колхоз вместо прежнего налога на двор.
– А как в деревне, откуда вы родом, идут дела? – поинтересовался Иван Петрович.
– Дела как сажа бела, – ответил Иван – возница. У нас деревня не– большая, всего 50 дворов, богатеев не было, из зажиточных – один двор Малышевых и как начали колхоз организовывать, так Малышев Степан, старший, лошадей сразу в колхоз свёл и сам с семьей вступил туда – потому его и не раскулачили, а собранием выбрали председателем и как было раньше, так стало и сейчас: что Малышев скажет – то они и делают.
У него и магазин был в деревне, так теперь там школу образовали и учителку прислали издалека, чтобы детишек грамоте учить. В прошлом годе весной трактор прислали – он помог вспахать новые земли и год урожайный выдался, зерном сельчане затарились, разрешили на двор по корове держать, ну там ещё свинью на картошке и отрубях откормить, а мясо на рынке в нашем городе можно было продать, вот народ и повеселел.
Наша артель там два дома новых поставила прошлым летом, а до того лет десять ни одного дома никто не построил. Если строиться, начали – значит, жизнь налаживается, а мне всё одно: что нонешняя власть, что прежняя – лишь бы людей не мучила и жить давала. Нонешняя власть, кажись, получше царской будет: сначала круто завернула, а теперь помягчела, дай бог и дальше так.
За этими разговорами путь коротался незаметно, и на закате солнца вдали показалось большое село, где и ожидался ночлег.
Лошадь, завидев село, тоже заторопилась, видно помнила, что два дня назад останавливалась здесь на ночлег и получила хорошую охапку сена и ведро овса в колоду.
Въехав в село, Иван – возница свернул с дороги к крайнему дому с обширным двором, соскочил с телеги, по – хозяйски открыл ворота и, взяв лошадь под уздцы, завел повозку во двор, где уже стояли две телеги, а распряженные лошади, привязанные к коновязи, хрустели сеном. Из сеней дома – пятистенка вышла пожилая женщина, почти старуха, всмотрелась в приезжих и, узнав в Иване своего недавнего постояльца, разрешительно махнула ему рукой.
Иван распряг лошадь, привязал ее рядом с двумя другими, взял с телеги большую охапку сена и бросил его в кормушку, сколоченную из жердей вдоль коновязи. Затем он взял с телеги ведро, прошел с ним к колодцу в конце двора, поднял воротом полное ведро воды и, перелив воду в свое ведро, поднес его к морде лошади, которая неторопливо напилась после долгой дороги. Иван – возница снова набрал воды и, поставив ведро под морду лошади, пододвинул к ней порожнюю колоду, куда насыпал с полведра овса из мешка, лежавшего на телеге. Посчитав свою заботу о лошади выполненной, он пригласил Ивана Петровича за собой в дом, указав прихватить чемоданы.
– Перевяжите чемоданы веревкой, чтобы нельзя было открыть сразу, – посоветовал он Ивану Петровичу,– и поставьте их в сенях. Хотя баловства и воровства здесь не случалось, но так спокойнее будет и без соблазна, – пояснил возница. Хозяйка живет здесь одна, немощная уже и без хозяина, который сгинул в гражданскую у Колчака. Тем и живет, что дают постояльцы навроде нас. Раньше, при царях, здесь в центре села была заезжая изба, где кучера останавливались, а нонешняя власть извоз ещё не наладила: вот хозяйке и разрешили постой заезжих и соседи не против.
Иван Петрович обвязал чемоданы пеньковой бечевой, которую дал возница, достав ее из своего дорожного мешка на телеге, занёс чемоданы в сени и вошел в дом следом за своим провожатым.
Он оказался в небольшой кухоньке, четверть которой занимала русская печь с лежанкой. Справа от входа на соломе лежал теленок – сосунок, которого после отёла коровы занесли в дом, чтобы не замерз ночными холодами, у окна стоял стол, за которым сидели двое мужиков – кучеров за вечерней трапезой. На столе стоял чугунок с варёной картошкой, крынка с молоком, каравай хлеба и глиняное блюдо с солеными огурцами и квашеной капустой. Хозяйка с ухватом хлопотала у топившейся печи. Всё это освещалось керосиновой лампой, подвешенной на цепочках над столом.
– Присаживайтесь, присоединяйтесь добрые люди, – пригласила новых постояльцев хозяйка, – как раз к ужину поспели, и она поставила на стол ещё две плошки под картошку. Сидевшие за столом мужики подвинулись, и Иван Петрович со спутником присели на табуретки к свободному краю стола.