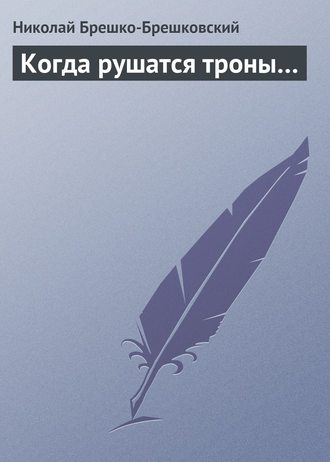
Николай Брешко-Брешковский
Когда рушатся троны…
18. Их роман
Хотя ценой совместных усилий Зиты и ее супруга сделано было все, чтобы скандал не вышел за пределы четырех стен спальни, однако же он проник в общество и, если не во всей своей пикантной красоте, то все же в салонах Бокаты определенно говорилось, что маленькая Зита как была, так и осталась девственной, и Рангья, желавший настоять на своих правах мужа-собственника, потерпел фиаско. О Зите затоворили как о феномене, вроде сиамских близнецов. Зита разжигала любопытство мужчин. Всегда окруженная поклонниками, она теперь не имела от них отбоя. Все самое родовитое, блестящее, богатое, щеголяющее золотым шитьем придворных и гвардейских мундиров, было у ее маленьких ножек.
Обещания Зиты, данные жениху какой-нибудь месяц назад в квартире Паулины Гварди, сбывались одно за другим. Рангья все больше и больше проникался уважением к Зите. Убеждался, что миниатюрная золотистая блондинка эта не бросает своих слов на ветер. Действительно, благодаря жене Рангья приобрел такие связи в обществе, о которых и мечтать не смел раньше. Действительно, благодаря Зите положение его при Дворе, где она имела успех, упрочилось. Левантинец-выскочка темного происхождения так мечтал попасть в высшие сферы. И он попал туда, попал не как министр, а как муж очаровательной Зиты. Королева Маргарета обласкала ее. Даже сдержанно-застенчивая принцесса Лилиан отнеслась с мягкой, ободряющей благосклонностью к госпоже Рангья. Что же касается короля, то он с первой же встречи обратил на нее внимание. Это было на одном из придворных балов. Хотя Пандурия считалась страной демократической, однако придворный этикет отчасти напоминал традиции испанских Бурбонов и Габсбургов. Например, дамы должны были целовать руку монарху Пандурии, как это принято в Испании. Только происхождение этого обычая другое, нежели при мадридском Дворе.
Династия Ираклидов, вышедшая из глубины азиатских степей, принесла в Европу и свои азиатские нравы. Пандурские женщины как низкие существа, как рабыни, подобно всем восточным женщинам, смиренно подползая на коленях, целовали руку своим вождям. Спустя тысячу лет изменилась лишь форма, традиция же осталась. Дамы высшего пандурского общества не подползали к своему королю на коленях, а, сделав по всем правилам глубокий реверанс, которому учил их балетмейстер, подходили к руке Его Величества.
Если у Зиты осталось впечатление волшебного сна от воинского парада на поле Беллоны, то ее первый дворцовый бал чудился ей еще более упоительно-волшебным. Она даже не могла вспомнить, в какую форму был одет король. Он весь был для нее тем же самым сияющим полубогом, мчавшимся вдоль фронта с леопардовой шкурой за спиной.
Церемониймейстер маркиз Панджили в тяжелом от густого золотого шитья, подобном кирасе, вицмундире, в коротких панталонах и в белых чулках, обтягивавших его дряблые икры, жеманный, манерный, с напудренным лицом, напоминающий версальского петиметра, не без величия играя своей церемониймейстерской тростью, называл королю представлявшихся дам. И когда пришла очередь госпожи Рангья, она вспыхнула, вся так вспыхнула, что горячо покраснели и ее большой выпуклый лоб, и лицо, и задрожавший подбородок, и шея, и обнаженные плечи, и полуобнаженная грудь. А она, смутно услышав произнесенную фамилию свою, смутно видела красивое, удлиненное, смугло-матовое лицо с темными миндалевидными глазами. Это лицо ослепили сверкнувшие в улыбке ослепительные зубы. И она улыбнулась в ответ. Улыбнулась как-то восхищенно-кротко, умоляюще, словно отдавая себя всю молодому человеку, властным жестом протянувшему ей свою руку, чтобы она коснулась ее алыми, горячими, трепещущими губами…
Потом, уже в разгар бала, сам король подошел к ней:
– А я вас помню. Два года назад я видел вас на параде. С какой-то дамой вы сидели в трибунах. На майском солнце ярким золотом ваши волосы горели, как сияние…
– О, Ваше Величество, неужели вы меня помните? – пролепетала она, вся зардевшись вновь, и вновь что-то умоляющее, кроткое было в потемневших глазах, ставших из светлосерых темно-синими, и в тонкой линии губ чуточку искривленного и от природы, и от нервной судороги маленького рта…
Адриан уже отошел к другой даме, а Зита продолжала стоять, смущенная, счастливая каким-то неземным блаженством, не замечая подобострастно вертящегося около нее мужа, не замечая завистливых поздравлений и приветствий.
Так начался их роман.
Потерявший невинность свою в опытных объятиях маркизы Панджили, престолонаследник Пандурии недолго оставался аскетом. Горячая, буйная кровь степных наездников не давала покоя, искала выхода. И, сосланный отцом и матерью во Францию, подальше от страшной Мариулы, Адриан, будучи воспитанником Сен-Сирской школы, увлекался такой же, как и он сам, юной танцовщицей из Большой оперы.
Именно увлекался. Его не тянуло к женщинам вообще. Его тянуло к той избраннице, в которую он влюблялся или которая хотя бы нравилась ему. И в свой Сен-Сирский период и позже, когда из престолонаследника сделался королем, он, отдавая необходимую дань темпераменту, однако, не подчинялся ему всецело.
Между ним и женщинами становился спорт. В верховую езду, в теннис, в фехтование, в плавание, в легкую атлетику, покрывавшую мускулами стройное, молодое тело – вот во что и на что уходил избыток здоровья и животной производительной силы. Спорт оберегал его от распущенности, зовущейся развратом, или от разврата, зовущегося распущенностью. И этот же самый спорт, полный физического движения, полный близкого, облагораживающего общения с природой, сберег и сохранил чистую душу Адриана, сберег и сохранил ее для настоящего, хорошего чувства.
Таким настоящим, хорошим чувством полюбил он Зиту. Будь у нее другой супруг, Адриан, пожалуй, затаил бы в себе все то, что внушала ему Зита, затаил бы из гордости. Он презирал бы сам себя, если б, пользуясь своим исключительным положением, взял в любовницы жену одного из министров. Делить ее вместе с ним? Какая гадость! И еще большая гадость сознавать, что эта жена отдается ему потому, что он король, король, от которого оба супруга ждут великих и богатых милостей.
Но в данном случае все, решительно все было совсем по-другому. Он знал, что Зита влюбилась в него давно. Влюбилась, даже не смея мечтать о встрече. Знал, что она еще невинная девушка. Знал, что делить ее ни с кем не придется и что Рангья внушает ей непреодолимое отвращение. За всю четырехлетнюю связь единственный раз обратилась к нему Зита с личной просьбой, да и то с каким смущением и с какими оговорками, и вообще чего это ей стоило! Рангья умолял ее на коленях, униженно целуя отдергиваемые руки, умолял выхлопотать ему у короля баронский титул. Еще бы, непроходимо глупо было бы, с его точки зрения, не использовать роман призрачной жены своей с Его Величеством…
Он притворялся, – ему больше ничего не оставалось делать, – что закрывает свои восточные, в тяжелых набухших веках, глаза на отношения между Зитой и Адрианом. На самом же деле он ревновал жену к ее царственному любовнику. Ревновал по-своему, с глухим, скрытым бешенством левантинца, навсегда обожженного знойным смирнским солнцем. Никаких тонких, извилистых переживаний в его ревности не было. Это была ревность восточного рабовладельца. Не самый факт измены мучил его, а мучило, что Зита, сломившая его, покорившая раз навсегда силой своей воли, умевшая быть с ним жестокой, недосягаемой, презирающей, эта самая Зита с Адрианом была детски-женственна, кротка, мягка, нежна. И всегда потом, всегда сопоставлял Рангья два момента…
Один – когда Зита прогнала его, гневная каким-то холодным, уничтожающим гневом, такая сильная в миниатюрной хрупкости своей. Другой – когда на первом ее придворном балу она улыбалась своему полубогу с потемневшими, восхищенно-умоляющими глазами и таким же восхищенным маленьким ртом…
О, министр путей сообщения никогда не забудет этой знаменательной, бьющей его, как хлыстом, параллели. Никогда… Только бы представился удобный случай, он отомстит…
19. Жребий брошен
Все надежды, все мечты о будущем, «их будущем», разбивались о королевскую мантию Адриана, как если бы это была не мантия, а гранитная скала.
Ах, зачем он король, а не самый обыкновенный смертный? До чего все было бы легко и просто! Она развелась бы со своим министром и ушла бы к тому, кого полюбила. Но в данном случае, в том-то и весь ужас, что монарх не может, не имеет права остаться холостяком навсегда. И как ни оттягивал Адриан женитьбу свою, дамокловым мечом висела она над ним.
Зита хорошо знала взгляды своего Адриана. Предполагаемая, неизбежная в конце концов женитьба короля – это больное место для обоих – неоднократно бывала темой бесед. Адриан высказывался так:
– Не будем закрывать глаза на то, чего, к сожалению, никак не избежать. Но это будет брак не по любви, – я люблю тебя и только тебя… Дорогая Зита, нам пришлось бы с тобой расстаться, хотя бы ценой большого неутешного для меня горя…
– Для нас обоих, – с тихой тоской и умоляющей, кроткой, светящейся улыбкой добавляла Зита.
– Для нас обоих, – повторял он. – Я не считаю грехом изменить нелюбимой жене, чуть ли не силой навязанной мне, только для того, чтобы у нее родился от меня сын. Такая измена – не грех. Но я слишком люблю тебя, слишком берегу и ценю мое к тебе чувство… Из вынужденных объятий далекого и чуждого мне существа в тот же самый день или на другой – не все ли равно – ласкать тебя… брать твои ласки?… Никогда. Может быть, это смешно, глупо… Может быть…
После некоторой паузы, вдумчивой, длительной, как бы что-то собирая в глубине себя, Зита тихо, по обыкновению тихо, ответила:
– Нет, дорогой, это не смешно, – это прекрасно! Я ничего другого не ожидала услышать… Ты рыцарь, рыцарь с головы до ног. Ты именно тот самый очаровательный принц, который волновал мое детское воображение в красиво переплетенных книжках с наивными цветными картинками. Но я, Адриан, я другая, чем ты… Я хуже тебя, и любовь моя – более грешная… Откровенно говоря, я сама не знаю, что меня больше влечет к тебе – мужчина или человек с высокой, благородной душой… Иногда мне кажется – и то, и другое вместе, неразделимое, гармонично переплетенное, а иногда….
И умолкнув, стыдливо, робко-умоляюще, горячо вспыхнув вся, спешила она спрятать на его груди личико, спешила крепко прильнуть к нему и пышно-золотистой головкой, и всем гибким, трепещущим телом.
Чтобы удержать Адриана, готова была Зита делить его между собой и будущей королевой. Только бы не ушел! Когда он уйдет, и свет, и солнце погаснут в ее меняющихся глазах.
От королевы Зита уехала в министерском автомобиле. Шофер спросил:
– Баронесса прикажет ехать домой?
– Нет, нет! – испугалась Зита.
Одиночество будет угнетать ее еще больше. Нет, пусть будет улица, толпа, шум, солнечный свет. Она сказала шоферу:
– Я хочу подышать воздухом.
Напрасно думала, что прогулка развеет хоть немного мрак больной, сжавшейся в нервный комочек души. Наоборот, всюду разлитая кругом яркая жизнерадостность беспечным ликующим равнодушием своим лишь оттеняла горе Зиты. Она никак не могла понять: сейчас заставили ее, – сама себя заставила, – уйти, отречься от любимого человека. В апартаментах королевы в несколько минут совершилось что-то громадное, непоправимое. Разбилась жизнь, жизнь ее, Зиты… А звенящие трамваи, пешеходы, коляски, автомобили спешат, как всегда. И, как всегда, зыблется жидким серебром густая синь моря. И, как всегда, прекрасны темно-зеленые колоннады игольчатых кипарисов мусульманского кладбища. Зита машинально отвечала на поклоны мужчин, жадно впивавшихся в нее глазами, дам, кивавших с лицемерной заискивающей приязнью… По губам Зиты пробегала ироническая улыбка… Завтра, послезавтра, через несколько дней узнают они, что между ней и Адрианом все кончено. Узнают, что маленькая Зита уже не любовница Его Величества. О, как будут злорадствовать унижавшиеся перед ней дамы, и как сразу обнаглеют мужчины…
О, до чего теперь ей все равно это… Она презирает одинаково и тех и других, и тем и другим зная настоящую цену…
Шофер, пронизав европейские улицы и площади, взбирался по булыжной мостовой мусульманских кварталов, чтобы, спустившись к морю, помчаться вдоль берега.
Зита приводила в порядок невеселые мысли свои. Горевать она успеет. Горе будет затяжное, как трудная мучительная болезнь. А сейчас необходимо обдумать план действий. Он должен быть ясен и прост, убийственно прост для обоих – для нее, Зиты, и для него – Адриана. Необходимо, не теряя времени, выбрать кого-нибудь из толпы окружающих ее поклонников. И выбрать не лучшего, а наоборот, выбрать того, кого она никогда не приблизила бы к себе, никогда, если бы даже ее сердце было свободно, как ветер.
И, держа его на почтительном отдалении, на людях она умышленно будет себя компрометировать. Будут говорить, что маленькая Зита увлекается таким-то… Кем – она сама еще не знала. Не знала до случайной встречи минуту спустя. Обогнав ее на дорогом шестиместном «лимузине», раскланялся наилюбезнейшим образом плотный и крупный, бритый, полнолицый мужчина семитско-восточного типа.
Самый богатый человек во всей Пандурии, «эспаниол» – потомок евреев, выходцев из Испании, – дон Исаак Абарбанель. Покойный дед его, седобородый старик с красными, гноившимися глазами, в длинном халате и в лисьей шапке имел в Салониках меняльную лавку – полутемную щель, куда шумной гурьбой втискивались матросы превращать фунты, франки и доллары в турецкие лиры. А внук сетью банков своих покрыл всю Пандурию, поставлял военно-морскому и железнодорожному ведомствам уголь из своих копей и нефть из своих промыслов.
Больше двадцати многоэтажных домов в Бокате принадлежало дону Исааку. Принадлежали ему самые красивые женщины, которых он покупал, не жалея денег и бриллиантов, платя широко и щедро.
Зита Рангья весьма и весьма ему нравилась – и сама по себе, как может нравиться черномазому «эспаниолу» ослепительно-белая блондинка, и как любовница короля, и как жена министра.
Он готов был бы с ног до головы осыпать ее золотом, как Зевес осыпал Данаю, за право хотя бы только показываться вместе с ней.
Он бывал в доме министра путей сообщения. Рангья гнулся перед ним, как гнулся перед всем, что было деньгами и властью. Исаак Абарбанель с цинизмом привыкшего все позволять себе, избалованного человеческой подлостью нахала говорил Зите с глазу на глаз:
– Баронесса, одно ваше слово из двух букв, – это слово «да», – и я окружу вас роскошью, какая не снилась еще никому в Пандурии. Одно только слово… Скажите «да». Ваш ответ?
– Мой ответ, – с холодным, презрительным спокойствием молвила Зита, – убирайтесь вон и не смейте больше переступать порога моего дома!
Он умолк смущенный, оторопевший, быть может, в первый раз в своей жизни. Это было на днях. А сегодня дон Исаак Абарбанель раскланялся как ни в чем не бывало…
И не только раскланялся, а еще велел своему шоферу замедлить ход. На что рассчитывал он? Самое большее – на гневный, презрительный взгляд светлых очей, умеющих, – он это знал, – метать великолепные синие молнии. На лучший конец, а на худший – пожалуй, не взглянет даже. Это еще оскорбительней.
– Мне все равно, мол, что столб фонарный, что ты, Исаак Абарбанель, со всеми твоими миллионами, банками, лесами, углем и нефтью.
Но каково же было удивление тридцатидвухлетнего богача, когда баронесса, приветливо ему кивнув, дала знак остановиться. Абарбанель с чрезмерной для его большой, полной фигуры поспешностью и быстротой, выскочив из своего «лимузина», разлетелся к ручке Зиты.
– Дон Исаак, вы меня совсем забыли… это нехорошо, – и она слегка погрозила ему.
Он с полминуты ничего не мог ответить. Ну, можно ли так издеваться над человеком? Давно ли она его так коварно выгнала. А сегодня вдруг: «Вы меня совсем забыли…»
Освободившись, однако, от одеревенелого состояния, Абарбанель, сообразив, что подули какие-то новые ветры, овладел собой. Тотчас же к нему вернулась обычная для него наглость избалованного человека.
– Я все эти дни был очень занят. Да и теперь… Но по одному мановению ваших волшебных пальчиков, баронесса, я готов забросить все дела и…
– И поэтому я жду вас сегодня от 5 до 6. Приезжайте, будем пить чай… поболтаем…
– О!.. – только и мог воскликнуть дон Исаак.
Поощряющий блеск лучистых глаз. Мелькнула затянутая в перчатку миниатюрная ручка, и дон Исаак остался один посреди набережной. Зита была уже далеко…
20. Террорист с волчьим лбом
Шеф тайного кабинета, сорокалетний румяный молодой человек с бегающими глазами и с бритой головой, Артур Бузни делал обычный утренний доклад свой премьер-министру.
– Близится высокоторжественный день, милый Бузни. Уже отовсюду съезжаются гости. Во дни таких торжеств эти революционеры всегда выкидывают какую-нибудь гадость… – в лучшем случае, в худшем же – совершают какое-нибудь очередное злодейство. Я всецело полагаюсь на вас, на вашу энергию, на ваше чутье и умение ориентироваться в обстановке…
– Постараюсь оправдать лестное для меня мнение Вашего Сиятельства. У меня будут повсюду глаза, уши и ловкие опытные молодцы, одинаково владеющие как боксом, так и браунингом. Но все же, не скрою, мы не гарантированы от сюрпризов. К нам в Пандурию с каждым днем просачиваются под разными псевдонимами и паспортами большевицкие агенты. Мы их вылавливаем на границе, вылавливаем на территории королевства… Но сколько ни вылавливай, они, эти негодяи, как клопы, плодятся. Я уже докладывал Вашему Сиятельству, что Третий Интернационал, имеющий свою штаб-квартиру и базу в Москве, особенно заинтересован коммунистическим переворотом в Пандурии. Для этого Зиновьев-Апфельбаум располагает крупной суммой, вырученной от продажи сокровищ императорской короны. Часть денег ловкий проходимец и жулик прикарманил, а часть…
Граф Видо закрыл лицо руками.
– Боже, до чего это противно и мерзко! И зачем я еще живу? Отчего я еще не умер? Лучше бы мне умереть несколько лет назад, умереть, когда король Адриан после войны въехал в Бокату и народ в безумном радостном исступлении, в энтузиазме падал на колени и целовал его стремена…
– Помню, помню, Ваше Сиятельство. Незабываемая картина… Я, как вы изволите сами знать, натура далеко не сентиментальная, не романтическая, но и я не мог удержать слез… Но я внесу маленькую поправку, маленькую… Народ – вы сказали. А я скажу – толпа… Но в том-то и вся трагическая загадка, что она, толпа, умеет быть с одинаковой легкостью, одинаковой экспансивностью и народом, целующим стремена вождя или монарха-освободителя, и чернью, способной через месяц, через год, – не все ли равно? – так же стихийно броситься и жечь, и грабить королевский дворец, и требовать голову своего монарха, монарха-победителя, национального героя… И так – всегда… Толпа всюду и везде одинакова… Мгновенно воспламеняется и гораздо чаще бывает буйной хулиганствующей чернью, нежели патриотическим народом. Первое гораздо легче и, кроме того, если даже честные, умные люди в толпе теряют голову и волю, глупеют, звереют, чего же требовать от тех, которые были и останутся подлецами и дураками?.. Если я расфилософствовался, прощу меня извинить… Я вот о чем хотел посоветоваться, вернее, спросить инструкцию Вашего Сиятельства. Сегодня был у меня с предложением своих услуг знаменитый русский террорист Савинков.
– А, этот… профессиональный убийца русских министров и великих князей, – поморщился Видо, – какое он произвел на вас впечатление?
– Внешне – безусловно понравился. Совсем не похож на этих грязных, лохматых русских революционеров. Он корректен и, я бы сказал, даже вылощен. Вылощен в речи, в манерах, в одежде, в белых выхоленных руках. Когда он курил в моем кабинете, я смотрел на его красивые пальцы и мне чудилась на них кровь. Смотрел на его ширококостый, упрямый, волчий лоб и на его львиный профиль.
– Любопытное сочетание, – заинтересовался Видо.
– Сочетание я бы сказал – символическое. Дерзок и смел, пожалуй, как лев, и кровожаден, как волк, и как волк, способен на подлость. Душа волчья! Если бы он не был предателем, если бы ему можно было верить, я без колебания взял бы его к себе в ближайшие помощники. Но, во-первых, он может продать, а во-вторых, он слишком влюблен в себя, чтобы удовлетвориться маленькой ролью. В самом деле, господин этот мечтал сделаться мужицким царем в России, и вдруг – помощник шефа тайного кабинета в Пандурии…
– Однако же этот честолюбец явился к вам.
– Да, потому что, как бы вам сказать, – выдохся! Уже ни французы, ни поляки, ни чехи – никто не дает ему больше денег на его политические авантюры. А деньги нужны. Последним отказал ему, – Савинков из Рима только что, – Муссолини… Вот он и разлетелся к нам попытать счастья.
– Что же он предлагает?
– Предлагает создать свою частную антибольшевицкую агентуру. В конце концов, и сам этот Савинков, и большевики – все же это крысы одного подполья… Многих большевиков-эмиссаров, пользующихся нашим… нашим гостеприимством, – улыбнулся шеф тайного кабинета, – он знает лично. И я нахожу, если за ним следить в оба, он может быть полезен. До поры до времени и… постольку поскольку, – прибавил Бузни, – в случае же чего-нибудь, в случае двойной игры на оба фронта, его всегда можно арестовать или выслать за границу… Словом – обезвредить… Но не использовать его я считал бы…
– Попробуйте…
– На первое время он получит десять тысяч франков. А дальше будет видно по работе…
– Он приехал один?
– С любовницей и с ее мужем… Неразлучное трио.
– А как же обещанная им агентура? Где же его агенты?
– Кой-кого он выпишет, а кой-кого навербует из находящихся здесь русских. Итак, Ваше Сиятельство…
– Я же вам сказал, – попробуйте! Но следите за каждым его шагом.
– О, в этом отношении будьте спокойны…
В час дня шеф тайного кабинета завтракал у Рихсбахера с первым секретарем польской миссии. Этот молодой человек, немного манерный, немного томный, значительно пополнил сведения Артура Бузни о Савинкове.
Благодаря своей дружбе с Пилсудским, – их связывало революционное прошлое, – Савинков создал в Польше нечто подобное государству в государстве. У него были не только свои адъютанты, была не только своя контрразведка, но были даже свои «министры», свои генералы. И те, и другие часами дожидались в приемной, пока «властелин» соблаговолит их принять.
Савинков направо и налево швырял деньги, деньги польской государственной казны. Вся столица говорила о савинковских кутежах. Савинковские сбиры хватали неугодных своему господину русских офицеров и граждан, и те в двадцать четыре часа высылались за пределы Польши.
Самоуверенность Савинкова не знала границ. Однажды министерством иностранных дел перехвачено было письмо Савинкова, адресованное в Париж на имя «дедушки» русской революции Чайковского. В письме этом Савинков хвастался «дедушке», что идет со своим генералом Балаховичем на Москву и при одном имени его, Савинкова, встанет вся Россия, как один человек. Попутно в своем горделивом послании Савинков чернил Врангеля.
Поход на Москву оказался блефом. Дальше Мозыря и Пинска новый тушинский вор не продвинулся. В одном из этих городов благодарное население преподнесло ему еврейскую шубу.
Молча, с неустанно бегающими глазами, слушал все это Бузни. Потом спросил:
– А что-нибудь об его деятельности в России царского периода и тотчас же после революции? Предупреждаю, почти все террористические акты, совершенные им, известны мне…
– А известно Вашему Превосходительству, как он в Севастополе бросил бомбу в адмирала Неплюева?
– Об этом не слышал…
– Как же, это очень… очень интересно… Сам Неплюев остался жив и невредим, но бомба, чудовищной разрушительной силы, – это был парад возле церкви, – разорвалась в самой гуще выстроившихся воспитанниц епархиальной школы. В результате 98 жертв. Девочки в белых платьицах превращены были в какое-то кровавое месиво… Оторванные головы, руки, ноги застряли в листве деревьев, очутились на крышах соседних домов…
– Какой ужас, – проговорил Бузни.
– А дальше; уже в период революции, он присоединился к генералу Корнилову, чтобы раздавить Керенского, но, в конце концов, перебежал к Керенскому, чтобы раздавить Корнилова. Он привык играть чужими головами. Но ему не повезло на этот раз. Социалисты-революционеры выгнали его из своей партии, а Керенский выгнал из военных министров. Выгнал, хотя накануне этот же Савинков сделал большую ему услугу, предательски, через занавеску, застрелив доблестного генерала Крымова… Так говорили… в Петербурге.
В семь с половиной вечера Бузни обедал с Савинковым, тоже у Рихсбахера, но не в общем зале, а в кабинете.
Сверкал белоснежный воротничок. Сияли лакированные ботинки. Голова с волчьим лбом, переходившим в лысину, вымыта была душистой эссенцией. Вылощенные ногти. Вылощенный весь, самоуверенный, надменный. Но сквозь эти самоуверенность и надменность Бузни опытным полицейским глазом своим угадывал озабоченность Савинкова – дадут или не дадут ему несколько тысяч франков.
Бузни впервые наблюдал такого террориста. С иголочки одет. Манеры надушенного бонвивана, знающего толк в кухне и винах. Смакуя, пил Савинков шамбертен, сетуя, что вино скорее теплое, чем холодное. Бузни, глядя на его белые, холеные руки, вспомнил Севастополь, вспомнил детские ножки и головы на крышах и на деревьях…
– Мы воспользуемся вашими… вашей опытностью… – пообещал шеф тайного кабинета, – завтра же вы получите обусловленную сумму…
Сквозь бесстрастную внешность революционера-денди угадывался, по-актерски проглоченный, вздох облегчения.
«А деньги тебе до зарезу нужны», – подумал Бузни.
Уже в конце обеда, в дыму сигар, Савинков сделал новое предложение.
– Располагай я крупными деньгами, я послал бы верных людей в Москву ликвидировать Троцкого и Зиновьева. Пока эти господа живы, не будет покоя в Европе, а, следовательно, и у вас, в Пандурии. У меня уже разработан план… Успех гарантирован… – и холодные, с твердым блеском, жестокие глаза нащупывающе уставились на собеседника.
– В принципе отчего же? Ничего не имею против, – пожал плечами Бузни, – но мы еще успеем вернуться к этому… Сначала я должен увидеть вашу работу здесь, на месте…
Савинков ничего не ответил, только чуть прикусил нижнюю губу. Этот «шеф» третирует его, как простого агента, и надо молчать, надо, потому что нужны деньги.
Давно ли он, Савинков, «учил» Мильерана, Ллойд Джорджа, Керзона, учил, как надо спасать Россию, и они его слушали, вернее, делали вид, что слушают. Так или иначе – давали деньги. А теперь этот шеф тайного кабинета в маленьком королевстве щелкнул его по самолюбию, и он вынужден молчать, стиснув зубы. И еще спрашивает:
– Какими духами вы душитесь?
– Английскими – «Шипр» Аткинсона, – должен был ответить Савинков…
Прекрасные дни Аранжуеца, где вы?







