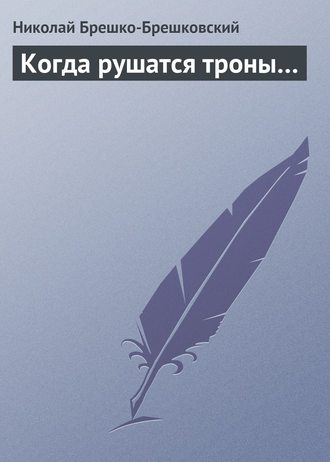
Николай Брешко-Брешковский
Когда рушатся троны…
8. Белая и черная кость
Тратить на себя, на свои удовольствия в тех условиях, в каких он очутился, Адриан считал едва ли не преступлением. С грустью наблюдал он и слышал, и читал в газетах, что русская финансовая родовая знать живет широко, мотает деньги, кутит, украшает своих жен и любовниц бриллиантами, а русские офицеры, такие же самые беженцы, как и они, здесь, в этом самом Париже, влачат нищенское голодное существование в тяжелом физическом труде на заводах.
Но и помимо такой вопиющей контрастности, не понимал Адриан, как могут люди вечно веселиться дорогостоящим весельем, когда родина их вся в беспросветном трауре, захлестывается в крови и так трагически взывает о помощи…
Сам он, очень любивший верховую езду, считал себя не вправе купить лошадь. И лошадь, и ее содержание было бы именно той роскошью, с какой не примирилась бы его чуткая совесть. А брать манежных лошадей, этих разбитых кляч, было бы слишком дурным тоном для такого хорошего ездока, каким он был вообще, и для свергнутого короля, каким он был в частности!..
Но другому «его величеству» – случаю, суждено было безболезненно и к удовольствию, спортивному удовольствию Его Величества, разрешить этот вопрос.
Адъютант доложил ему:
– В манеже на авеню Анри Марен имеется чудесный выводной гунтер!.. Две капли воды ваш Гасдрубал…
– Не напоминайте мне про Гасдрубала! Душа болит! Нашему Бузни кто-то сообщил оттуда, что Гасдрубал ходит в упряжи и катается на нем мадам Мусманек… Да, так неужели – две капли воды? Вы почем знаете?
– Ваше Величество изволит помнить русского офицера Калибанова?
– Помню! Интервьюировал меня?
– Он сейчас берейтором в этом самом манеже и заведует отпуском лошадей. Он предлагает Вашему Величеству гунтера для прогулки… Кроме вас, никто не будет на нем ездить.
– Как это мило со стороны Калибанова! А что с их газетой?
– Все погибло! Сами еле-еле унесли свои головы, Калибанову еще повезло, а остальным…
Король начал ежедневно появляться верхом в Булонском лесу. На такой лошади, как мощный гунтер Альмедо, – не стыдно было показать себя всему Парижу, который, пользуясь всеми способами передвижения, до пешеходного включительно, посещает в известные часы Булонский лес.
Хотя Адриан для прогулок своих пользовался ранним утром, – конюх подавал Альмедо к воротам виллы уже к восьми, – однако все же попало в газеты, что Его Королевское Величество Адриан I, бывший монарх Пандурии, катается каждое утро в Булонском лесу. Кое-где появились даже фотографические снимки интересного всадника. При каких условиях и в какой момент сделаны были эти снимки, Адриан и сам не знал. Вероятно, каким-нибудь фотографом-корреспондентом он был «атакован» из-за прикрытия.
Гораздо бесцеремонней поступали фотографы-любители из англичан и американцев. Адриану приходилось отворачиваться от наводимых на него прямо в упор маленьких, поминутно щелкающих «Кодаков».
В газетах подробно описывались и лошадь, и всадник, его костюм, шляпа, цвет бриджей, фасон сапог и даже галстук.
Вообще все это лишний раз подчеркивало, что республиканский Париж гораздо больше интересуется бывшими королями, чем настоящими президентами.
В самом деле, торжественный приезд Мусманека с успехом подчеркнул это. Мусманеку до того хотелось упиться почестями официального приема, что он, елико возможно, ускорил свой визит в Париж. Тщеславие тщеславием, но было еще соображение, не лишенное здравого смысла: того и гляди большевики сметут демократическую республику, Мусманек с треском вылетит из дворца, и уже никто не будет чествовать его помпезной встречей.
А так, так он прибыл в столицу Франции в бывшем королевском, теперь президентском поезде. Хотя внешне церемониал весь был такой же, как и по отношению к Адриану в свое время, но все же сам Мусманек с завистью и тайной злобой чувствовал в глубине души разницу…
На Лионском вокзале выставлен был почетный караул, но, во-первых, знамя не склонилось, а, во-вторых, солдаты-зуавы, помнившие, как несколько месяцев назад молодцевато поздоровался с ними, пройдя вдоль фронта, молодой красавец-генерал в блестящей форме, со звездой и лентой Почетного легиона, разочарованно, с вытянутыми лицами, увидели невзрачного господина в пиджаке, боком вылезшего из салон-вагона и пробормотавшего что-то в свою бородку.
И все остальное в таком же духе. И хотя над отелем «Крион», где отведены были апартаменты Мусманеку, взвился пандурский флаг, хотя Эррио с Мусманеком облобызался как социалист с социалистом, хотя Мусманек обедал в Елисейском дворе и сопровождали его конные кирасиры, но какой-то червь, червь сомнения и зависти, мешал ему безмятежно почить на лаврах.
Мусманек завидовал ограбленному, бедно живущему в Пасси Адриану, завидовал его величавой внешности, завидовал его французскому языку, благородно-властным манерам, завидовал тому восхищению, с которым описывались прогулки верхом низложенного короля, все же сумевшего сохранить притягивающее обаяние, обаяние потомка древней династии…
И мнительный Мусманек терзал себя мыслью, что президент Думерг, такой же масон, как и сам Мусманек, по отношению к Адриану был бы гораздо предупредительней, много больше проявил бы и внимания, и почтения.
Газеты?..
Внешне нельзя было на них пожаловаться. В правой, буржуазной, печати было несколько интервью с Мусманеком, было несколько его портретов. Но все это без всякого пафоса, энтузиазма. Все это, оплаченное с первой до последней строчки, было честно отработано. И – только. Но Мусманек не зажег и не привел в восхищение интервьюеров, как зажигал и приводил в восхищение Адриан.
А дифирамбы мало влиятельных и мало распространенных социалистических газет не удовлетворяли социалиста Мусманека. Он их презирал за их маленький тираж и за то еще, что они читаются рабочими, а не банкирами, академиками, графами, герцогами и женщинами, делающими погоду в политических салонах.
Но оставим в покое президента Пандурской республики с его претензиями и с его поездками к ювелиру на Avenue de l'Opéra, где на сотни тысяч франков накупил он бриллиантов жене и дочери, помня, что бриллианты – самая лучшая валюта во всех превратностях судьбы. Оставим его в покое и последуем за нашим героем…
9. Приключение на авеню Анри Мартен
Бузни и в Париже, в изгнании, сумел остаться, и с полным правом остаться, шефом тайного кабинета. У него были свои люди в Пандурии, точно и добросовестно информировавшие его обо всем, что делается в молодой республике. Он следил за теми, кто, в свою очередь, следил за королевской семьей по поручению Мусманеков и Шухтанов, боявшихся возвращения Адриана, боявшихся этого больше, чем прихода большевиков.
Королевский посланник в Париже граф Лаччаро был смещен Мусманеком по телеграфу в первые же дни революции… Вместо Лаччаро, опытного дипломата, прислан был некий Донкало, продажный и темный журналист с отчаянной репутацией, бывший австрийский шпион, получивший воспитание в кофейнях Будапешта и Вены.
Французский язык демократического посланника был какой-то отчаянный жаргон именно этих самых кофеен, плюс еще развязная левантийская болтовня, отзывающая Александрией, Бейрутом и Смирной.
Но господин Донкало понимал господина Эррио, а господин Эррио, хотя и с превеликим трудом, но все же понимал господина Донкало, черномазого, усатого «дядю» с внешностью трактирного вояки, для которого бутылка – и источник удовольствий, и метательный предмет одновременно. Во всяком случае, взаимно довольные, французский премьер и пандурский дипломат клялись друг другу в социалистической верности и в антипатии к Адриану, за которым оба они следили, каждый через своих агентов.
И днем, и вечером какие-то неопределенные милостивые государи маячили возле королевской виллы, правда, на почтительной дистанции.
Зорро, часами дежуривший у калитки, одним своим видом ходячего арсенала отпугивал не только сыщиков, но и обыкновенных прохожих с самой что ни на есть спокойной и чистой совестью.
В то время как Донкало вынужден был ограничиваться лишь наружным наблюдением, Бузни знал все тайны посольского особняка на авеню Гош. Знал каждый шаг и самого Донкало, и Мусманека во дни его пребывания в Париже, знал, о чем они говорили и совещались.
Бузни успевал горевать о своей без вести пропавшей жене, успевал нести секретарские обязанности при вдовствующей королеве и овдовевшем короле.
Со дня получения заказа на «воспоминания» был установлен такой режим. Утром Адриан около часу катался верхом и, бодрый физически и духовно, с приподнятыми от движения и солнца нервами, в половине десятого возвращался домой. Легкий, с аппетитом съедаемый завтрак – и от десяти до часу король диктовал свои воспоминания. Дневная «порция» рукописи поступала в литературную обработку к Ее Величеству и, уже отшлифованная, сдавалась в переписку на машинке.
Недели через две господин Ван-Брамс осведомился у Джунги, как подвигается работа, и получил в ответ:
– Уже готово более семидесяти страничек!
– О! В таком случае, я пришлю за ними своего секретаря… Машина заработает полным ходом…
В час все вместе садились завтракать – Маргарета, Адриан, Бузни, Джунга и принцесса Лилиан. Хотя делившая все свое время между благотворительностью и уходом за крохотным племянником своим принцесса довольно редко появлялась в этот час в столовой.
Приходил иногда к завтраку бывший командир улан Ее Величества полковник Кафаров. Изящный красавец-кавалерист преобразился в такого же изящного красавца-штатского. Он поступил в кинематографическую труппу «Гомона», играя в комедиях и драмах светских спортсменов с жалованьем три тысячи франков в месяц. Он был доволен своим успехом, но смотрел на него как на нечто временное.
– Только бы как-нибудь перебиться, переждать, а там опять с Божьей помощью в ряды королевской гвардии под наш дорогой штандарт!..
Кафаров в живых рассказах своих знакомил обитателей виллы с новым для них и совсем недавно еще для самого себя новым, – этим увлекательным миром фильмовых съемок.
– Можно будет как-нибудь посмотреть? – заинтересовался Адриан.
– Ничего нет легче! – воскликнул Кафаров. – Вся труппа будет счастлива посещением Вашего Величества. Я представлю Вашему Величеству нашу звезду Мата-Гей. Весь Париж восхищается ей. Действительно прекрасная артистка и очень интересная женщина. Это американская гастролерша. «Гомон» пригласил ее на три месяца. За эти три месяца она получит миллион франков. Гонорар, достойный «королевы экрана».
– Король Пандурии получал гораздо меньше, – улыбнулся Адриан. – Нет, в самом деле, Кафаров, свезите меня на ваши съемки.
– Через неделю мы будем «крутить» в Сен-Жерменском лесу. Может быть, Ваше Величество пожалует?..
На другой день утром, по обыкновению, совершал Адриан свою прогулку на красавце Альмедо, который, благодаря обязательному Калибанову, подавался ежедневно за двадцать франков в час.
На Альмедо можно было показаться в самой изысканной, в самой требовательной кавалькаде. Никому и в голову не могло прийти заподозрить в Альмедо манежную лошадь. С некоторых пор Адриан изменил Булонскому лесу. Сам того не предполагая, он ввел в моду утренние прогулки верхом, и уже к восьми часам появлялись в Булонском лесу все новые и новые всадники и всадницы.
Адриан перекочевал на авеню Анри Мартен. Как ни странно, это авеню, хотя и не в самом центре города, но все-таки в живой, бойкой его части, снабжено было во всю длину свою немощеной аллеей для верховой езды. Справа и слева бегут автомобили, коляски, трамваи, а посредине между рядами густых деревьев, – одинокие всадники, большей частью выезжающие лошадей офицеры.
И то именно, что это – одинокие всадники, к тому же еще занятые своим делом, и привлекло сюда короля Адриана.
Вот и сегодня во всю перспективу зеленого грота аллеи, пока глаз хватает, кроме Адриана, – всего один офицер на золотистой кобыле, еще более золотистой в лучах солнца. Маленький, худенький офицер учит свою кобылу ходить испанским шагом, щекочет камышинкой ее передние ноги, и она упруго выкидывает их вперед.
Но вот между офицером и Адрианом появилась всадница на белой лошади. Красивая, вся в тонких жилках, лошадь горячилась, приплясывала, закидывалась, но всадница, видимо, опытная, сидевшая по-мужски наездница, держалась прочно в седле.
На ней были по моде парижских амазонок бледно-желтые, как замша, бриджи, низенькие сапоги со шпорами и с желтыми отворотами и длинный, черный, в талию полужакет-полусюртук. На груди – белый пластрон и узенькая полоска галстука. На голове – котелок, закрывавший узел светлых волос.
Адриан почти нагнал всадницу. Она была тонка и стройна и, когда поворачивала головку, виден был капризный профиль. Будь он менее капризен и более правилен и бездушен, его можно было бы назвать «кукольным».
Как это все произошло, потом только восстановили в памяти и Адриан, и всадница. В нескольких десятках шагов трамвай наскочил на автомобиль. Суматоха, крики, судорожные звонки, метнувшаяся толпа, – все это частью напугало, частью разгневало красивую белую лошадь. Она круто взметнулась на дыбы и сразу стала какой-то пугающей, страшной, не похожей на себя и похожей на чудовище. Характер у этой белоснежной красавицы был отвратительный и манеры очень дурные. Одна из них – опрокинуться назад вместе с всадником и, придавив его своей тяжестью, кататься по земле, трепыхаясь ногами в воздухе…
Всадник, знакомый с такими дурными привычками своей лошади, спешит всегда соскочить в сторону, предпочитая ушибы, чем двадцатипятипудовый пресс.
Знала ли скверную повадку своей лошади амазонка или не знала, не в этом дело, а в том, что, невзирая на почти вертикальное положение спины лошади, она удержалась в седле, почти не опираясь на повод и показав себя смелой, бывавшей в переделках наездницей.
Но и смелость уязвима. Адриан с ужасом заметил: еще мгновение, и потерявшая равновесие лошадь упадет навзничь и прикроет собой молодое, хрупкое существо. И в этот самый миг вспыхнули в нем и рыцарь, и прекрасный конник, учившийся у Рочано вольтижировке, и, наконец, пандур, тысячелетние предки которого носились в диких степях, как центавры, и, как центавры, похищали скифских женщин и девушек, на всем скаку срывая их с лошади.
Пришпорив Альмедо и вынесшись вперед, обхватив наездницу за тонкую талию, он вырвал ее из седла и посадил впереди себя таким же коротким и сильным движением. Белый конь уже опрокинулся на спину и мощно бил копытами воздух, и блестели на солнце все четыре подковы.
Падкая до происшествий толпа разбилась на две части. Одна предпочла остановившийся трамвай с выбитыми стеклами и весь исковерканный автомобилем. Другая – хлынула к молодому всаднику, сжимавшему в объятиях амазонку, лошадь которой переваливалась с боку на бок, расплющив новенькое, желтое английское седло…
Адриану менее всего хотелось быть предметом внимания. Подойдет полицейский сержант, в толпе непременно окажется газетный репортер и с удовольствием поместит бывшего короля Пандурии в хронику происшествий.
Положение создавалось неприятное. Всадница, потрясенная, обомлела. На ноги ее не поставишь. Приходилось, не слезая с коня, держать ее.
Уже слышалось кругом:
– Кто такая?
– Как имя спасителя?..
Но, слава Богу, подоспел конюх, бродивший в аллее, пока всадница совершала так неудачно закончившуюся прогулку.
Бережно поставил конюх переданную ему Адрианом молодую женщину. Адриан хотел уже ускакать прочь. Но это вышло бы не по-рыцарски. Его долг – принять участие в этой гибкой блондинке, еще не пришедшей в себя. Но как быть с лошадью?..
Но и тут выручил конюх.
– Пусть Ваше Величество не беспокоится… Альмедо из нашего манежа… И лошадь мадам стоит у нас… Я обеих отведу…
– Тише… Не называйте меня… – оборвал его Адриан яростным шепотом сквозь стиснутые зубы.
10. Королева экрана
Адриан остановил такси:
– Ваш адрес, мадам?
Как-то по-детски дрогнули веки, замигали часто-часто. И по-детски также шевельнулся маленький ротик:
– Рю Лисбонн, 33.
Адриан усадил ее, сел радом; захлопнулась дверца, шофер повез их по рю де ля Помп и авеню Виктор Гюго к Этуали.
Довольный, что парижская толпа, как-то по-провинциальному жадная до скандалов и зрелищ, осталась позади, искоса поглядывал король на свою случайную спутницу.
Она или еще и в самом деле не пришла в себя, или эта разнеженная томность в полузабытьи, – была интересничанием… Если даже и так, это очень к ней шло, к ее капризному, почти кукольному профилю, к ее хрупкой на вид и сильной в действительности фигуре, фигуре настоящей спортсменки, – ненастоящая так дешево не отделалась бы…
Он подумал, – никакие декольте, никакое оголение не сделают женщину более соблазнительной и притягивающей, чем именно такой строгий, полумужской костюм, под которым, по игре неотразимых контрастов, хочется угадывать нежное, созданное для ласк холеное тело. Да, да, именно под этими кавалерийскими бриджами, под сапогами со шпорами, под черным сюртуком с белым, целомудренно охватывающим шею пластроном, под всем этим прямолинейно-отчетливым и резким затаилась женщина и какая женщина!..
Они обогнули площадь Этуали с монументальной громадой античной арки и уже ехали по авеню Гош мимо легендарного дворца легендарного Базиля Захарова, который один богаче всех королей на свете.
Вот и тихая рю Лисбонн. Глубокий, весь в зеркалах, вестибюль и такой же, в зеркалах, лифт, быстро помчавший вверх Адриана вместе с амазонкой.
Встретило их существо, несомненно, женского пола, но такой черноты, как сапожный глянец. И на фоне этого сапожного глянца – прямо лошадиные белки. Они еще увеличились при виде незнакомого мужчины, также одетого для верховой езды, как и госпожа.
– Не пугайтесь этой «черной опасности»! – сказала наездница. – Это моя милая, преданная Кэт!.. Кэт, чаю нам!..
Адриан – в большой гостиной с обилием светлой мягкой мебели, бронзы, мраморной скульптуры, зеркал, этажерочек с безделушками и уютных уголков. Типичная квартира, сдающаяся в Париже не только с мебелью, но и с постельным и столовым бельем и даже с посудой…
Не прошло и двух минут – «черная опасность» доложила, что чай подан. Молодые люди перешли в столовую.
Амазонка разливала чай. Адриан оценил ее руки, белые, узкие, с длинными пальцами, суживающимися к розовым твердым ногтям.
Светло-синие глаза с очаровательной признательностью задержались на его лице.
– Благодарить в обыкновенных, в общепринятых выражениях это… это неминуемо впасть в банальность… Но вы же меня спасли, если не от смерти, то во всяком случае… Если бы не вы, я, пожалуй, долго не могла бы работать… Вы это проделали, как настоящий ковбой. Ковбой с внешностью… Сознайтесь, вы, наверное, князь или граф?..
– Нет, – усмехнулся он, – вы ошиблись, мадам. Я не князь и не граф…
– Вот как? Странно! – со своей капризной детскостью протянула она, мигая веками и как-то особенно складывая губы. – Хотя вот что я вам скажу, мой таинственный спаситель… Бывают мужчины, которых титул… Ну, как бы вам сказать, скрашивает, что ли… И, наоборот, бывают мужчины – их гораздо меньше, которые… которым совсем не надо никакого титула… Они сами по себе… Вы принадлежите к этой второй категории.
Адриан поклонился.
– Так что вы мне прощаете, что я не граф и не князь?..
– Вполне!.. Пожалуйста, рекомендую еще теплые бриоши…
«Кто она? – соображал Адриан. – По-французски говорит с акцентом, да и по типу, и по всему не француженка… „Работать“, – обмолвилась она. Актрисы так не говорят про себя, а для цирковой артистки она слишком изящна…» И что-то осенило его, и он спросил:
– Вы королева экрана?
– А, вы, наверное, меня видели в «Лютеции», в драме «Король без короны»?.. Нравлюсь я вам? А танец? Мой собственный танец… Помните, когда я имитирую бой быков? Матадор с плащом дразнит меня… Настоящий матадор, знаменитость! Лагартихо… А я в этом эксцентричном костюме, и на лбу у меня – рога – тоже моя фантазия… Нравится? Что же вы молчите?…
– Мадам, я бесконечно виноват, но я не видел этой картины, – молвил Адриан, в самом деле почувствовавший себя виноватым.
– Какой ужас! Какой ужас! – с негодованием, полуют мическим, полусерьезным, всплеснула руками артистка. – Мосье, если бы вы были не вы, я… я вас ни за что не простила бы… Чудовище! Следовательно, вы не знаете, что перед вами Мата-Гей, великая, всесветная, знаменитая Мата-Гей?
– Так вы Мата-Гей?! Ну конечно… Я так много слышал о вас и все такие восторженные отзывы!..
– Милостивый государь, слышать – это еще мало, это ничего! О Мата-Гей нельзя не слышать, – многозначительно подняла она палец, и ее личико стало капризно-торжественным, – ее надо видеть, надо следить за всеми лентами, где она выступает… Я вас оштрафую за ваше… ваше невежество!..
– К вашим услугам… А в чем будет заключаться штраф?
– Штраф? Вот в чем! Во-первых, сегодня в восемь вечера вы у меня обедаете, а в девять с четвертью мы будем в «Лютеции», как раз к началу драмы «Король без короны».
– Какой упоительный штраф… Я готов…
– Погодите, это еще не все. Драма кончится около одиннадцати, и мы вернемся ко мне пить чай… У меня есть русский самовар… И, представьте, Кэт научилась его разогревать. Чай из русского самовара в Париже! Ведь это, это очень оригинально.
– Больше, это восхитительно! – поправил Адриан, вставая. – Итак, Мата-Гей приказывает мне быть к восьми?
– Да, ровно к восьми. Я угощу вас пряным испанским обедом… На эти три месяца я выписала себе повара из Валенсии…
– О, да вы с причудами?
– Как же иначе… Укажите мне королеву экрана без своих собственных причуд… А Май Мюрай? А Глория Свенсен? Я такого порасскажу вам о них… Вообще, вас надо просвещать. Вы, верно, и в кинематографе редко бывали? Сознайтесь? – искренно пожалела Мата-Гей своего спасителя.
– Редко, – сознался спаситель.
– Но почему же? Почему? – и она так топнула ножкой, что зазвенела штора.
– Моя профессия исключала возможность посещать кинематографы.
– Вечерние занятия? Ах, эти несносные вечерние занятия… Надеюсь, вы избавились от них?
– Избавился, – ответил он, улыбнувшись не без некоторой загадочности.
– И великолепно сделали! Все люди должны работать днем. А вечер, вечер для отдыха и удовольствий…







