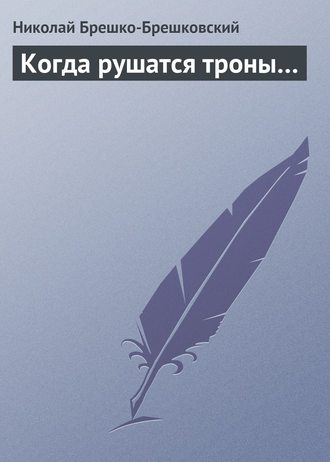
Николай Брешко-Брешковский
Когда рушатся троны…
21. Глава, любезно посвящаемая всем президентам республик
Миг – и нет волшебной сказки.
Ячин давно ушел, а Мусманек сидел пришибленный, обессиленный, и не мог подняться. Не хватало сил, да и чужим казалось все тело.
Он уже так свыкся со всем этим комфортом, с почетом и роскошью и, не угодно ли, его выбрасывают, как надерзившего лакея… Хотя он никому не дерзил. Что за гнусность!..
Мусманек с каким-то наивным цинизмом считал себя несправедливо обиженным и ограбленным. Ячину, этому размалеванному красавчику, – хорошо ему говорить о беспечальной жизни за границей! Побыл бы хоть месяц президентом, – совсем из другой оперы запел бы. Им, этим бандитам, наплевать, что через две недели Мусманек должен посетить короля Виктора-Эммануила и Муссолини. Уже все решено. Мусманека ждут в Риме, – и не угодно ли? Скорей, скорей уноси подобру-поздорову и свою голову, и свои ноги…
Какой конфуз, какой жесточайший конфуз! Мерзавцы, дали бы ему хоть съездить в Рим и получить уже обещанный орден Анунциаты.
Но сколь ни желанны были Мусманеку и орден Анунциаты, и прием у короля и Муссолини, – все это бледнело, отходило на второй план перед поистине ужасным вопросом: как встретят жена и дочь катастрофическую новость? Как? А откладывать нельзя ни минуты. Ячин, уже совсем уходя, пригрозил, обернувшись:
– Помните же! Чем скорей, тем для вас самих лучше.
А за минуту перед этим Ячин говорил:
– В каких-нибудь два с половиной часа автомобиль домчит до Семиградской столицы. Наши патрули пропустят вас как главу государства, а, очутившись в Семиградии, вы заявите, что вы – спасающий вашу жизнь эмигрант.
– Эмигрант? Чтобы подавиться Ячину этим проклятым словом!..
Мусманек, едва оторвав невзрачную фигурку от кресла, с дрожью в неуверенных коленях побрел отыскивать президентшу в ее апартаментах, бывших апартаментах Маргареты.
Мадам Мусманек вместе с дочерью и Мариулой Панджили занята была примеркой модных тряпок, доставленных из Парижа на аэроплане.
Президент вошел не постучавшись, и мадам Мусманек целомудренно поспешила закрыть свои костлявые плечи. Дочь последовала примеру мамаши.
– Чего вы лезете без доклада? – встретила мужа мадам Мусманек, забывши, как еще совсем недавно они втроем ютились в одной спальне.
– Извини, мамулечка, но дело самой неотлагательной важности. – Мусманек пристально взглянул поверх очков на Мариулу, дав понять, что она здесь лишняя.
Мариула с полуироническим поклоном вышла. Мусманек плотно закрыл за ней дверь.
– Ну-с, в чем же дело? – торопила супруга.
– Мы должны немедленно уехать.
– Куда, как, зачем? Что такое? Уже? Так скоро?
– Да, часы и даже не часы, а минуты президентства моего сочтены. Сегодня к ночи большевики захватят власть, и ты понимаешь? Вы понимаете, мои дорогие, к этому времени мы должны быть по ту сторону границы…
Худые, в красных пятнах, лица жены и дочери, несмотря на густой слой пудры, пошли еще более резкими пятнами.
– Я так и знала! Так и знала! Тюфяк, болван, калоша! Ты, ты осрамил нас перед всем светом!
– Мамулечка, я не виноват! – как школьник, оправдывался президент.
– А кто же виноват? Слышишь, дочурка? Что мы теперь? Нищие, нищие, которым совестно будет в глаза смотреть людям. А наше положение?.. Наше положение?..
– Позволь, мамулечка, позволь… Ты, мамулечка… ну как бы это сказать, ты драматизируешь… Конечно, они ударили нас по карману, эти негодяи… Но все же мы не совсем нищие… В Париже, в «Лионском кредите», у нас двенадцать миллионов франков, а в Лондоне около четырехсот тысяч фунтов… Кроме того – бриллианты.
– Бриллианты? – негодующе-злобно зашипела мадам Мусманек и, стремительно подскочив к мужу, она к самому его носу, носу-пуговке, приблизила ничуть не дворцовый кукиш из трех костлявых, крепко зажатых пальцев. – Это видишь? Я не позволю продать ни одного карата! Ни одного! Слышишь?
– Ну хорошо, мамулечка, хорошо, не надо. Я так сказал, так себе… Не волнуйся и… будем собираться… Надо сплавить эту Панджили…
Но Панджили сплавила сама себя. Подслушав у дверей начало разговора, она ударилась в бегство.
Втайне от прислуги начались сборы. Вспотевшие, разгоряченные мать и дочь вытаскивали самые большие, самые поместительные чемоданы, чемоданы Маргареты. Жадность заглушила страх. Хотелось увезти не только все белье, все платья, но и безделушки и те миниатюры великих художников, о которых предостерегающе упомянул Ячин.
Чемоданы были уже снизу доверху набиты, а мамаша с дочкой обрывали портьеры, с бешенством кидая их прочь, так как для них уже не было места.
Мусманек с тревогой взирал на полдюжины громадных чемоданов.
– Мамулечка, дорогая, куда же все это?
– Молчите, жалкое ничтожество! Молчите! Я знаю, что делаю… Надо было все это раньше вывезти за границу… И подумать, подумать, что вся эта мебель, картины, все это пропало для нас!..
Внешний вид столицы не предвещал никакого переворота. Избаловавшаяся чернь, революционные солдаты и матросы, изнывавшие от безделья, одетые, – кто грязно, неряшливо, кто с неприличным шегольством, слонялись по городу, как и в первые дни мятежа.
Непосвященный глаз ничего, пожалуй, не заподозрил бы, но глаз Мусманека, увы, очень хорошо посвященный, угадывал за этой обманчивой маской сатанинскую красную харю…
Уже все чемоданы распухли, как наевшиеся до отвала примитивные животные без головы и конечностей… И вдруг Мусманека обожгло, как ударом молнии…
А что, если Штамбаров и Ячин сделали из него круглого идиота, посмеялись над ним? От одной этой мысли прохватила испарина. Действительно, идиот… Он так и уехал бы, не снесшись с товарищами.
Позвонил Шухтану. Отвечал растерянный лакей.
– Где председатель совета министров?
– Они уехали в Семиградию и не сказали, когда вернутся.
Мусманек, медленно холодея, так же медленно повесил трубку.
Хитрая каналья этот Шухтан! Его уже и след простыл. Позвонить разве еще Абарбанелю? Но из дворца министра финансов не было никакого ответа, и в пустом пространстве дребезжал телефон.
Как утопающий за соломинку, ухватился Мусманек за министра путей сообщения.
Этот оказался и дома, и у телефона. Узнав дрожащий голос Мусманека, Рангья насмешливо спросил его:
– Вы еще в городе?
– А… вы…
– Я? Конечно! При всех режимах не обойтись без железных и шоссейных дорог и всяких иных способов передвижения.
– Аа… – только и нашелся Мусманек.
– Бе… – передразнил его Рангья, энергично опуская трубку.
Последняя надежда исчезла… Бежать, бежать, бежать… А главное, чтобы это менее всего походило на бегство.
Небольшой грузовик с чемоданами и с двумя придворными лакеями отправлен был вперед, а через четверть часа на легковой машине, той самой, на которой ездил Адриан с выездным камер-лакеем в плаще и треуголке, отбыл Мусманек с женой и дочерью. Обе они цепко держали по большому несессеру с драгоценностями, так еще недавно привезенными из Парижа заботливым супругом и папашей. Уже очутившись за городом, все трое оглядывались с невыразимой скорбью на кирпично-красное здание дворца.
Часа через два – граница, где их поджидал высланный вперед грузовик, окруженный солдатами.
Пограничники эти были молодец к молодцу, опрятно одетые в ловко пригнанную форму. Усатый, пожилой, с боевыми отличиями вахмистр лихим и бравым солдатом глядел – в конвое Мусманека ни одного не было ему равного. В пограничники пошли они – и эти солдаты, и этот вахмистр – потому лишь, что некуда было деваться сверхсрочным служакам, на протяжении многих лет не знавшим ничего иного, кроме войны и военного дела. Все они были сплошь монархисты, и каждый, кто в кармане, кто в вещевом мешке, имел открытку с изображением Адриана.
В полдень, еще задолго до прибытия обоих автомобилей, вахмистр Тачано вызван был к телефону, и чей-то мужской голос невнятно прожужжал, как это всегда бывает с полевыми телефонами:
– Вахмистр пограничного участка?
– Так точно. У телефона вахмистр Тачано.
– Сегодня на ваш пункт прибудет Мусманек, бывший президент, спасающийся бегством вместе с женой и дочерью. Пропустите их!
– Кто говорит? – спросил Тачано.
– Генерал Ячин.
– Есть, господин генерал, будет исполнено.
После этого Тачано собрал своих солдат.
– Ну, ребята, и будет же потеха! Эта сволочь Мусманек бежит за границу.
– Туда ему и дорога.
– Так слушайте же ребята: пустить-то мы их пустим, а только накладем по первое число и выбросим их в Семиградию налегке… Поняли?
– Поняли, господин вахмистр!..
Когда автомобиль с пассажирами очутился рядом с грузовиком, Тачано подошел к Мусманеку.
– Кто такой будешь?
Мусманек что-то промямлил в ответ, но супруга его, брызжа слюной, накинулась на вахмистра:
– Мужик! Грубиян! Как ты смеешь так обращаться с президентом республики?
– А ты что за птица? Вот еще сухая галка выискалась! А я – не мужик и не грубиян, а вахмистр Его Королевского Величества… А вот вы – жулики, воры, везете чужое, награбленное… Выметайтесь все трое, да живо!
Присмиревшая мадам Мусманек вышла из автомобиля, прижимая обеими руками к своей тощей груди несессер с бриллиантами.
– Это у тебя что? Давай сюда! И ты давай, – обратился он к дочери. – Ишь, чемоданов-то, чемоданов! Ребята, скидывай все на землю… А ты, – обратился Тачано к Мусманеку, – выворачивай карманы!..
Смеялись солдаты, смеялись оба шофера и оба лакея.
Карманы Мусманека, туго набитые американской и английской валютой, опустели в мгновение ока.
Президент молчал, дрожа, как осиновый лист. Он чувствовал, – малейшее возражение, и его начнут бить.
А Тачано глумился из-под своих кавалерийских усов.
– Благодарите Бога, что дешево отделались! Не так бы вас! Всыпать бы вам всем шомполов, чтобы недельки две ни сесть, ни встать. Демократия? Первые мошенники… «Мир хижинам, война дворцам». А сами во дворец забрались, шантрапа окаянная! Смотреть на ваши рожи противно. Убирайтесь с глаз моих прочь! Покатались на королевских машинах, теперь пешочком прогуляйтесь!..
Минут через двадцать жалкое, общипанное трио, бледное от страха, было встречено семиградскими жандармами в высоких киверах с петушиными перьями. Дали знать в столицу, и пока пришел ответ, семья президента ночевала в пограничном блокгаузе на полу. Не было подушек, полотенец, не было даже носовых платков. Все до нитки реквизировал Тачано.
Вздыхая, ворочаясь с боку на бок и отбиваясь от наседавших клопов, вспоминали папаша с мамашей и с дочкой широкие дворцовые постели под пышными балдахинами…
Сны мимолетные, сны беззаботные
Снятся лишь раз…
22. Филиальное отделение совдепии
Штамбаров был вывеской, ширмой. На самом же деле не был даже главным приказчиком. Понаехавшие из Совдепии красные агенты, даже совсем захудалые, и те с глазу на глаз третировали свысока этого мордастого хама.
И хам, уже не с дешевыми перстнями на корявых пальцах, а с бриллиантами, и еще какими, – распластывался перед своими господами, творя их злую, преступную волю.
Еще зеленая листва не зачервонела багрянцем, а уже полилась в Пандурии кровь, кровь лучших, благороднейших, честнейших. Московская чрезвычайка, ставшая государством в государстве, чинила суд и расправу над всеми, кто не гнул спины перед поганым идолищем III Интернационала. В Бокате и в других городах появились одетые во все кожаное молодцы с громадным револьвером у пояса и с физиономиями палачей и убийц. Заработали подвалы и застенки. Заработал присланный из Москвы штаб, с лихорадочной поспешностью и с энергией, поистине дьявольской, создавая Красную армию.
Зиновьев, жирный и наглый, произносил в Москве и Петрограде речи, услужливо подхватываемые всей мировой печатью.
Он говорил:
– Товарищи, на седьмом году пролетарская революция вступает в новую эру. До сих пор все наши попытки коммунизировать Западную Европу были тщетны. Теперь же мы, как никогда, приблизились к нашей святой, заветной цели. Еще немного, еще чуточку терпения, и буржуазно-капиталистическая Европа запылает, как один гигантский костер. Пандурия – наш авангард, наши ворота на Запад, наш трамплин, откуда Красная армия прыгнет вперед, чтобы с пролетарской доблестью и отвагой перегрызть буржуазную глотку Парижу, Лондону, Риму, Мадриду, Брюсселю и водрузить над ними знамя трудящихся…
Париж, Лондон, Брюссель и Рим расписывались в получении этих милых зиновьевских плевков и, как говорится, и в ус не дули. Ни в ком не заговорило даже простое животное чувство самосохранения, не раздался ничей грозный, негодующий окрик и голос, требующий навести в Пандурии хотя бы такой порядок, какой несколько лет назад был наведен в Венгрии.
Все великодержавные посольства и миссии оставались в Бокате, и господа полномочные министры и посланники беседовали через переводчиков с новым президентом Штамбаровым.
Мало того, Штамбаров объехал с полдюжины больших и малых столиц, где встречал благосклонный прием. Стряхнув с себя на границе уличного демагога, он водил за нос государственных людей Запада своим мужицким демократизмом, и государственные люди верили ему или, по крайней мере, делали вид, что верили.
Прикидываясь казанской сиротой, этот плачущий крокодил взывал к демократизму Эррио, опять-таки с помощью переводчика:
– Сухопутная армия наша сильна и даже очень, но мы беспомощны на море. Королевский лейтенант Друди, этот реакционный пират, уничтожил весь наш скромный военный флот, убил наше морское торгово-пассажирское сообщение…
Штамбаров настаивал на экспедиции в пандурские воды французских военных кораблей для ликвидации жестокого «пирата Друди, заклятого врага пандурского народа и вообще всех трудящихся».
На это Эррио, при всех своих симпатиях к Штамбарову, имел мужество ответить, что не считает возможным вмешиваться во внутренние дела Пандурии путем карательных экспедиций.
Вернувшись в Бокату, Штамбаров узнал от своих советских друзей следующее.
В горных областях далеко не все благополучно. Там уже идет глухое брожение и, если не принять крутых безотлагательных мер, оно может вылиться в серьезное восстание. Темные, несознательные горцы настроены сплошь монархически. В тайниках скрыто много оружия: винтовок, пулеметов, ручных гранат и даже легких малокалиберных пушек. Королевские офицеры организуют повстанческие отряды, проникнутые дореволюционной дисциплиной. Оружием снабжает горцев все тот же неуловимый Друди. На это гнусное дело борьбы с пролетариатом брошены немалые миллионы, имеющиеся в распоряжении Зиты Рангья. Местопребывание этой злостной контрреволюционерки не выяснено пока, но есть основание утверждать, что Зита Рангья находится в горах, в самом центре гадючьего гнезда повстанцев. Это – серьезный враг, скорейшее уничтожение которого в интересах всего народа.
После этого выпущено было около миллиона больших плакатов с портретом Зиты Рангья и с обещанием награды в миллион франков тому, кто доставит ее живой, и в полмиллиона, – кто доставит ее голову.
Этими афишами были заклеены все железнодорожные станции, все заборы, все товарные и пассажирские вагоны, все дома. Словом, клеили там, где только можно было клеить. В несколько дней Зита Рангья стала самым популярным человеком во всей Пандурии, затмив собой и Ленина, и Троцкого, и Штамбарова, и остальных красных висельников, портреты коих были брошены в толпу, тоже в огромном количестве.
На митингах и в газетах проклинали ее, как только умеют проклинать большевики с их площадным, тюремным жаргоном.
Не обходилось без опять-таки свойственных большевикам театрально-истерических воплей:
– Товарищи, сомкните ваши железные ряды и проникнитесь единым лозунгом: раздавить двухголовую гадину!
Непосвященным предупредительно пояснялось, что одна голова этой белогвардейской гадины – Зита, другая – лейтенант Друди…
Основательно же перетрусили «железные ряды», объявляя единый фронт, дружный и общий против миниатюрной золотистой блондинки, чудившейся «железным рядам» капиталистической Жанной д'Арк, и против двадцатидвухлетнего, с нежным пушком вместо усов лейтенанта, выросшего в перепуганном воображении этих самых «железных рядов» в какого-то легендарного жюльвернского героя – капитана Немо.
Боясь неуязвимых и далеких Зиты и Друди, большевики не боялись уязвимых и близких беззащитных и беспомощных буржуев.
И как в Совдепии, – а разве не была Пандурия филиальным отделением Совдепии? – ежедневные, вернее, еженощные аресты, грабежи, пытки, расстрелы, обыски… И как в Совдепии, это был пир во время чумы. В чрезвычайках лилась кровь, в королевском дворце, куда забрался Штамбаров с такой же сволочью, как и он сам, рекой лилось вино и устраивались дикие оргии в зиновьевском жанре.
Штамбаров уже мог по локоть погружать свои волосатые руки в драгоценности и бриллианты, мог скупить все порнографические фотографии всего мира и жалел, что ему дано природой всего десять пальцев, а не двадцать, дабы можно было унизать их дорогими перстнями.
К чести пандуров необходимо отметить, что далеко не все они подставляли, как бараны, свои шеи под «карающий пролетарский меч». Обреченные офицеры сплошь да рядом встречали свирепых чекистов огнем своих револьверов, последнюю пулю приберегая для себя.
А кто схвачен был безоружным или уже был выведен на расстрел, тот кидался на главного палача – кровопийцу, душил его, вгрызаясь в горло и вырывая глаза. Каждое утро находили коммунистов и комиссаров, кого с размозженным черепом, кого с отрезанной головой, кого с обезображенным лицом.
Большевики, праздновавшие вначале легкую победу, вскоре убедились, что предстоит борьба тяжелая, трудная.
И, почесывая каторжные затылки свои, они говорили со вздохом:
– Это вам не Россия!..
Для покорения горцев создавались отряды особого назначения из оголтелых подонков, которым нечего было терять. Но эта шпана, хотя и разбавленная отчаянными гастролерами-головорезами из Совдепии, храбрая в липких подвалах Чеки и в барских особняках, не выдерживала горной партизанской войны.
Некоторые отряды, вовлеченные вглубь опытным, знающим местность противником, не возвращались, истребленные до последнего человека. Смерть таилась в каждом ущелье, за каждым выступом скалы, в каждой морщине отвесных круч.
Невидимый враг поражал отряды особого назначения то залпами карабинов, то свинцовым пулеметным огнем, то, наконец, глыбами камней. И когда испуганное человеческое месиво панически жалось друг к другу, не видя спасения, лавиной обрушивались с потрясающими криками десятки и сотни горцев, и начиналась бойня. Рядовую мелочь вырезывали дочиста, а политических комиссаров – предводителей и красных курсантов – на арканах уводили за собой в горы. Там их жгли на кострах и, поистерзав вволю, закапывали живыми.
Эти неудачи приводили в ярость московских большевиков, и они требовали от своего наймита Штамбарова самых решительных действий и карательных экспедиций в широких масштабах, с целой армией, с легкой артиллерией на мулах, с воздушным флотом и смертоносными газами в аэропланных бомбах.
23. «Дитя революции»
С каким-то волнующим трепетом шла на первый сеанс Маргарета. Первый после того, как неосторожный Тунда назвал ее «вашим величеством» в присутствии Сережи Новицкого.
Это не было нетерпение влюбленной женщины или страх неизвестности, как ее встретит любовник! Это не было знакомое Маргарете чувство венценосного дипломата перед важной дипломатической беседой. Это не было ни то, ни другое, ни третье, а что-то совсем-совсем новое.
И когда она поднималась по деревянной винтовой лестнице, был момент, – у нее подкосились ноги, потемнело в глазах, и какая-то тягучая, приторная, как запах, слабость овладела всем ее существом.
Но королева умела подчинять себе свою волю, и, когда Сережа на ее стук распахнул дверь, Маргарета внешне была непроницаема. Внешне. А под бесстрастной маской притаилась душа, душа женщины, на закате дней познавшей материнское чувство и цену ему.
Она вся ушла в одно: как он ее встретит, каким он будет сейчас?
Он встретил ее виноватый, смущенный, совсем не такой, как вчера. Что-то жалостливое было и в его чертах молодого орленка, и в кротких, бесконечно кротких глазах.
Он встретил ее, избегая прямого обращения.
– Я… я виноват перед вами… Я поступил очень дурно… Не знаю, простите ли вы меня после того, как я скажу… быть может, вы не захотите больше меня видеть… А я… я не могу не сказать…
– В чем же дело, дорогой мальчик? Я не допускаю, чтобы вы могли провиниться…
– Нет, нет, это не хорошо… Это меня мучит…
– Что же вас мучит?
– Вчера после того… после того, как профессор… я… Ах, мне так стыдно… Ведь это же гадко, гадко! – и вспыхнул весь до корней волос горячим, густым румянцем. – Я потихоньку вышел за вами, проследил и узнал, кто вы… хотя, хотя я уже догадывался и без этого, но мне хотелось убедиться…
– И это все?
– Все! Но разве этого мало? Скажите, вы меня очень презираете? Очень? – с мольбой допытывался он, со слезами в голосе.
Она с нежностью провела рукой по его волосам.
– О, какое же вы еще дитя! Славное, милое… Успокойтесь! Если бы это вы сделали в самом начале, это было бы, пожалуй, нескромно. Хотя из тысячи так, наверное, сделало бы девятьсот девяносто девять. Но после того, как профессор Тунда разоблачил мое инкогнито… Успокойтесь же… Говорю вам от чистого сердца, говорю, как мать своему сыну, что ничего дурного в вашем поступке не вижу и отношусь к вам по-прежнему. Успокойтесь и – за работу! Надеюсь, оттого, что вы узнали, кто я, у вас не прошло желание лепить мой портрет? Тем более, почти нет знаменитого художника, которому не позировали бы те, кого называют «величествами» и «высочествами». А вы – несомненная знаменитость в будущем. Ведь так же?
Потупившись, стоял он и машинально мял в пальцах кусочек приготовленной для лепки сочно-оливкового цвета глины, жирной на вид и на ощупь.
Наконец, не поднимая глаз, он с усилием выжал из себя:
– Нет, я не могу… Не знаю… Может быть, потом, может быть… Но сейчас, сейчас руки мои как деревянные. Вы думаете, мне легко? Меня самого терзает, терзает…
– Но объясните же, почему? Почему? – допытывалась она с тоской. – Вы – артист, свободный и гордый, не могла же вас ошеломить эта новость? В вашем сознании, в ваших глазах я такой же осталась, какой и была… Да? Говорите же, да? – и он почувствовал свои большие руки в ее маленьких мягких руках, и эти маленькие мягкие руки требовали ответа.
– Не изменилось ничего… и в то же время… Я, я не могу выразить… Это чувство не поддается… Словом, я не могу… не могу, не могу! – с отчаянием повторял он. – Помните, на днях, когда я рассказывал о себе, я назвал себя уродом? Помните? Да, я – урод, я больной, сумасшедший. Я сам не знаю, что я такое! И не хочу знать, ибо это ужасно… То, что я узнал, кто вы, – это не главное, а лишь капля, дополнившая до краев чашу. Со мной это бывает… Ваша царственная внешность вдохновила меня. Налетел порыв, я с увлечением работал… И вот порыв этот выдохся, выдохся я сам и никуда не гожусь… Я буду лениться, хандрить, валяться по целым дням, и пройдет ли это через несколько дней, через полгода или никогда не пройдет, я сам не знаю, ничего не знаю…
– Друг мой, я вас понимаю, – задушевно начала Маргарета. – Вы – дитя революции, и, как дитя чуткое, вы надломлены всем этим кошмаром. Но нельзя же так! Нельзя! Надо хорошенько взять себя в руки, надо помнить, что вы большой талант и принадлежите не только самому себе, а и вашей несчастной родине, искусству, людям, обществу… Ваши мрачные мысли – результат еще и полного одиночества… Но я не хочу, не хочу, чтобы вы так думали… Знайте, что у вас есть семья, где вы всегда будете своим, желанным… Приходите почаще к нам. Я вас познакомлю с сыном и дочерью. Они такие – вы сразу почувствуете себя хорошо, уютно. Будете встречаться с Тундой. Он заразит вас своей неисчерпаемой жизнерадостностью. И так, не спеша, будем ждать, пока пройдет ваш сплин и опять явится и вдохновение, и жажда творчества… Согласны вы? Разве я не права?
– Да, вы правы!.. – вздохнул он. – Я так одинок, так одинок…
– А теперь вы не будете одиноки. Будете греться у нашего эмигрантского очага. Ведь мы – такие же эмигранты, как и вы, мой мальчик… Это сознание должно еще больше нас сблизить… Не будем откладывать, приходите завтра к восьми часам обедать. Будет профессор, будет один наш полковник. Он играет для кинематографа. Вы более опытный в этом деле, можете дать ему несколько советов… Словом, постараемся, чтобы вы не скучали. Придете?..
– Приду, – ответил он с какой-то безразличной покорностью.







