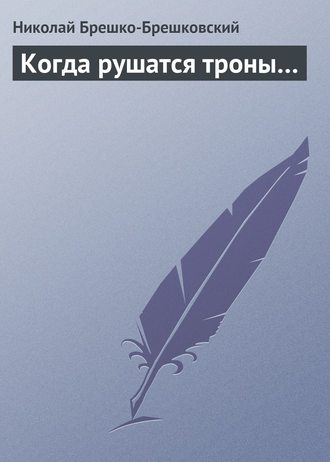
Николай Брешко-Брешковский
Когда рушатся троны…
42. Тронная речь
В Париже еще, принимая ходоков, звавших его на рухнувший трон предков, Адриан, – мы это помним, – всякий раз говорил, что вернется только самодержавным монархом.
И вот он вернулся, и все покорно, с надеждой и верой подчинилось ему. Эта надежда и вера еще больше окрепли после тронной речи.
Эта речь в тронном зале была такая же самобытная, как и состоявшийся несколько дней назад смотр войскам.
Обыкновенно в такой своей речи монарх обращается к тем людям, которые менее всего выражают собой народ и действительных представителей народа. Сама же речь, казенная, бледная, составленная демократическим премьер-министром, проходит вяло и скучно, как одна из переживших самое себя побрякушек конституционной монархии.
По-другому и совсем другими нотками звучала речь Адриана, и совсем другие были слушатели. Это говорил не только самодержавный монарх, но еще и диктатор, вождь, освободивший свою страну.
А слушали его, затаив дыхание, с благоговейным чувством не адвокаты, загримированные социалистами, не аптекарские ученики, мечтавшие не о пилюлях, а о бомбах, не демагоги всех цветов и оттенков, – его слушали уцелевшее дворянство, офицеры, священники, слушал народ, тот самый народ-земледелец и пастух, тот мужик горной и плоскостной Пандурии, который поднялся вместе с своим королем и вместе с ним раздавил коммунистическую гадину. До сих пор от имени этих людей говорили самозванцы, вышеупомянутые адвокаты, фармацевты и демагоги. А теперь не было ни тех, ни других, ни третьих. Лицом к лицу со своим монархом стояли не маскарадные крестьяне и «пролетарии», а подлинные, – с коричневыми обветренными лицами, с коричневыми мозолистыми руками.
Король сказал им:
– Парламент дорого обошелся нам всем. Дорого, как в прямом, так и в переносном значении слова. Четыреста болтунов, – наполовину изменники, предатели, негодяи, – довели наше отечество сначала до Мусманеков, Шухтанов, Абарбанелей, а потом до Штамбаровых; оно было уже на самом краю бездны. Довольно болтовни, бесполезной, вредной, растлевающей. Эти четыреста бездельников обманывали вас, выдавая себя за ваших представителей, а вы содержали их, тратя на них миллионы. Нам надобно отстраивать заново Пандурию, надо воспитывать новые поколения, новых граждан, честных, верящих в Бога и любящих родину. Пусть другие страны продолжают в слепоте своей забавляться дорогостоящей игрушкой – парламентаризмом. Чуть не погубив нас, он губит и наших великодержавных соседей. Это – сплошное гноище, гноище, где торгуют совестью, родиной, головами противников… У нас теперь много насущнейших нужд, требующих больших денег, денег и денег, и одна из главнейших и священнейших, – призреть и воспитать многочисленных сирот-детей, отцы и близкие которых замучены большевиками.
Легкий одобрительный гул пронесся над морем голов, над человеческой гущей, затопившей громадный тронный зал.
– Кто будет править вами? – продолжал Адриан. – Я! И верьте мне, – а я знаю, вы мне верите, – я вложу в это все мои помыслы, всю мою душу, все мои пламенные молитвы к Господу, всю мою жизнь! Помогать мне будут мои министры, которых я выберу. А мне и моим министрам будете помогать вы, – мой народ! Между мной и вами, – моим народом, – не будет никаких преград. Мой дом будет открыт для вас. Каждый пандур, у кого будет что сказать своему королю, сказать необходимого, ценного для блага и процветания отчизны, – придет, скажет и будет выслушан. Нам не надо посредников, для которых вы – пушечное мясо и которые кощунственно клянутся и лгут вашим именем…
Перейдя к внешней политике, Адриан простым, понятным языком обрисовал будущие международные отношения.
– Пандурия не потерпит никаких давлений извне. Ей не надо никаких великодержавных опекунов и советчиков. Пандурия завоевала себе право идти своим путем. Международным банкирам, правящим Европой, не удастся навязать Пандурии свою волю!..
При этих словах гордо выпрямился Адриан, и чем-то смелым и гневным заблестели его глаза. Стоявший в своей бело-зеленой чалме, вместе с группой мусульманского и христианского духовенства, имам, восхищенный, шепнул соседу – мулле:
– Разве не прав я был, назвав его Сыном Солнца?!
43. По-королевски…
Некоторые иностранные корреспонденты, успевшие всеми правдами и неправдами, и по воздуху, и по морю, и по суше достигнуть Бокаты, успевшие передать в своих телеграммах содержание тронной речи, втайне сочувствуя перевороту, но не смея в этом сознаться, называли Адриана в своих корреспонденциях «крестьянским королем». Этим они хотели выгодно оттенить его перед демократией всего мира. Но это было вовсе не так на самом деле. «Крестьянский король» – это уже была бы недостойная монарха партийность. Адриан же был выше партий. Он был королем всего народа, беспристрастный к тому или иному классу, и вовсе и не думал уничтожать сословия, привилегии, титулы.
Он говорил:
– Соревнование только тогда и возможно, когда не все острижены под одну гребенку, – это было бы скучно и отзывало бы социалистической казармой, – а когда лучшие, способнейшие, достойнейшие пробивают себе дорогу к дворянству, к титулам, к почетным званиям.
Это свое мнение король иллюстрировал через день после тронной речи награждением всех тех, кто больше других отличился в деле освобождения и спасения родины.
Было собрано около пятидесяти человек. Кроме Зиты Рангья, было еще несколько пандурских женщин. Были офицеры, солдаты и крестьяне, начиная от подростков и кончая седобородыми стариками в шрамах и с медалями за прежние войны.
У всех, ожидавших выхода короля, был праздничный вид, и каждый по-своему волновался.
Перед дворцом густилась многотысячная толпа. В ней – и родственники, и знакомые награждаемых, и много было просто любопытных, но в таком приподнятом настроении, словно всех ожидали королевские милости, Это была гордость, гордость самая платоническая, гордость за других, посторонних, ибо эти другие были свои же, пандуры.
В белом зале, где награждаемые выстроились подковой, из внутренних апартаментов появился молодой адъютант ротмистр Рокаро. Бережно поставив на круглый малахитовый стол небольшой ларец и положив несколько твердых пергаментных свитков, он громко объявил:
– Сейчас пожалует Его Величество!
Все подтянулись, кое-кто откашлялся в последний раз, как бы желая побороть смущение, и все замерло.
И потому, что все трепетно ловили момент, когда выйдет король, именно поэтому он вышел неожиданно и как бы всех застав врасплох.
Он ответил на общий глубокий поклон. Остановился в центре человеческой подковы. Адъютант протянул ему один из пергаментных свитков. Не разворачивая его, Адриан громко вызвал:
– Баронесса Рангья!
Зита, выйдя вперед на несколько шагов и сделав реверанс, ждала трепещущая, с дрогнувшей линией губ и с теми кротко-умоляющими глазами, которыми она всегда смотрела на свое божество.
– Баронесса Рангья, за ваши услуги, услуги исключительно важные и бесценные в святом деле спасения родины, жалуем вас титулом герцогини Трагона. В случае вашего вступления в брак титул сохраняется за вами. Таковы традиции владетельного дома Трагона, угасшего полтора века назад и передавшего нам право награждать этим титулом достойнейших. Соблаговолите, Ваша Светлость, получить высочайший указ.
Зита подошла к Адриану, то бледная, то пунцовая вся, – так отливала и приливала к нежному личику горячая краска. Бережно принимая высочайший указ, Зита, следуя этикету, коснулась губами руки короля. Счастье душило ее, она не могла произнести ни одного слова благодарности. Шевелились губы, но не было звука…
Герцогиня Трагона заняла свое прежнее место. Адриан держал второй пергаментный свиток.
– Шеф тайного кабинета Артур Бузни, поздравляю вас маркизом и кавалером ордена Ираклия первой степени.
Адъютант поднес королю ларец. Король вынул оттуда большой белый эмалевый крест с золотым сиянием, с тяжелой массивной цепью, надел ее на шею Бузни и, пожав руку, поцеловал его. Маркиз Бузни, склонившись к руке монарха, вновь стал в полукруг.
Джунга был произведен в генерал-майоры с зачислением в свиту.
– Лейтенант Эмилио Друди! Приношу вам глубокую благодарность от себя и от имени всего народа. Отныне вы капитан первого ранга, потомственный граф и наш флигель-адъютант…
– Ваше Величество!..
– Это еще не все. Вы так много сделали для Пандурии, что, как бы я ни вознаградил вас, все будет мало, недостаточно. Чего бы вы хотели еще?
– Ваше Величество, я так безмерно осыпан вашей милостью, – задушевно молвил Друди, – но раз мне позволено моим королем высказать еще какое-нибудь желание, я его высказываю. Ваше Величество изволит помнить роковое утро, когда Господь Бог не допустил гибели «Лаураны» и все мы сошли на чужой берег в Феррате. Дабы толпе не бросалась в глаза блестящая форма Вашего Величества, вы накинули на себя мой черный морской плащ. Пусть же этот момент будет историческим для всей Пандурии, для пандурской армии и флота. Я желаю, чтобы отныне, в память этого момента, командиры военных пандурских кораблей и судов не носили черного плаща, который они в моем лице отдали раз навсегда своему державному вождю. Ваше Величество, это мое единственное желание, и я буду счастлив, если вы увековечите приказом по армии и флоту…
– Капитан граф Друди, вам пришла столь же благородная, сколь и красивая мысль, красивая, ибо в традициях всегда есть какая-то подкупающая красота. Благодарю вас от всего сердца.
Крепким пожатием Адриан отпустил Друди, поцеловавшего королевскую руку.
– А теперь подойди ко мне, мой верный старый друг Зорро!..
Король обнял седоусого гайдука и украсил его грудь орденом Ираклия второй степени.
– Чего бы ты хотел, Зорро? Ты спас и меня, и семью от неминуемой смерти! Мы твои вечные неоплатные должники. Скажи, чего ты хочешь?
– Ваше Величество… Ваше Величество, – дрогнул хриплый суровый голос старого Зорро, – я… я прошу одного, как великой милости… чтобы мне, верному слуге, и твоему, и отца, и деда твоего, чтобы можно было умереть у порога твоей опочивальни… А то, говорят… все говорят – это-де стародавние обычаи… а я… я не могу, привык… Да и пускай кто другой охраняет так своего короля, как я!
Адриан улыбнулся своей обаятельной улыбкой, и все кругом улыбнулись.
– Не беспокойся, дорогой мой Зорро! Как было, так и будет впредь. Я же еще жалую тебя и все твое потомство в дворяне и даю тебе в дар одно из моих имений.
Ордена и кресты получило из рук Адриана несколько женщин, проявивших особенную доблесть во время ночного боя за обладание столицей. Деревня, пославшая в Париж красавицу Дату выкармливать престолонаследника Бальтазара, вся была возведена в дворянское достоинство.
Никого не забыл Адриан и всех наградил поистине по-королевски и с королевской щедростью. Все двенадцать летчиков были повышены двумя чинами, а грудь их украсилась крупными воинскими отличиями.
44. Глава заключительная, прощальная
Ну вот, наше повествование о прекрасном и светлом короле Адриане, восстановившем трон славных предков своих и вырвавшем народ свой из липких смертоносных щупальцев красного спрута, – подходит к концу.
Чуть ли не ежедневно осаждали королевский дворец крестьянские депутации из ближних и дальних округов.
– Где наш престолонаследник? Пандуры хотят видеть своего маленького Бальтазара, будущего короля своего!
И вот он прибыл, этот десятимесячный пухленький, краснощекий, здоровый престолонаследник вместе с Лилиан, теткой своей. И потянулись новые депутации, но уже с подарками. Несли пандуры маленькому Бальтазару своему вышитые полотенца, самодельные игрушки, миниатюрные национальные костюмы, – все это любовно, артистически исполненное простыми деревенскими руками пандурских девушек и женщин. Все это аккуратно записывалось, регистрировалось как живая иллюстрация трогательной любви народной к маленькому существу, которым гордились пандуры – и как будущим монархом своим, и как сыном того, кто спас страну от неминуемой гибели.
Подъехавший из Парижа Тунда исполнил свое обещание и написал великолепный большой портрет, изображающий Бальтазара с его красавицей-мамкой. Вслед за этим Тунда с увлечением принялся за батальную картину – Адриан во главе своей кавалерии Божьим гневом преследует бегущих большевиков. В смысле движения и мощно катящейся конской лавины это был шедевр изумительный.
Королева Маргарета не спешила с возвращением. После всего пережитого ей так хотелось одиночества, так хотелось грустить наедине со своими думами… Она уехала в Сан-Ремо. Окна ее виллы выходили на море, и она часами сидела, наблюдая зеленоватые, как малахит, волны и прибой с длительным шуршанием, достигающим прибрежных пальм. Она думала, что ее жизнь, ее личная жизнь кончилась и вместе с увядающей красотой увядает и ее душа, душа женщины. И, в конце концов, женщина угаснет и останется королева. Королева, знавшая мало счастливых мгновений…
Мусманек жил с дочерью и женой в своем отеле возле парка Монсо, отеле, купленном на краденые деньги. Он задавал приемы и весьма огорчался, что об этих приемах ничего не пишут в отделах светской хроники. Вопиющая несправедливость! Ни слова! А о том, что Адриан катался в Булонском лесу, об этом писали, и еще как писали!
Абарбанель тоже купил особняк, и тоже возле парка Монсо, и жил в нем вместе с Менотти. Жили в полном согласии, и только однажды закатила она ему отчаянную сцену. Это когда появилось в печати, что Зита Рангья награждена титулом герцогини Трагона.
– Вот видишь! Вот видишь! – кричала в ярости вспылившая Менотти, топая ножками. – Она герцогиня! Ее светлость! А меня вы с Шухтаном не могли сделать даже маркизой! Благодаря вашей свинячей республике я потеряла титул!..
– Дорогая моя, ты потеряла то, чего никогда не имела, – пытался утешить ее дон Исаак, – а я потерял всю мою недвижимость. Мои дома, имения, леса, копи, мои фабрики и заводы, мои рудники, – все конфисковано! Все! И, как видишь, я не особенно тужу. На наш век хватит!..
– Да, но… ты зато имеешь меня…
– Конечно, это большое счастье, что и говорить, – смеялся Абарбанель.
Но Менотти никак не могла успокоиться.
– А я… все-таки хочу, хочу быть маркизой… Купи мне титул! Купи!!.
– Где же я тебе его куплю, это не колье и не диадема. Когда была монархическая Австрия, я сделал бы тебя баронессой. А теперь… – беспомощно разводил руками дон Исаак.
Портной из Ферраты оказался счастливей танцовщицы Менотти. На третий день переворота он был уже в Бокате и получил звание поставщика Его Величества.
Зита овдовела в ту самую ночь, когда король взял Бокату и белые расстреляли красного министра путей сообщения. Несколько дней спустя такая же участь постигла и Штамбарова. Любитель порнографических фотографий выкинул гениальный трюк, в суматохе спрятавшись под стол, когда ворвался Друди. В суматохе же Штамбаров покинул дворец, и только через несколько дней, опознанный крестьянами уже у самой семиградской границы, был сначала жестоко избит ими, а затем повешен на дереве, на котором проболтался целые сутки. На Штамбарове нашли много миллионов в иностранной валюте.
Спустя несколько дней после восстановления монархии в столицу Пандурии примчались из Парижа ротмистр Калибанов и полковник Павловский. Первый оставил свое берейторство в манеже, второй – свою шоколадную фабрику, где он таскал ящики.
Король, посвященный маркизом Бузни в то, как оба русских офицера лихо расправились с убийцами на авеню Анри Мартен, принял Калибанова и Павловского в милостивой аудиенции, зачислив их тем же чином в свою гвардейскую конницу. Вообще доступ русским офицерам в пандурскую армию был открыт весьма широко и всячески поощрялся. При поступлении каждого официально уведомляли:
– Когда пробьет час освобождения вашей собственной родины и вы понадобитесь ей, вы мгновенно получите полную свободу действий… и жалованье за полгода вперед.
Веронику Барабан женщины запороли до смерти, все еще приговаривая, уже над трупом:
– Вот тебе, баба-комиссар! Вот тебе! Вот тебе…
Прочная, нежная любовь поселилась в сердцах Зиты и Адриана.
А все же время от времени, наедине с самим собой, со вздохом сладостной волнующей тоски, вспоминал король хрупкую, гибкую, как лиана, Мата-Гей. Вспоминал призрачное утро, когда уходил от нее после первых объятий, уходил заласканный, разнеженный, весь в истоме, а она белым, повисшим в воздухе видением провожала Адриана, уходившего в даль пустынной, спящей улицы.
Ах, эта Мата-Гей… Ах, эта рю Лиссбон… Король их никогда не забудет!..
А Зита? Зита угадывала между собой и Адрианом призрак соперницы. Угадывала и прощала таким же великим чувством, каким была вся великая любовь этой маленькой герцогини. Да и разве могло быть что-нибудь на свете, чего не простила бы она своему Адриану?..
Да, любовь прощает все, даже большее, чем может простить человек на земле…
1925







