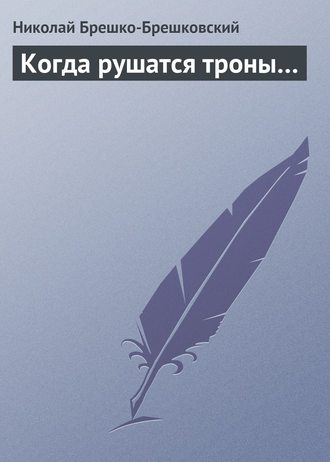
Николай Брешко-Брешковский
Когда рушатся троны…
11. Новый роман
Повар из Валенсии оказался на высоте призвания. Испанский обед запивали такой душистой малагой, – цветы, украшавшие стол, не могли заглушить ее аромат. В полной гармонии с обедом, малагой и цветами была прелестная хозяйка, декольтированная, с обнаженными руками. Теперь это было еще более избалованное, капризное, детски-переменчивое существо, чем утром, когда строгий мужской костюм дисциплинировал тело и скрадывал женственность.
Молодых людей весело, жизнерадостно опьяняла взаимная близость, и, когда их горячие пальцы встречались, какая-то властная магическая сила мешала им разъединиться. Эта же самая сила притягивала взгляды больших синих глаз Мата-Гей и темных, опушенных длинными ресницами, глаз Адриана. Порой они замирали так, хотя и разделенные столом, но скованные одной истомой, одним желанием…
Это настроение передавалось «черной опасности», служившей им. Кэт, как бы чувствуя себя именинницей, легко носила свою тяжелую тушу, и ее громадные белки как-то особенно сверкали на черном, лоснящемся лице негритянки.
Кэт кое-что знала. Знала еще с утра.
Как только утром ушел Адриан, Мата-Гей, схватив свою Кэт, завертела ее в бешеном вихре. Долго потом негритянка не могла отдышаться и, по крайней мере, минут двадцать пребывала в состоянии блаженного обалдения.
Кэт понимала свою госпожу без слов и поняла, что госпожа влюблена. Что ж, всякого им успеха! Такая пара, такая – на редкость!..
А Мата-Гей, превратив негритянку в запыхавшегося истукана, заплясала вокруг нее, как пляшут жрицы перед исполинским уродливым божеством.
Это было утром, а вечером за обедом Кэт улыбалась до ушей своим громадным ртом с такими зубами – какое угодно железо перекусят.
В «Лютецию», один из лучших парижских кинематографов на авеню Ваграм, поспели к началу «Короля без короны». Когда вошли в ложу, было темно и только экран сиял светлым прямоугольником с надписями и мелькающими фигурами.
Типичная американская драма с женщинами в изумительных туалетах и мужчинами, из которых каждый отличный акробат, боксер и наездник. Было несколько жутких, захватывающих драк, было несколько пышных, богато поставленных сцен в дансинге, и не было, или почти не было, короля – и с короной, и без короны. Так, бледная второстепенная фигура, выведенная для звучного заголовка. Весь центр тяжести в Мата-Гей, с ее прекрасной, немного манерной, идущей к ее типу игрой, ее переживаниями и, это самое главное, – ее танцами.
В танцах Мата-Гей было что-то свое, особенное, и грация, техника были тоже свои, не поддающиеся никакому определению. С ней это родилось и с ней умрет.
И вправду, очаровательна была салонно-балетная иллюстрация боя быков. Ловкий, худощавый матадор, виртуозно играя плащом, то преследовал Мата-Гей, то убегал, в свою очередь, преследуемый танцовщицей в головном уборе с двумя настоящими рогами. Она с таким природным безыскусственным изяществом наклоняла свою белокурую головку, словно бодая рогами своего партнера-противника, – нельзя было не восхищаться. И восхищался весь театр, восхищался Адриан, сжимая теплую ручку близко прильнувшей к нему Мата-Гей…
Это было какое-то странное ощущение раздвоения… И одна Мата-Гей, и две их – та, которая рядом с ним, и другая, там, на экране. И обе – очаровательны с той лишь разницей, что Мата-Гей, сидящая в ложе, одета с подчеркнутой скромностью, а Мата-Гей, танцующая в дансинге – полуобнаженная вакханка. Ее длинным красивым ногам позавидовала бы сама богиня Диана.
Не видя еще артистки обнаженной, Адриан уже видел ее, уже знал все чары упоительного тела с его дивной пластикой. Тысячная толпа жадно следит за каждым изгибом этого тела, и никто не подозревает, что в полумраке ложи притаилась Мата-Гей, живая, настоящая и только одному, одному избранному счастливцу, обещает себя всю…
– Нравлюсь ли я вам? Нравлюсь? – каким-то млеющим от блаженства шепотом спрашивала она, сжимая его руку…
Он отвечал ей таким же ищущим, ненасытным пожатием, ласкающим, перебирающим каждый пальчик.
Да, он околдован. Прямо сказочное впечатление. Даже не верится, что Мата-Гей, милая, капризная птичка, может так перевоплощаться и так творить, творить мимикой, телом, всем существом своим…
Она захватила его и потому, что вообще не могла не захватить, и потому еще, что Адриан в силу исключительно высокого положения своего далеко не был искушенным в романах. Любой его сверстник имел гораздо больше так называемых «галантных» приключений, больше связей и больше знал женщин, чем он, всегда связанный этикетом. Все его увлечения можно было в буквальном смысле слова перечесть по пальцам, даже не прибегая к помощи обеих рук.
Полуторачасовой мрак сменился резким, ослепляющим светом. Они выждали антракт, выждали, пока вновь погасло электричество и незаметно, словно крадучись, словно стыдясь чего-то, ушли…
Чай был заботливо сервирован толстой негритянкой. Но не до чая было артистке и Адриану. Совсем, совсем другая жажда томила обоих. Жажда поцелуев…
И хотя налиты были две чашки, но никто из них и не притронулся. Они остыли, забытые. Руки, и губы, и два тела мучительно так тянулись друг к другу… Поцелуи, объятия начались в столовой, сперва при свете, а потом электричество было потушено. Столовая казалась неуютной. Перешли, словно спасаясь от кого-то, и может быть, от самих себя, в гостиную. Ничего не видя, кроме охватившей их страсти, и еще потому, что было темно, Мата-Гей и Адриан натыкались на мебель и, производя шум, замирали, как два испуганных подростка… Поцелуй, длительный, тягучий… новые поцелуи… В изнеможении добрались они до дивана, открывшего им свои мягкие удобные объятия… Потом, через несколько минут, а может, и целую вечность, не помнили оба, как очутились в спальне…
Он уходил на рассвете. Мата-Гей, воздушная, просвечивающаяся вся сквозь тонкий батист, провожала его через всю квартиру. Это длилось, по крайней мере, полчаса. Не было ни воли, ни желания оторваться друг от друга. И когда он нерешительно открыл дверь на лестницу, Мата-Гей хищно, шаловливым движением захлопнула ее…
Вот он ушел. Она бросила ему вниз, в пролет лестницы:
– Жду к восьми!..
Спустившись еще ниже, он услышал:
– Я буду на балконе…
Он шел по улице, пустынной, сизо-холодной, и в этой сизо-холодной дымке видел на высоте четвертого этажа, словно повисшую в воздухе, призрачную фигуру Мата-Гей, махавшей ему платком.
Для него это было ново, свежо, молодо, и он был растроган и умилен. Как хорошо иногда не быть королем. Такая сентиментальная картинка разве возможна была бы в Бокате, где за каждым шагом Его Величества следили сотни глаз – и доброжелательных, и завистливых. И добрых, и злых, но одинаково назойливых.
Хотелось идти все вперед и вперед, и чем дальше, тем больше бодрости вливалось и в душу, и в тело, и ясней, отчетливей работала голова.
Так вернулся к себе в Пасси. Но лечь и забыться – нечего было и думать. Наоборот, хотелось движения, хотелось ощущать себя, свою здоровую молодость…
Он позвонил в манеж и велел подать Альмедо к шести. А сам разделся, принял холодную ванну и через несколько минут был уже в костюме для верховой езды.
На этот раз в Булонском лесу он, к своему великому удовольствию, был один-одинешенек.
В обычное время Бузни писал под диктовку. Воспользовавшись маленьким перерывом для отдыха, шеф тайного кабинета сказал, останавливая на Адриане свои живые, бегающие глаза:
– Ваше Величество, вы работаете сегодня с каким-то особенным вдохновением. Мысль так свободно и гладко льется, сравнения и образы такие яркие, – это будут, пожалуй, самые сильные страницы воспоминаний…
– Да, вы находите? – переспросил Адриан, не глядя на Бузни и думая: «Как хорошо, что он ничего не знает…»
Король ошибся. Шеф тайного кабинета знал, где Его Величество был утром, где обедал, в каком был кинематографе и где провел ночь.
Во время этого же самого перерыва поданы были утренняя газеты и, по обыкновению, в двух экземплярах. Адриан и Бузни раскрыли «Matin» и увидели на первой странице два фотографических снимка рядом, – короля Пандурии и королевы экрана Мата-Гей.
Снимки сопровождались текстом с жирными эффектными подзаголовками. Описывалось происшествие на авеню Анри Мартен. И хотя все описание был сплошной дифирамб Адриану, его смелости, рыцарству, его качествам блестящего кавалериста, он скомкал и бросил газету.
– Оказывается, и в Париже меня не оставляют в покое! И здесь нет никакой личной жизни!..
Это он сказал, а подумал другое. Подумал, что теперь, узнав, кто он, Мата-Гей уже не будет такой наивно-восхитительной любовницей, какой была несколько часов назад…
Громкий титул, преследующий его и в изгнании, пожалуй, вспугнет и самое Мата-Гей, и ее такую трогательно-искреннюю, такую желанную влюбленность. Жаль, очень жаль, если это будет так…
12. Ах, зачем он король?
Мата-Гей спала крепко и долго, спала сном утомленных счастливых…
Напрасно звонили на рю Лисбонн из манежа, в котором часу и куда подать лошадь. Кэт яростно шипела в телефонную трубку:
– Спит… спит…
Проснулась Мата-Гей в половине двенадцатого и, все еще скованная истомой, вся напоенная, насыщенная ласками, лениво потягивалась на своей широкой постели.
На звонок госпожи негритянка внесла кофе и целую пачку газет, – Мата-Гей просматривала ежедневно с десяток газет в надежде найти о себе. И обязательно что-нибудь где-нибудь находила.
Сегодня же с особенным нетерпением набросилась. Вчерашнее приключение, едва не ставшее катастрофой, повлечет за собой весьма приятную рекламную шумиху. Недаром же в течение целого дня звонили вчера ей из редакции, и сотрудники заезжали расспросить о подробностях.
Первым делом Мата-Гей атаковала «Matin». Смотрит, почудилось, что под ней заколебалась не только кровать, а и вся спальня, вся квартира, весь дом… В первое мгновение даже не поверила своим синим глазам и хорошенько протерла их.
Газетных дел мастера умели подать лицом ходкий и сенсационный товар. Рядом с фотографией Мата-Гей газета поместила один из прежних портретов Адриана во всем великолепии парадной формы гусарского генерала. Меховая шапка с высоким султаном, ментик, отороченный соболем, ордена, звезды и лента Почетного легиона.
– Нет, нет, не может быть! – все еще сомневалась Мата-Гей, думая, что это мистификация. – Но нет, сходство разительное этого короля Пандурии с молодым красавцам, поцелуи которого еще не успели остыть на ее губах, на груди, на всем теле…
При других условиях, а именно, не будь этих поцелуев, Мата-Гей безумно радовалась бы этой редчайшей рекламе, которой не выдумать и за которую можно заплатить большие деньги. А сейчас, сейчас такое чувство, как если бы у нее что-то похитили, да, похитили такое милое, дорогое, хрупкое… Этот военный, этот король в пышном мундире, весь в орденах и звездах, пугал ее своим царственным блеском, своим титулом «величества». О, как было проще и лучше, когда Мата-Гей не знала, кто он!
– Зачем не сказал правду?.. Зачем, зачем, зачем?
И какая-то ярость овладела ею. Она готова была исцарапать себе лицо, вырывать волосы прядями. Она била руками и ногами по простыням, подушкам. Она подняла такой трезвон на всю квартиру, что перепуганная Кэт лавиной вкатилась в спальню.
– Смотри!.. Смотри! Видишь? Понимаешь?
Но Кэт ничего не видела, не понимала. Артистка, зажимая газету в кулачке, выкрикивая что-то исступленное, вряд ли понятное и ей самой, несколько минут держала так негритянку в страхе и трепете.
А потом, потом сразу сменила свой гнев на милость. Вскочив, босая, бросилась к Кэт, звонко поцеловала ее и, схватив, с размаху посадила на кровать…
– Смотри! Видишь? Он – король! Ах, Кэт, зачем все это? Зачем он король? Я не хочу… Слышишь, я не хочу… не хочу! – и, прыгнув на колени к «черной опасности», сжавшись в комочек, она расплакалась.
Днем Мата-Гей получила от него цветы, а к вечеру явился он сам. Она встретила его с какой-то выжидающей робостью, с каким-то кротким, вопрошающим укором во взгляде…
– Зачем? Зачем? – все с той же мольбой тихо, тихо шевелились ее губы.
– Что зачем, дитя мое? – ласково спросил он.
– Это! Это! – держала она скомканный номер с двумя большими снимками на первой странице.
– Я сам не знаю – зачем, и сам нахожу это совсем лишним.
– Нет, зачем вы не сказали, кто вы? Зачем? – повторяла она.
– Друг мой, вы же меня не спрашивали, кто я? – просиял он усмешкой, такой неотразимой всегда.
– Нет, надо было сказать, что вы король! – упрямо твердила она.
– Сказать? Но что же я мог сказать? Я никогда никому не представлялся. Одно из двух – или меня знают, или же я соблюдаю инкогнито…
– Да? – поколебалась Мата-Гей. – Но почему же, когда я спросила – князь вы или граф, вы, вы отрицали это?
– Да потому, мое дорогое дитя, что я не граф и не князь…
– Погодите, погодите!.. – и недоумевающе пытливо замигала она ресницами и, вспыхнув, сконфузилась. – Ах, я совсем, совсем глупая! Ну конечно, вы же не граф и не князь… – вымолвила Мата-Гей, вот-вот готовая расплакаться.
Адриан нежно привлек ее к себе.
– Дорогая моя, право же, мы спорим из-за каких-то пустяков… Не все ли равно, в конце концов, кто я такой? И разве случайные обстоятельства, что я был королем и эти… эти господа поместили мой прежний портрет, разве это может внести в нашу… в наши дружеские отношения какой-нибудь диссонанс? Ведь так же?..
Она смотрела глазами, полными крупных слез, и, доверчиво прильнув головкой к его груди, беспомощно, по-детски, расплакалась. И успокаивал он ее, как ребенка:
– Не надо… Совсем не надо плакать… Не изменилось же ничего…
– Да… Нет… Да, да… Хотя, нет… Я, я буду теперь вас бояться…
– Ну, вот!.. Меня бояться!.. Я же только бывший король, бывший, а вы, очаровательное дитя, настоящая королева. Вдвойне! Королева экрана и моя, – властвующая над моим сердцем.
– Вы смеетесь, а мне… мне страшно…
– Чего же вам страшно?
– Я сама не знаю, а только страшно… – и, улыбнувшись сквозь еще не высохшие слезы, она, уже другая, веселая, счастливая, совсем другим голосом, озабоченно-шутливым, спросила:
– Какие цветы красивые… Ведь это вы их прислали?
– Да.
– Я убрала ими наш обеденный стол… Пойдем! – и, взяв Адриана за руку, она увлекла его за собой.
13. «Маклаковщина»…
Мы уже знаем, что Калибанову удалось устроиться в манеже. Под его наблюдением находились конюшни. Он отпускал лошадей, выезжал их и давал уроки верховой езды богатым дамам и барышням, бравшим эти уроки частью из снобизма, частью из желания согнать лишнюю полноту.
Маленький, сухой, энергичный, с жокейской внешностью, Калибанов, отдававший манежу и утром, и вечером несколько часов в день, успевал еще писать статьи для местной русской национальной газеты, посещать лекции, доклады и собрания, связанные с Белым движением, успевал встречаться со знакомыми вообще, принимал участие в русской эмигрантской действительности. А складывалась действительность довольно-таки безотрадно, и горизонт постепенно затемнялся трауром все новых и новых туч, мало радости суливших России и русскому делу.
Эррио – лионский «бархатных и шелковых дел мастер», убежденный в прочности социалистического друга своего Макдональда и не желая оставлять этого друга в одиночестве, спешил с признанием кровавой шайки международных бандитов, окопавшихся в Москве.
Уже темная преступная накипь – сотни людей без роду, племени и отечества, даже без имен и фамилий – устремились в Париж под видом советских чиновников для дипломатической работы, а на самом деле для взрыва изнутри как самой Франции, так и ее богатейших колоний. За последнее время Калибанов часто виделся с Джунгой и Бузни. Он был информатором шефа тайного кабинета по русским делам в частности и вообще по всему тому, что попадало в поле зрения наблюдательного, умеющего смотреть, искать и слушать ротмистра.
Раза два в неделю они собирались втроем за стаканом вина где-нибудь на веранде скромного кафе в Отейле. Больше говорил Калибанов, а оба собеседника, время от времени задавая вопросы, слушали. Каждый по-своему слушал. Бузни – все время с неустанно бегающими глазами на румяном, словно загримированном лице. А Джунга – с мрачно-свирепым лицом и с двумя «крысятами», шевелящимися над верхней губой. В моменты негодования и возмущения «крысята» уже не шевелились, а прямо ходуном ходили на широком, скуластом монгольском лице Джунги.
Однажды вечером, после обеда, – дело шло уже к осени, – Калибанов явился на одно из таких обычных rendez-vous озабоченный, взволнованный. На его бритом выразительном лице все колебания души отражались четко, определенно. Джунга и Бузни спросили в один голос:
– Что с вами, ротмистр? Какие-нибудь новые неприятные вести?
Калибанов осмотрелся глазами старого опытного разведчика. По соседству не было никого, никаких посторонних ушей. Мраморные столики кругом – пустые. В глубине кафе гарсон клюет носом, сидя с зажатой в руке салфеткой.
Друзья никогда не встречались в одном кафе дважды. Всякий раз в каком-нибудь другом.
Да и по пути зорко следили, не маячит ли за спиной подозрительная тень. Джунга, – солдат с головы до ног, – не искушен был во всех этих ухищрениях. Ну а Бузни и Калибанов были не из тех, кого можно легко провести.
Калибанов, закурив папиросу, начал:
– Отвратительно, так отвратительно – хуже быть не может! Сегодня у всякого русского человека такое ощущение, как если бы ему наплевали в душу. Признание социалистической Францией Совдепии – отныне свершившийся факт. Весь вопрос разве в каких-нибудь неделях…
– А вы сомневались в этом? – пожал плечами Бузни.
– Сомневался ли я? Все мы до последней минуты не хотели верить, надеялись… На что и на кого только мы ни надеялись… Но когда это признание, в котором не знаешь чего больше – глупости, продажности или подлости, встало перед нами во весь рост, когда не сегодня-завтра наш посольский дворец, этот символ недавнего величия России, перейдет в руки интернационального сброда, а остатки нашего флота в Бизерте будут выданы этому самому интернациональному сброду, одно сознание, – целый град самых оскорбительных, самых убийственных пощечин… Я говорил об этом французам, говорил кровью сердца – не понимают! Или понимают очень немногие. Вам, господа, вам, пандурам, это понятно, ближе. У вас самих это все еще так свежо и так мучительно болит…
Зашевелились усы Джунги, как если бы он готовился вставить свое слово. И он вставил, вообще не будучи особенно разговорчивым. Хотелось высказаться.
– Вот вы и волнуетесь, и страдаете, места не найдете. Но странные вы люди – русские! Вы умеете доблестно погибать и погибали и в великую войну, и в гражданскую, но в борьбе с этими мерзавцами я вас не понимаю и никогда не пойму. Смотрите… У нас в Пандурии большевизма пока еще нет, есть «керенщина», а обманутый народ, народ-мститель уже проявил себя, проявляет, и еще как! Вся эта республиканская дрянь и носа своего не смеет показать за городскую черту. Да и в городах их убивают смело, открыто, не убегая от полиции и гордясь совершенным возмездием. А то ли еще будет, когда нашу «керенщину» сменит коммунизм! Но где же ваши русские мстители? Где? Вы, эмигранты, вы должны были в такие тиски террора зажать всех этих красных дипломатов, чтобы никто из них и подумать не дерзнул выехать из Совдепии. А между тем, в одном Париже их несколько сот человек. Они свободно разгуливают, пьянствуют, и ни одна русская рука не поднялась, не раздалось ни одного выстрела. Вообще, вы сами говорите, – со дня на день передадут им посольство. Кто передаст, позвольте спросить?
– Как кто? Французское правительство!
– А французское правительство от кого получит? Сидит же там у вас кто-нибудь?
– Да. Посол Временного правительства – адвокат Маклаков.
– Хм… адвокат? Что же, этот адвокат протестует? Идет на громкий мировой скандал? Обещает уступить только грубой физической силе?.. Перед войной я был здесь в вашем посольстве с Его Величеством, еще в бытность его престолонаследником. Мы были на большом парадном обеде. Какая поистине царственная сервировка! Какое старинное богатейшее серебро! Что же, адвокат Маклаков все это приберегает для красных дипломатов? Он должен был вывезти все это и как императорское имущество оставить на хранение у великого князя Николая Николаевича. Он сделал это?
– Нет! Он этого не сделал, – с горькой язвительной усмешкой ответил Калибанов.
– Странно! Более чем странно, – заметил, укоризненно качая бритой головой своей, Бузни.
– Вам странно, господа. Нам же, русским – ничуть! Наоборот, было бы странно, если бы господин Маклаков поступил иначе.
– Что же это за человек? – спросил Бузни.
– Что за человек? Охотно, господин шеф, набросаю вам его портретец. Адвокат, столь же талантливый краснобай, сколь и беспринципный. Но карьеру свою делал в рядах фрондирующей кадетской партии. За границей оплевывал и чернил все русское и вместе с Милюковым срывал займы русского Императорского правительства, чем оба эти господина, весьма схожие с третьим сыном праотца Ноя, чрезвычайно гордились. Жадный к деньгам, Маклаков брался за такие дела, от которых порядочный, уважающий себя адвокат брезгливо отвернулся бы. Да и отворачивались… Несколько минут назад я с ужасом представлял картину вторжения большевицкого хамья в дивный дворец нашего посольства. Но, увы, должен сознаться, что и демократизация, уже внесенная туда Маклаковым и его сестрицей, – в достаточной степени была гнусна. Человек на редкость скупой, Маклаков всегда отвратительно одевался. Вы представляете себе эту фигуру в ночных туфлях-шлепанцах, расхаживающей по залам посольства? В этих же самых туфлях-шлепанцах этот «керенский» посол принимал французских сановников и журналистов. Портреты русских императоров и даже Александра III, создавшего франко-русский союз, завешены какими-то грязными простынями. Что это? Зачем? Желание вычеркнуть самые блестящие страницы русской истории? В эпоху сначала Деникина, Колчака, а потом Врангеля в русском посольстве в Париже сосредоточивались все политические и военные тайны Сибири и Юга России, а затем – Крыма. Русский посол Маклаков нашел уместным и удобным в отделе печати и пропаганды держать нескольких своих приятелей, от которых не было никаких тайн. Один из этих пронырливых приятелей, в прошлом – корреспондент большой московской газеты, еженедельно почти ездил из Парижа в Лондон с докладом к знаменитому Красину. Надо ли пояснять, какие это были доклады? А штат русских чиновников, полезных, опытных техников, сокращался. Один из них, калека Мусатов, потерявший ногу на консульской службе, вышвырнутый Маклаковым за борт, покончил самоубийством. Приятели же как сыр в масле катались. От сестрицы, пыжившейся изобразить из себя посланницу, они получали пособия. Но если раненый русский офицер приходил за пособием, длинная, высохшая старая дева грубо, а иногда прямо-таки дерзко встречала его. Иногда прямо с места: «За каким чертом вы приехали в Париж? Сидели бы там, в Сербии!» Офицеры уходили со слезами, проклиная эту гладильную доску.
– Как? – не понял Бузни.
– Доску, на которой гладят белье, длинную, плоскую. Это – фигура сестрицы, – пояснил Калибанов.
– Теперь я начинаю понимать, – отвечал Бузни, – почему погибла Россия. В ней, к сожалению, было очень много таких, как этот… этот посол. Много? Да?
Калибанов молча поник головой.
– Ну хорошо, вот вы говорите, у них был человек, ездивший в Лондон к товарищу Красину и сообщавший ему все тайны – политические и военные, как деникинские, так и врангелевские. Как вы полагаете, господин Маклаков знал об этом?
– Полагаю, что нет… Не знал.
– Следовательно, изменником, предателем вы его не считаете?
– Предателем – нет, попустителем – да. Прежде всего Маклаков – масон. А масоны – люди без отечества и люди строжайшей конспиративной дисциплины, царящей в их тайных организациях. Я не допускаю, чтобы Маклаков сознательно работал на большевиков. Но бессознательно, не подозревая сам, – работал на них.
– Не совсем понятно… Будьте добры пояснить.
– Извольте. Как старый масон, господин этот находится в плену у масонов-социалистов и повинуется, не смеет не повиноваться, их директивам. От кого исходят директивы? От товарищей Блюмов, тех самых Блюмов, которые вертят как угодно не только маргариновым «керенским» послом, но и самим Эррио. Смею вас уверить, что Маклаков не совещался с такими русскими людьми, как великий князь Николай Николаевич, генерал Врангель, граф Коковцев, – как ему поступить с посольским имуществом. Он совещался с Керенским, Блюмом, и те, разумеется, сказали ему: «Отдай, отдай все! Будь корректен!» И не могли иначе сказать… Не могли! Большевики им понятней и ближе, чем Россия, чем русский национализм, честь и достоинство родины. И вот все, решительно все, делается к торжеству и выгоде красного хама.
– Это ужасно, ужасно! – повторял Джунга, схватившись за голову, и вдруг ударил своим громадным кулаком по столу. – Нет, лучше бы взорвать посольство, чем пустить туда эту дрянь. Лучше открыть кингстоны и потопить весь русский флот в Бизерте, чем дать взвиться над ним красным тряпкам. Будет Россия, – будет новое посольство, будет новый флот. Все будет! – и как-то пророчески звучали последние слова Джунги. Он умолк, и создалось настроение, которое никому не хотелось нарушать…







