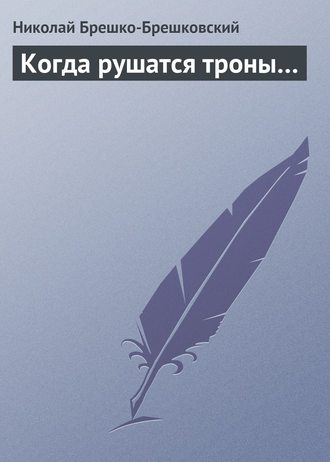
Николай Брешко-Брешковский
Когда рушатся троны…
24. Больная душа в здоровом теле
Королева почему-то уверена была, что Ловицкий не придет. Но ровно в восемь он уже входил в общую гостиную во втором этаже виллы, одетый в отлично сидящий, превосходно сшитый смокинг. Этот смокинг, да еще пиджачная пара от «братьев Сангвинетти» в Милане – все, что уцелело у юноши от богатого гардероба, заказанного ему синьором Гамерио, когда он играл светских молодых людей, графов и герцогов.
Увы, от всех этих фраков и визиток – даже и воспоминания не осталось! Все это за гроши покупали парижские старьевщики, когда не было на обед ни одного франка. Но смокинг уцелел, и Сережа произвел в нем впечатление титулованного итальянского барчука.
Скучающий, рассеянный, не растерянный, именно рассеянный вид. Вряд ли он успел разглядеть своих новых знакомых. Вряд ли успел почувствовать, как они сразу к нему отнеслись – тепло и просто. Да кроме теплоты и простоты была какая-то бережность. Со слов матери сын и дочь уже знали, что под этой здоровой, цветущей атлетической внешностью притаилась больная тоскующая душа и надлежит прикасаться к ней с особенной чуткостью.
В Лилиан, с ее сияющими глазами-звездами, уже проснулось желание «опекать» этого несчастного мальчика и путем ухода, чтения, успокоительных бесед вылечить, пробудить больную дремлющую душу.
Адриан как спортсмен, Джунга как силач, заинтересовались юным геркулесом в смокинге. Удалившись с ним в отгороженный китайскими ширмами чудесной артистической работы уголок, принялись его осматривать.
– Будьте добры, согните руку в локте! – просил Джунга. – Вот так… Ого!.. Ваше Величество, извольте убедиться, какие бицепсы и какое богатейшее предплечье! Маэстро, да вы сами вряд ли сознаете, какая у вас мускулатура! Вы, наверное, много уделяете ежедневной тренировке? Вы работаете тяжестями или гантелями?
– Никак! Я совсем не тренируюсь, – отозвался Сережа, ничуть не польщенный восторгом скупого на похвалы адъютанта.
Вообще, он проявлял удивительную пассивность, покорно позволяя Джунге ощупывать железными пальцами и свои руки, плечи, спину, и выпуклую грудь свою.
Подъехал Тунда, успевший по дороге выпить несколько рюмок коньяку.
– Да, да! Какой великолепный Человеческий экземпляр! Он будет мне позировать… Мы его увековечим! И не стыдно, имея такое мощное тело, валяться до полудня в кровати? Нет, Ловицкий, я вам этого не позволю! Я буду вас поднимать по утрам. Вообще, вы себя безобразно ведете! О, мы все теперь за вас возьмемся хорошенько… Ничего не имеете против? Да мы вас и спрашивать не станем…
– Пожалуйста… Я буду очень рад… – отозвался юноша без малейшей радости.
За обедом он очень мало ел и тогда лишь пил вино, когда ему подливал сидевший рядом профессор.
– Что вы любите? – допытывался Тунда. – Красное, белое, портвейн, венгерское?
– Мне все равно… Я не разбираюсь… У меня нет вкуса к вину…
– И к жизни?
– И к жизни, – согласился скульптор.
Переглядываясь с Маргаретой и косясь на своего соседа, Тунда укоризненно покачивал головой, как бы говоря: «Ничего с ним не поделаешь, и вряд ли будет из него толк!..»
В одиннадцатом часу Сережа и Тунда ушли вместе. Тихая, лунная теплая ночь, в которой не было ничего осеннего, повисла над садами и виллами Пасси и своим звездным куполом, и остро отточенной секирой ущербленного месяца. Гулко отдавались по пустынной панели шаги.
– Какое впечатление произвели на вас король и принцесса?
– Они, кажется, очень хорошие… Принцесса вся такая воздушная. Ее трудно было бы вылепить. Она скорей живописная, чем скульптурная. А он, он для монумента. Я его представляю верхом в красивой форме. Могла бы выйти редкая по красоте конная статуя… Тяжелая поступь лошади и царственный всадник. Чувствуешь – движется история…
– Видите, как это вы художественно восприняли! – оживившись, подхватил Тунда. – Займитесь этой конной статуей. Его Величество охотно будет позировать. Мы выберем укромный уголок тут же, поблизости, в лесу, а чтобы вам не было скучно, и я буду писать его портрет. Согласны? Идет?
– Да, хорошо, – безразлично ответил Сережа.
– Да, хорошо! – задорно как-то передразнил его Тунда. – Бесстыдник вы этакий!.. Сколько вам лет – двадцать два или восемьдесят, и что у вас течет в жилах – кровь или молочко пополам с водицей? Видите, там сияет огнями и рокочет Париж, он ваш, он зовет! «Приходи и бери меня! Бери со всем, что я могу тебе дать. Слава, богатство, блеск, лучшие женщины, красивая, утонченная жизнь, – все твое, твое, потому что ты молод, талантлив и мимо тебя нельзя пройти, не обернувшись»… Так или нет? Да отвечайте же вы, молодой античный божок!..
– Я пойду к себе… Можно?
– Нет, нельзя! Не пущу я вас!.. Смотрите, какая ночь. Мы возьмем такси и поедем на Монмартр. Заглянем в «Табарен», будем пить шампанское и будем смотреть, как пляшут гитаны… Не маргариновые, а настоящие… – И, боясь, что Ловицкий удерет, Тунда крепко схватил его за локоть и, не выпуская своего пленника, усадил его в такси.
25. Обреченный
В «Табарене» только что просыпалась ночная жизнь. Съезжались гости, большей частью иностранцы, занимали открытые ложи, требовали шампанское.
Профессиональные танцоры, бесцветные, вылощенные, с такими же, как и они, профессионалками, танцевали «шимми» и «фокстрот», дразня и втягивая публику…
От столиков с вином, ликерами и кофе отделялись пары и выходили на середину зала, начиная делать то, что делали наемные танцоры, только менее искусно и более прилично. Это приличие – вовсе не целомудрие, а просто дилетанты из публики не обладали бесстыдством профессионалов, бесстыдством производить тут же, на людях, непристойные, разжигающие чувственность телодвижения…
Дымя сигарой, поблескивая глазами, пригубливая шампанское, говорил Тунда юноше:
– Я далеко не святой, наоборот, я старый, нераскаянный греховодник, но противны мне эти современные танцы. Может быть, я с удовольствием смотрел бы, как топчутся на одном месте, прижимаясь друг к другу всем телом какой-нибудь голый чернокожий красавец с рыбьей костью в носу и его партнерша в колье из крокодильих зубов на груди. Это наивно, сами они наивны в своей откровенной животной похоти… Но когда все это проделывают мужчины во фраках и дамы в бальных платьях, вышколенные балетмейстером, воля ваша – противно! Ничто, пожалуй, так не отражает эпоху, как танцы. Только послевоенные годы с их озверением, жестокостью, всяким отсутствием поэзии, только они могли создать все эти прикосновения, за которые лет пятнадцать назад мировой суд привлек бы, как за оскорбление общественной нравственности. Но, – возьмите же ваш бокал. Не бойтесь, он не обожжет вам пальцев, а вино не отравлено… Ваше здоровье! За вашу молодость, за ваш талант, за ваши успехи и, главное, за то, чтобы вы встряхнулись и были не мокрой курицей, а настоящим орленком, с которым пока что имеете лить внешнее сходство. Но, Бог мой, как на вас смотрят женщины! Как их тянет к вам, тянет, невзирая на сидящих рядом мужей и любовников!
И действительно, такой свежий, сильный, такой эффектный в своем миланском смокинге, с нежно-румяным, юношески-свежим лицом, Сережа привлекал внимание полуобнаженных, и молодых, и увядших, сверкающих бриллиантами дам. Именно, как определил профессор, их тянуло к нему, выгодно выделявшемуся средь молодых и пожилых, одинаково потасканных мужчин.
А он – хоть бы что! Его нисколько не волновали эти взгляды, зовущие, полные обещаний, эти полураскрытые губы, тоже обещающие, зовущие.
Атака приняла более энергичный, более активный характер. Гибкая красавица-испанка в мантилье на высокой прическе с еще более высоким черепаховым гребнем и с алой гвоздикой в белых, блестящих зубах медленно подошла к Сереже и, задорно подбоченившись, заколыхавшись всем телом, вынув изо рта гвоздику, провела ей по лицу юноши и пощекотала ему губы. Всякий другой на его месте обнял бы красавицу, а он сидел, смущенный, не зная, куда девать руки. Испанка очутилась в неловком положении, но вышла из него очень ловко. Резким, уверенным движением она воткнула ему свой цветок в петличку смокинга и, не оглядываясь, ушла, уверенная в себе, с насмешливой улыбкой. Профессор, молча наблюдавший эту сцену, забеспокоился. Положительно, этот мальчик внушает опасение. Ни на минуту нельзя оставлять его наедине с самим собой.
Перед самым началом испанских танцев, как «гвоздь», приберегаемых напоследок, Сережа начал проситься:
– Вы мне позволите уехать домой?
– Что вы? Уже надоело?
– Нет, не надоело, а так…
– Посидите еще… Эти гитаны после всей этой пошлятины дадут вам прямо художественное впечатление. Темперамент, техника, пластика, – все такое самобытное, огненное. Неужели это вас не интересует как художника хотя бы?
– Нет… Домой хочу…
– Ну, хорошо. Домой, так домой, – и Тунда потребовал счет.
Он отвез Сережу в Пасси и, прощаясь, сказал:
– Спите хорошенько! Завтра в десять я подниму вас с постели.
– Да… Пожалуйста…
Профессор, оставшись один с сонным шофером, не спешил сесть в такси. Мелькнула мысль: а не лучше ли взять юношу к себе?.. Хотя не показалось бы это ему навязчивым… Нет, пускай выспится, а завтра, завтра они проведут весь день вместе.
Утром, поднявшись на третий этаж винтовой лестницы, профессор постучал в дверь концом трости.
– Мосье Серж, вставать! Не откликается.
– О, какой же лентяй! Спит! Но я вас не оставлю в покое. – Профессор уже не стучал в дверь, а барабанил… И опять молчание.
Ушел разве? Быть не может. Тунда нагнулся к замочной скважине. Ключ внутри. Тунда похолодел, обвеянный злым предчувствием, но, желая обмануть самого себя и заглушить страх новыми ударами трости, он закричал срывающимся голосом:
– Да отзовитесь наконец! Что за глупые шутки!..
Но Сережа не отзывался. Холодные струйки озноба сменились у Тунды испариной, и седая шапка волос сразу стала вдруг влажной. Схватился за сердце и, отдышавшись, сбежал вниз искать консьержа.
Выломали дверь и, друг друга толкая, ворвались и тотчас же попятились. Ловицкий висел посредине комнаты на крючке, вбитом в потолок для газовой люстры. Висел в смокинге и с алой гвоздикой в петличке. Висел с почерневшим, искаженным лицом. Тело, то самое тело молодого геркулеса, которым вчера только восхищались король и Джунга, успело одеревенеть. Губы, которые минувшей ночью испанка пощекотала цветком, были сизо-багровые, и такой же сизо-багровый кончик языка.
Консьерж, недовольный, – эти русские вечно устроят какую-нибудь гадость, – побежал телефонировать в полицейский комиссариат.
Тунда, отвернувшись в уголок, всхлипывал, закрыв лицо руками.
26. Две смерти
Всегда в таких случаях добрые, чуткие люди впадают в самобичевание. Тунда терзался, обвиняя только себя.
Конечно, это он, старый дурак, виноват! Дернула же тогда нелегкая назвать Маргарету в его присутствии «вашим величеством»! А ведь как она предупреждала, как боялась этой обмолвки. Чуткость женщины не обманула ее.
А затем, дальше? Возьми он юношу к себе ночевать, этот несчастный мальчик не висел бы почерневший, с высунутым языком.
О, до чего же все это ужасно! Особенно для него, Тунды, влюбленного в жизнь и так ненавидящего смерть!..
И, не смея оглянуться на то пугающее, чужое, непонятное, что несколько часов назад было прекрасным юношей, потрясенный художник плакал, плакал едва ли не впервые за десятки лет. Всю свою долгую жизнь, бывшую для него ярким ликующим праздником, он смеялся и шутил, скользя от впечатления к впечатлению и стараясь, чтобы эти впечатления были приятные.
Когда он всплакнул, чтобы рассеять удушливый гнет, начал убеждать себя, что его собственной вины нет здесь, что такова неудачливая судьба мальчика. Всем своим видом, всем своим существом говорил он о своей обреченности.
Она, обреченность эта, роковым клеймом отметила его. Тунда убедился в этом с первого же взгляда.
Пусть он взял бы его ночевать к себе, пусть! Это лишь отодвинуло бы фатальную развязку. На другой, на пятый день он все равно кончил бы самоубийством. Раз он потерял всякий аппетит к жизни, раз он мог быть таким, каким был вчера, уже никакие силы не могли спасти его.
Необходимо известить королеву… Ах, эта полиция. Всегда опаздывает… Но не успел профессор это подумать, лестница заскрипела под ногами нескольких мужчин, и в комнату вошел комиссар с двумя агентами и с консьержем.
Тунда мог уйти, и он ушел, вернее, убежал.
Дежуривший у калитки Зорро сказал ему, что королева гуляет в Булонском лесу и с минуты на минуту должна вернуться.
Хорошо ему, – с минуты на минуту… Каждая секунда, и та – чуть ли не целая вечность! А с другой стороны, хотелось собраться с духом, найти слова и форму, – как он поднесет королеве новость, которая ее глубоко опечалит.
Неожиданное появление Маргареты застало его врасплох. Он не успел приготовиться, да и незачем было. Взглянув на него, Маргарета поняла сразу, – случилось что-то большое, непоправимое. Инстинкт женщины и матери подсказал ей действительность. Но инстинкт всегда борется, всегда требует слов, подтверждений. И с резкостью, так несвойственной ей, всегда величавой, плавной, схватила она за руку Тунду:
– Говорите! Неужели? Неужели?
Он молча поник головой.
– Когда? Как? Говорите же! – и она увлекла его прочь от виллы.
Словно оправдываясь, все время с запинками, повторяя одно и то же, оттягивая ненужными подробностями самое главное, рассказал он, и что они делали вчера, и что он увидел сегодня утром. Был момент, – королева пошатнулась. Профессор поддержал ее. Она крепко оперлась на его руку. И они долго стояли молча, думая об одном, ошеломленные одним и тем же горем. Тихо, спокойно, – чего стоило ей это спокойствие? – она сказала:
– Я хочу остаться одна… Заезжайте в два часа… Мы поговорим обо всем…
Тунда снял шляпу и так, с непокрытой головой, смотрел вслед Маргарете.
Ясное осеннее утро было таким траурным не только для матери, но и для сына. В то самое время, когда Маргарета, опершись на руку Тунды, медленно идя и останавливаясь от волнения, слушала его, Адриан, успевший сделать прогулку верхом и вернуться, с жутким изумлением, не веря ни собственным глазам, ни самому себе, прочел на первой странице «Matin» жирный и крупный заголовок:
Трагическая смерть королевы экрана Мата-Гей
Вчера автомобильная катастрофа унесла от нас с трагической роковой внезапностью величайшую звезду экрана Мата-Гей, унесла в самом расцвете молодости, таланта и редкой, изумительной красоты…
Дальше следовало описание. В Компьенском лесу происходили съемки новой драмы из жизни Двора II империи. Мата-Гей играла роль одной из фрейлин императрицы Евгении. После съемок, уже перед вечером, целая фаланга автомобилей возвращалась в Париж. В головном автомобиле ехала Мата-Гей с одним из режиссеров и с двумя артистками.
Шофер, не желая переехать собаку, вертевшуюся под колесами, круто повернул и на бешеном ходу налетел на телеграфный столб. Мата-Гей и шофер – убиты на месте. Режиссер и обе артистки – легко ранены.
Адриан ощутил какой-то металлический вкус во рту. Он сделал сильное глотающее движение, еще и еще, чтобы не задохнуться. В самом деле, не хватало воздуха…
Всего два дня назад виделись они, и так же, как всегда, были опьяняющи их поцелуи и неотразимы их ласки. И вот глупый шофер, пожалевший собаку, не пожалел этой прекрасной Мата-Гей с ее прекрасной душой, дивным телом и почти гениальным талантом киноартистки. Да, гениальным. Говорилось кругом и отмечалось прессой, что за последнее время талант Мата-Гей окреп и вполне драматизировался. Это уже не была изящная, капризная куколка-танцовщица, это была актриса, актриса-женщина, умевшая глубоко чувствовать, переживать… Бульварные газеты не стеснялись намекать, и намеки эти были весьма прозрачны, что секрет пышного артистического расцвета неподражаемой Мата-Гей надо искать в ее увлечении каким-нибудь очаровательным принцем. Имя этого принца – на устах золоченого блестящего Парижа.
Содрогнулся Адриан, представляя, боясь представить себе Мата-Гей холодную, вчера еще гибкую, как лиану, сегодня – закостеневшую, с изуродованным лицом, размозженным черепом. Да, да, в автомобильных катастрофах это неизбежно… Адриан видел их несколько во время войны…
Им овладела физическая слабость, – это пройдет. А пока, пока нехорошо… Вяло так, беспомощно…
Овладев собой, оправившись, он помчится туда, на рю Лисбонн, чтобы узнать у черной Кэт все-все… Все подробности…
Вошел Бузни, успевший прочесть «Main». Вошел осторожно и тихо, как к больному. И хотя он принес папку рукописей, однако спросил, и это было скорей утверждение, чем вопрос…
– Ваше Величество сегодня не будет работать?..
Адриан молча взглянул на него и, молча кивнув, отвел взгляд. Бузни вышел.
Спустя минут сорок, мать, войдя к сыну, застала его таким же, каким застал Бузни.
Маргарета успела оплакать Сережу, успела взять себя в руки, освежить лицо и спустилась к Адриану.
Увидев его тяжко задумчивым, горестным, она ощутила прилив нежности, какой еще никогда не было по отношению к сыну.
Мягко взяв голову сына в обе руки, она прижала ее к своей груди.
– Что с тобой?
Вместо всякого ответа, Адриан, не меняя позы, обнял мать за талию и еще сильней прижался лицом к ее груди.
– А ты знаешь, этот молодой скульптор! Его уже нет. Он покончил с собой… – у нее духу не хватило сказать «повесился».
– Да! – только и было ответом.
Это безучастие сына, всегда внимательного, чуткого, даже совсем к посторонним людям, не изумило королеву. Она истолковала это правильно: значит, у самого Адриана слишком мрачно и тяжело на сердце, если он так отнесся.
Надо развлечь его, дать другое направление мыслям, задеть в нем самое близкое, свое, родное.
Лаская его голову, она сказала:
– А у нас, в горах, восстание ширится… И знаешь, кто едва ли не главный и нерв, и душа, и мозг? Зита! Маленькая Зита!..
Адриан, встрепенувшись и взяв ее руки, почти с гневом воскликнул:
– Мама, раз навсегда… Умоляю вас, не говорите мне об этой женщине…
– Выслушай меня!..
– Мама…
– Ты должен выслушать!.. Сядем. Не перебивай меня, будь терпелив.
Он подвинул ей кресло и сел сам, готовый слушать, но предубежденный, решивший, что матери не переубедить его. Маргарета не сразу начала, обдумывая каждое слово.
– Мне это нелегко говорить… Я виновата, очень виновата и перед тобой, и еще больше – перед ней… Но другого выхода не было… Пришлось пожертвовать личным чувством во имя династических интересов… И ты никогда не узнал бы правду, если бы не овдовел… Но теперь, когда ты свободен, я тебе скажу все. Зита перед тобой чиста и боготворит тебя больше прежнего. Да, да, ты сейчас убедишься! – поспешила мать, увидя на лице сына горькую, недоверчивую улыбку. – Я не встречала еще такой героини, как Зита, способной на самое крайнее самопожертвование. Зита знала: у тебя не хватит решимости порвать с ней, чтобы жениться на Памеле. Надо было так сделать, чтобы ты разлюбил ее, Зиту. Даже больше, почувствовал к ней отвращение. И сознательно, с истерзанной, окровавленной душой, взошла эта маленькая Зита на жертвенный алтарь. Она хотела убедить тебя в своем романе с этим… этим Абарбанелем. В действительности же не только никакого романа не было, а Зита едва разрешала ему целовать кончики своих пальцев.
Адриан хотел возразить, но ограничился нетерпеливым жестом.
– Зита по отношению к тебе и к своей любви осталась такой же чистой и светлой. Но разве не убедительней всего ее прямо титаническая работа сейчас над тем, чтобы вернуть тебе утраченную корону. Не только символически вернуть, а и в самом прямом значении слова. Ей удалось похитить и увезти в горы с помощью Друди обе короны пандурской династии. Не будь Зиты, большевики продали бы их в музей какого-нибудь американца.
Оживившийся, просветленный, Адриан, порывисто бросившись перед матерью на колени, спросил:
– Мама, откуда вы все это знаете?
– От самой Зиты, – ответила с торжествующей улыбкой Маргарета. – Я с ней все время в переписке…
27. Подслушанный разговор
Калибанов со своим бритым лицом жокея после двух-трех месяцев манежа приобрел совсем берейторский вид. Сухой, сбитый весь, маленький, он ходил в желтых галифе, подшитых кожаными леями, в невысоких мягких сапогах, носил клетчатую кепку и не разлучался со стеком.
Зарабатывал Калибанов недурно, и хватало не только на жизнь, а еще и угостить обедом или завтраком какого-нибудь всплывшего вдруг в Париже друга-приятеля по славной отечественной коннице.
Вот и сегодня, в воскресенье, день-другой спустя после трагической гибели Сережи и Мата-Гей, угощал Калибанов полковника Павловского.
Да, в недавнем прошлом он был блестящим офицером Лубенского гусарского полка. В его же эскадроне, кстати, отбывали воинскую повинность оба брата Сережи Ловицкого – Миша и Боря.
А теперь, теперь это – смуглый мужчина в потертом английском кителе, знавшем и Кубань, и взятие Царицына, и агонию Новороссийска, и героическую врангелиаду в Крыму. Теперь это давно не бритый человек, хлебнувший и голода, и нищеты, отчего лицо его стало похожим на печеное яблоко. Набедствовавшись в Париже, Павловский зацепился за какую-то шоколадную фабрику, где приходилось таскать и ворочать ящики и где платили пять франков в день, за вычетом воскресений.
И вот они оба, Павловский и Калибанов, однокашники – птенцы Елисаветградского кавалерийского училища, сидят на кожаном узеньком диванчике в каком-то подобии кабинетика. Именно – подобии… Справа и слева – вроде стеклянной, матовой, разрисованной всякой всячиной стены. Эти обе стены на высоте человеческого роста опускаются изогнутыми линиями к общему залу ресторана. Во всяком случае, впечатление ложи.
Гарсон поставил блюдо с закусками. Вернее, целый ассортимент миниатюрных блюд, каждое в виде трапеции. На этих «трапециях» – сардинки, масло, сыр, шпроты, корнишоны, колбаса, редиска.
– А за отсутствием очищенной, мы угостимся кальвадосом, – и Калибанов потребовал именно этот крепкий напиток, приятно обжигающий все нутро.
Гарсон, налив две рюмки, хотел унести бутылку и удивился, когда Калибанов попросил оставить ее.
Павловский, огрубевшими от физической работы пальцами, поднял рюмку.
– За скорейшее возвращение домой.
– Дай Боже… Только «сумлеваюсь», чтобы скоро… – ответил Калибанов с гримасой удовольствия на бритом лице от выпитой рюмки.
– Ты сомневаешься? – спросил Павловский.
– Хотелось бы, ох, как хотелось бы не сомневаться, а только видишь сам, какая кругом мерзость… Леон Блюм, правящий Францией, через своего приказчика Эррио, справляет медовый месяц с кремлевской шпаной. Шпана эта въехала в Императорское российское посольство, превратила его в нечто среднее между публичным домом и кандальным отделением сахалинской тюрьмы. Шпана жрет на царском серебре, угодливо оставленном ей господином Маклаковым, и не только в ус себе не дует, а задрала ноги на стол и требует, – давай ей флот Врангеля.
– Неужели отдадут? – встрепенулся Павловский.
– А почему бы и нет? Почему? У власти товарищи-социалисты, а разве есть гнусность, разве есть подлость, которой не могли бы выкинуть социалисты? Вот, может быть, Англия прикрикнет на них: «Цыц, не сметь». Да еще зашевелились Болгария, Румыния, Турция, – кому охота иметь в своих водах флотилию красных пиратов? Давай еще! Хорошая штука этот самый кальвадос. Да, противно жить! Что ни день – такое ощущение, словно вступил ногой в вонючую гадость и носишь эту гадость на сапоге… Прости, дружище, за неаппетитное сравнение, но, право же, это именно так! Больше полугода правят они Францией, эти, с позволения сказать, социалисты и чем же они занимаются? Подходят с государственной точки зрения к рабочему вопросу? Заботятся об удешевлении жизни? Благодетельствуют род людской? Ничего подобного! Проповедуют мир, а сеют смуту, рознь, классовую и религиозную ненависть. Им, изволите ли видеть, надо порвать с Ватиканом, ибо этого желает Блюм. Хотя, хотя… это к лучшему. Все национально-мыслящее, все верующие в Бога, а не в дьявола, пробуждаются и организуются под предводительством генерала де Кастельно. У социалистов – Блюм, прятавшийся от воинской повинности, у националистов – генерал, доблестно воевавший на фронте и принесший в жертву отчизне трех своих сыновей. И вот, лицом к лицу, стоят две Франции: Франция – Блюма и Франция – де Кастельно. И вот вопрос, чья же Франция победит в конце концов? Все идет или к большевизму, или к здоровой диктатуре. В самом деле, разогнать всю эту сволочь легче легкого…
Калибанов хотел продолжать, Павловский, в свою очередь, тоже хотел сказать что-то, но пресекшийся Калибанов сделал ему знак, – погоди, мол…
Вниманием Калибанова овладел разговор вполголоса в соседней ложе. Речь шла на пандурском языке, довольно хорошо усвоенном ротмистром за два года жизни в Бокате. И, странная вещь, голос одного из собеседников почудился знакомым…
Он где-то слышал этот мягкий, слащаво-приторный тенорок, тенорок влюбленного в себя мужчины.
Голос говорил очень тихо, но выразительно:
– С каждым днем он становится опасней. Он – знамя! А если перерубить древко, – знамя упадет и, лежа во прахе, перестанет быть знаменем. Словом, необходимо покончить на этих же днях… – Тут слащавый голос что-то произнес до того тихо, – напрягавший свой слух Калибанов не уловил ни звука.
Тем более, ротмистр, дабы у соседей не показалось подозрительным молчание, воцарившееся в его ложе, машинально говорил первое попавшееся:
– Да… да… конечно… кто знает… увидим… увидим. А, впрочем… Пей кавальдос… я не могу, – и, нарочно, уже по-французски, заплетавшимся языком, Калибанов добавил:
– Я совершенно пьян…
– Вы оба хорошо знаете Париж? Ну так вот, каждое утро, от восьми до девяти, он катается верхом, на авеню Анри Мартен. В эти часы аллея для езды пустынна. Ни полицейских, никого! Стреляйте… Оба – для верности! Но не на рыси, а когда будет ехать шагом. При известном хладнокровии вам легко будет исчезнуть…
Одобрительное двойное «хмыканье» было ответом.
– Дальше… Предполагать всегда надо худшее. Допустим, кого-нибудь из вас, или даже обоих, – схватили! Допустим. Чего бояться? Что вам грозит? Что? Самое большее – несколько месяцев тюрьмы! Подумаешь, какой это ужас!.. Ведь вы же не новички-дебютанты…
Новое «хмыканье», уже с придушенным подленьким смешком.
– Я бы на вашем месте радовался! Попадете в политические герои. На суде переводчик скажет от вашего имени красивые слова о вашем желании убить «коронованного тирана». Убить за его преступления против демократии. Сейчас это здесь в большой моде. Вас оправдают, и социалисты на руках вынесут вас из зала суда… Что же касается материального обеспечения, вы знаете, до чего щедро мы оплачиваем своих агентов… Итак, с завтрашнего дня ходите аккуратно, как на службу. Ходите на авеню Анри Мартен. Что же касается… револьверы должны быть крупнокалиберные. Каждую пулю, – тут Калибанов скорее угадал, чем услышал, – надрежьте крестообразно, – и после уже донеслось – величиной с тарелку…
Восстановить было легко. Очевидно, сосед пояснял своим собеседникам, что выходное отверстие раны от надрезанной пули будет величиной с тарелку…
Слушая все это, Калибанов холодел и уже не подавал реплик Павловскому, вроде:
– Да… да… конечно… как знать…
Все помыслы его – уже там, на королевской вилле, и хотя еще много времени, но было чувство опасения, что он опоздает предупредить. Он сидел, как на раскаленной жаровне. Мысли, стремительные, короткие, с такой же стремительностью сменяли друг друга. Позвать полицию? Арестовать заговорщиков? Но полиция Эррио и Блюма выпустит этих господ и, чего доброго, арестует самого Калибанова, как «нежелательного иностранца». Нет, сначала надо увидеть этих людей, увидеть обладателя голоса, показавшегося знакомым… Он, Калибанов, наденет по самые брови свою клетчатую кепку и полупьяной походкой, пряча лицо, пройдет мимо соседней ложи в уборную. Ничего не понимавший Павловский смотрел на него во все глаза.
Но соседи облегчили задачу, и ротмистр мог оставаться в своем кабинете. Главный заговорщик потребовал счет, заплатил и, бросив своим агентам: «Вы посидите еще», ушел. Калибанов, прячась за Павловского, видел, как мимо прошел к выходу щеголеватый, с подведенными бровями Ячин.
Так вот кто душа заговора на жизнь короля Адриана!..
Не сиделось Калибанову. Дергало всего нетерпением, Куда аппетит девался!.. Предоставив хронически голодающему Павловскому насыщаться, Калибанов, пройдя к буфету, увидел двух кудлатых, черномазых, неряшливо одетых пандуров. Они пили вино, за которое заплатил Ячин. Калибанов запомнил подозрительные физиономии этих молодцов.
Вернувшись к своему столику, он сказал приятелю:
– Павловский, не обижайся на меня, дорогой. Я должен тебя покинуть… Дело спешное и чрезвычайной важности. А ты не торопись, кончай обед… И вот тебе, дружище, сто франков. Заплати по счету.
– А сдачу?
– Сдачу? Не беспокойся. При встрече вернешь.
– Да куда же ты, что с тобой? Какая муха укусила? Ничего не понимаю…
– И не надо понимать. Сам потом все расскажу. А пока… – и, крепко сжав Павловскому локоть, схватив свою клетчатую кепку, маленький ротмистр выбежал из ресторана…







