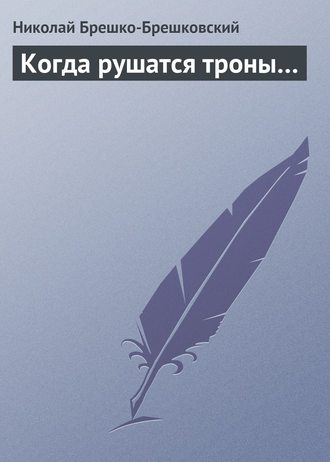
Николай Брешко-Брешковский
Когда рушатся троны…
18. Зорро находит выход из безвыходного положения
– Где Его Величество? – в один голос спросили Джунга и Алибег.
– Король уже знает все, – ответил Бузни. – Он пошел предупредить королев и принцессу… Что с нами будет? Что с нами будет? – хрустя пальцами, с тоской вопрошал всегда румяный, а сейчас бледный шеф тайного кабинета. – Уже не выйти, не прорваться! Мы отрезаны от всего мира, ото всех… Бедный граф Видо… Если его не арестуют сегодня ночью, завтра он проснется… нет, это ужасно, ужасно!.. Господа, вы офицеры, военные… неужели никакого спасения?..
– Довольно, – перебил Джунга, и усы двумя крысенками зашевелились над его верхней губой. – Дворец уже в мешке… Этот мешок с каждой минутой стягивается!.. Мы готовы их встретить, готовы своей жизнью спасти королевскую семью!.. Они сюда ворвутся только по нашим трупам!.. К нам никто не подоспеет на помощь… Сейчас миноносцы начнут обстреливать кавалерийские казармы… Слышите?
И действительно, полуосвещенный кабинет встрепенулся от двух пушечных выстрелов. И особенно зловеще и жутко было: это свои, свои пандурские орудия били по своим же пандурским казармам. Смолкли раскаты, затихли совсем, а стекла все еще дребезжали в переплетах окон, и это было страшнее, пожалуй, чем сами выстрелы.
Новая очередь, новые раскаты и вновь длительно дребезжат стекла.
– Кавалерия отрезана!.. Последняя надежда… – пролепетал Бузни чужим, деревенеющим языком, окончательно пришибленный бомбардировкой. На него, штатского человека, она производила убийственное моральное впечатление. – Но хорошо!.. Есть же еще пехота… Почему же пехота?..
– Пехота?.. – переспросил Джунга. – Эти распропагандированные мерзавцы объявили нейтралитет и своих офицеров не выпускают из казарм… Мусульманский же гвардейский батальон…
Где-то совсем близко защелкали винтовочные выстрелы.
– Тимо уже атакует нас! – и Алибег бросился прочь из кабинета к своим людям, уже отвечавшим на выстрелы.
– Где же Его Величество? Где?.. – зарычал адъютант с искаженным лицом, потрясая громадными кулаками своими.
Бах… ба-бах-бах… палили взбесившиеся миноносцы в глубь темной звездной ночи.
– Алибег продержится час, а может, и больше… За это время… В двух километрах отсюда, в бухточке Адора стоит лейтенант Друди со своей «Лаураной». Если бы… если бы можно было добраться… через три с половиной часа Друди перебросил бы королевскую семью к берегам Трансмонтании… Проклятие, никак не выбраться из этой западни!.. Дворец окружен!.. Все выходы.
Чья-то рука цепко сжала адъютантский локоть. Лицом к лицу Джунга увидел старого гайдука Зорро.
– Есть ход под землей… Зорро знает… Кроме Зорро – никто…
– Куда?..
– К морю… как раз на Адору выходит…
– Правда, Зорро? – и, схватив гайдука за плечи, Джунга мотал его в приливе безумной радости.
А уже весь дворец, всего несколько минут назад величавый, сонный, ожил, заговорил… С криками метались охваченные паникой слуги, задевая и опрокидывая мебель…
Вошел, почти вбежал Адриан, физически бодрый, – шаги звучали твердо, но невыносимо страдающий, не за себя, нет, за трех женщин, оставшихся в глубине дворца.
– Я их обманул. Разве я мог поступить иначе? Сказал, что им не грозит… А где Алибег?
Ответом была частая, уже перешедшая в залпы ружейная трескотня.
– Мой долг – вместе с ними! – и, подбежав к дивану, – на нем он четверть часа назад перелистывал воспоминания Людендорфа, над ним висело огнестрельное оружие, – Адриан уже хотел сорвать небольшой карабин.
Джунга всем мощным телом своим вырос перед королем.
– Ваше Величество, сию же минуту, не теряя ни одного мгновения – бегите…
– Бежать? Куда? Джунга, вы с ума сошли?
– Зорро знает подземный ход прямо к Адоре. Там лейтенант Друди на «Лауране». Его преданность безгранична. Около четырех часов – и вы в Трансмонтании…
– Бежать? Мне бежать? Ни за что! Из короля-главнокомандующего превратиться в короля-дезертира? В Керенского? Джунга, снимите мой карабин!..
– Не сниму и вас не пущу…
– Что? Вы не повинуетесь мне? Я вам приказываю!..
– Ваше Величество, это безумие! Вы обязаны спасти и себя, и свою жизнь, и свою династию от злодейского покушения. Это ваш прямой долг, а не дезертирство…
– Как, вы хотите моего бесчестья? Мой Алибег и мусульмане умирают за меня, а я, как трус, буду в это время удирать потайным ходом. Ни за что!..
– Повторяю, это безумие! Подумайте об Их Величествах, о принцессе… Подумайте, что грозит им… А без вас они и с места не двинутся… Господи, время бежит… Ваше Величество, вы меня знаете… Я ломаю подковы… Если вы сейчас же не подчинитесь мне, в первый и последний раз в жизни, я вас свяжу и понесу на руках. А этого не хотелось бы, так как в моих руках нуждается королева Памела…
Вид у Джунги был решительный, непреклонной волей звучал голос и угрожающе, ходуном ходили крысята над верхней губой.
– Хорошо, – как-то сразу согласился король, – но я должен проститься с Алибегом, обнять его…
– Алибегу сейчас не до вас. Слышите, какой жаркий бой?… Скорей! Пусть они возьмут драгоценности. Я понесу королеву Памелу. Если бы не это, я был бы там вместе с Алибегом… Скорей же, скорей!
Король исчез. Шеф тайного кабинета повторял:
– Моя жена, моя жена.
Старый гайдук, верный принципу диких гор своих, – во всех случаях капризного бытия надо быть вооруженным до зубов, – снял со стены два карабина, в один, незаряженный, втиснул обойму и горстями сыпал патроны из сумок в необъятные карманы своих шаровар.
Адъютант, он же и министр финансов, и казначей своего короля, бросился к письменному столу, вырвал «с мясом» боковой ящик и в маленький туалетный несессер бросал белые колонки золотых монет и пачки иностранной и пандурской валюты. Вслед за деньгами – ордена и бриллиантовые звезды. Туго набив несессер и с трудом захлопнув, Джунга ткнул его Бузни.
– Несите! У вас свободные руки…
Зорро дал Джунге карабин.
– Иду за королевой…
Когда сын в первый раз вошел в спальню матери, зажег электричество и, разбудив королеву, посвятил ее в готовящееся нападение, Маргарета, почти не волнуясь, встретила ошеломляющую новость.
– Я давно готова ко всему… С тех пор, как начались войны… А тебе ничего не грозит, мои мальчик?..
– О да, разумеется! – ответил сын, избегая смотреть на мать. – Самое большее – потребуют отречения и выезда за границу. Переворот будет бескровный для нас. Одевайтесь, бегу к Лилиан и Памеле…
Королева нажала звонок, проведенный в комнату Поломбы. Громкий дребезжащий треск был способен разбудить и мертвую. Но вот минута, другая, а Поломбы нет как нет. Обыкновенно же она, сорвавшись, через пять-шесть секунд одетая появлялась на первый зов своей госпожи.
Маргарета, накинув японский халат, прошла к Поломбе.
Комната горничной пуста, кровать не смята.
Где же Поломба? В десять часов вечера она была еще здесь, и, как всегда, помогала королеве в ее ночном туалете.
За долгое время – это первый случай отсутствия Поломбы, за которой не водилось никаких романов.
Неужели? Неужели? Маргарета верить не хотела, да и никаких оснований не было. Однако же невольная мысль о вероломстве Поломбы, ее обдуманном предательстве – закралась. И вполне логически шаг к шкатулке с драгоценностями. Открывая ключом массивную железную шкатулку, увидела царапины вокруг скважины. Пытались добраться до королевских бриллиантов, но безуспешно. Все цело, все на своем месте…
19. С помощью «пушечного мяса»
Королева Памела и принцесса Лилиан – каждая по-своему – встретили то обжигающую, то леденящую новость.
Лилиан менее всего жила для себя и более всего для других. При первых же словах брата она не подумала, что будет с ней, а мучительно заработала мысль, что будет с Адрианом, с матерью, особенно с этой бедной Памелой? Сегодня еще лейб-акушер советовал оберегать королеву от самых малейших волнений.
И вот Адриан говорил и спешно бросал лаконические, убийственно-понятные фразы. А Лилиан слушала, не спуская глаз, этих кротко сияющих «звезд», с Памелы, затерянной под одеялом на громадной широкой постели. Вся Лилиан так и дышала тревогой за Памелу.
Но и лейб-акушер, а за ним и Лилиан ошибались. С каким-то изумительным безучастием отнеслась Памела к надвигающимся, – они уже надвинулись, – событиям ночи. Может быть, и не слышала, забывшись той дремой, которая бывает почти наяву с открытыми глазами?
Нет… Слышала все от слова до слова. Оттуда, с возвышения, из-под тяжелых драпировок балдахина слабо, чуть-чуть доносилось:
– Чего же они медлят… скорей бы… хотя…
И больше ничего… Так же вяло и так же коротко, так же безучастно несколько веков назад встретили такие же, как и Памела, бледные, узкоплечие инфанты весть об открытии Колумбом Америки.
А когда через пять минут вновь прибежал Адриан и торопил готовиться к бегству, Памела и на этот раз проявила то, что с одинаковым успехом можно было бы назвать и кретинизмом, и поистине олимпийским величавым отношением к муравейнику бренной человеческой жизни. Вернее, пожалуй, это было соединение одного с другим.
Памела с усилием произнесла:
– Я не дойду…
– Дорогая, ты ни о чем не думай…
Вопреки ожиданию сына, вопреки своему собственному ожиданию, королева-мать как-то не обрадовалась перспективе бегства, а следовательно, спасения и полной свободы. Сейчас, только сейчас, впервые за долгие годы романа своего с ди Пинелли, почувствовала, что он необходим ей не только лишь как мужчина, любовник, но и как преданный человек и верный друг. Каждый день виделись они, создалась, привычка, такая властная, сильная, сильнее всего на свете – и вот разлука, такая внезапная, с таким тревожным настоящим и таким неведомым будущим. Что с ним? Вряд ли эти бандиты пощадят камергера и секретаря Ее Величества.
Всегда владевшая собой и учившая этому других, на этот раз королева изменила себе. Ее пальцы дрожали, и она долго не могла открыть тяжелую шкатулку с бриллиантами, чтобы наспех уложить их в ручной саквояж.
А грохот морских орудий и щелканье винтовок все нарастали. Врезалось еще спешное, захлебывающее таканье пулеметов. И мало-помалу прибавлялось еще и более страшное, чем пулеметы и орудия. Это – сначала неясные, как гул прибоя, а потом все нарастающие, как огонь, вой и рев толпы…
Обыватель сидел в страхе, забившись у себя в четырех стенах, а чернь, та чернь, содействие которой учитывал полковник Тимо, высыпала на улицы, густо усеивая доступы ко дворцу и держась позади атакующих, вдоль решетки городского сада.
Тимо не рассчитал своих сил, уверенный, что совсем не трудно овладеть дворцом, имея отряд из пятидесяти человек. Правда, к нему стекались подкрепления, правда, уже десятки «сознательных» рабочих вливались в жиденькие цепи нападающих, но все же небольшой королевский конвой, эта горсть мусульман, предводимых Алибегом, оказалась твердым орехом, который не так-то легко разгрызть, а дворец оказался крепостью.
Алибег часть солдат расположил на крыше. Оттуда, как на ладони, была видна вся площадь вместе с городским сквером. Под прикрытием труб защитники довольно метко, насколько позволял мрак ночи, поражали нападающих.
У Тимо были уже и раненые, и убитые, и у самого была прострелена офицерская фуражка, – впервые после отставки надел он свою форму.
Не желая терять отборных людей, он привлек к участию в штурме теснившуюся позади толпу.
– Товарищи, вперед, вперед! Вперед, славные, доблестные, кто желает свергнуть засевшего там со своими янычарами Адриана. Вперед!
Озверелая, опьяненная выстрелами чернь бросилась к воротам, – нижняя половина сплошь железная, верхняя – гирлянды железных цветов с просветами. Появились откуда-то бревна, и десятки рук таранили этими бревнами обе створки, осуществляя план Тимо. Пусть это «пушечное мясо» отвлечет на себя огонь противника. Пусть!
И, действительно, мусульмане били без промаха это скучившееся у ворот человеческое месиво.
Наконец усилия увенчались успехом, ворота распахнулись, задние толкали передних, и весь человеческий клубок, шумный, горланящий, хмельной и жестокий ввалился во двор, этот запертый двор, всегда пустынный, сиявший чистым ровным асфальтом. Притаившийся у главного подъезда пулемет встретил незваных гостей свинцовым «веером», валящим с ног, косящим, режущим пополам человека.
Отхлынуть, увернуться, разбежаться – поздно было. Где уж отхлынуть, когда Тимо и его друзья, как и он, такие же недовольные королем, саблями, прикладами, рукоятками револьверов гнали все вперед это «пушечное мясо».
Противников отделяла друг от друга какая-нибудь сотня шагов. Пулемет уже накосил кучи трупов, уже по твердому асфальту текла черная дымящаяся кровь, черная даже при свете молочных электрических фонарей. На смену упавшим – все новые и новые любители похозяйничать во дворце. Подлая плебейская жадность преодолела животный шкурнический страх…
А Тимо, холодный, презирающий всю эту сволочь, гнал ее на пулемет, гнал и саблей, и заманчивым обещанием:
– Смелей, товарищи, смелей! Доберитесь только, а там уже все ваше!
Пользуясь живым человеческим прикрытием, разбив свой отряд на две части, он приказал обеим этим частям атаковать с крайних флангов засевший в подъезде конвой, атаковать возможно стремительней, чтобы понести наименьшие потери и от пулеметного огня, и от стрелков, бивших сверху.
Маневр удался, и уже под портиками главного подъезда кипел рукопашный бой. Мусульмане, занимавшие позиции на крыше, не видя больше регулярного противника, бросились вниз выручать своих. Схватка достигла крайнего ожесточения. Сплетались грудь с грудью. Уже нельзя было пустить в ход прикладов, не было где и как замахнуться саблей. Нападающие колотили по головам рукоятками револьверов. Мусульмане защищались и атаковывали кривыми турецкими ножами. Удары, колющие и рубящие, были ужасны. С малолетства этим оружием владевшие конвойцы одним взмахом легко отхватывали голову, отсекали щеку, а то и половину лица, распарывали весь живот снизу до самой грудной клетки. Яростные крики нападающих смешивались с гортанными возгласами мусульман, как смешивалась кровь и тех, и других.
Сцеплялись до того вплотную – уже и коротким оружием нельзя было действовать. Выцарапывали глаза, откусывали носы, вгрызались в горло…
Маленький Алибег, весь окровавленный, в мундире, висевшем клочьями, с затекшим багровой опухолью глазом, охрипший, исступленно работал своим кинжалом, окровавленным, как и он сам. Две силы – бешенство и безграничная преданность королю – удерживали его еще на ногах. Он уложил пятерых, а дальше, дальше уже не считая, колол и рубил в каком-то горячем, туманном экстазе.
Перед ним вырос Тимо в разорванном мундире, с полуотрубленным ухом.
– А, собака! Предатель!..
Алибег уже слабеющей рукой вонзил ему кинжал в плечо, а Тимо в упор обжег, физически обжег его голову выстрелом из револьвера. Алибег упал, и последним впечатлением были мириады огненных кругов, с горячечной быстротой завертевшихся в его гаснущих глазах…
Сопротивление под портиками – сломлено. Защитники – все полегли. Раненые побежденные хватали за ноги победителей и, свалив коротким хищным движением, кусали и душили…
Ворвались в обширный вестибюль. Но там с площадки мраморной лестницы мусульмане, уже последние, осыпали градом пуль, как на учебном плацу, стреляя с колена…
20. Ворвалась чернь…
Давно ли эта широкая лестница вся была в тепличных растениях? На площадке рыцарями средневековья стояли два кирасира в полной парадной форме. И мимо этих пальм, мимо этих неподвижных гигантов в чешуйчатых латах красивой нарядной волной плыли и плыли туда, вверх, гости Их Величеств.
Обнаженные плечи, бриллианты, яркие кавалерийские мундиры, расшитые золотом дипломаты всех стран, ленты, фраки, звезды и вслед за этой человеческой волной такая же волна тонких духов.
А сейчас – огоньки, щелканье выстрелов, звон разбитых вдребезги стекол, зеркал, падающие куски отстреленных барельефов, окровавленные тела, проклятия, нечеловеческое рычание и пороховой кисло-приторный запах…
Эта лестница, эта площадка – последняя агонийная судорога…
Мусульмане успели разрядить по два патрона, и уже нельзя было стрелять, уже разъяренный и этой неожиданной помехой и новыми потерями человеческий клубок подкатывал снизу к площадке. И опять и свои, и чужие так переплелись, так смешались – нельзя было пустить в ход приклады. Опять кривые ножи… Опять револьверы заменяли кастеты. Опять схватывались друг с другом в последнем смертельном объятии и, вгрызаясь в лицо и в горло противника, скатывались по беломраморным ступеням…
Взяли численностью. Раздавили погибших на площадке восьмерых конвойцев и, шагая через их трупы, добивая раненых и полуживых, хлынули дальше…
И тогда только рядом с Тимо, шатающимся, растерзанным, окровавленным, появился майор Ячин, выбритый, свежий, с аккуратно подведенными бровями, в новенькой, с иголочки, форме и с обнаженной саблей, девственно блестящей, никого не зарубившей. Ячин, не желая подвергать себя случайностям, благоразумно держался в тылу и, уже ничем не рискуя, нашел нужным вместе с полковником Тимо разделить и вкусить сладость победы… Из всего отряда только двое они бывали здесь и знали расположение дворца. Но еще лучше знали они Адриана и его характер – смелый, гордый.
– Куда он девался? Убежать не мог, а если он здесь, он встретил бы нас на площадке вместе с янычарами. Где же он? – спрашивал Ячин.
– Да, да, сам не понимаю… – слабо отвечал Тимо, только страшным напряжением воли державшийся еще на ногах. Вначале опьяненный боем, не ощущал ни потери крови, ни своих ранений, а сейчас его охватила непреодолимая слабость, кружилась голова, тошнило…
За победителями ворвалась шумная, стучащая сапогами, разнузданная многоголосая чернь. Щелкали выключатели, электричество заливало ярким светом гостиные, белый концертный зал, тронный. В портретном зале Тимо опустился на золоченый стул под изображением короля Бальтазара. Подоспевшая со своей сумкой социалистка-фельдшерица начала перевязывать Тимо.
– Воды! Скорей воды! – потребовала она пискливым, неприятным голосом.
Несколько человек бросилось за водой. А Тимо сказал Ячину, откидываясь на спинку стула и закрывая глаза:
– Возьми людей… Отыщи Адриана… Отыщи всех… Убей его… И женщин.
– Ха, кровопийца! Наверное, забился куда-нибудь под маменькину кровать, – загоготал какой-то неведомый тип, уже почувствовавший себя хозяином в этом дворце.
– Болван, – осадил его Ячин. – Адриан не из тех, которые забиваются под кровать. – И, вложив саблю в металлические ножны и взяв револьвер, Ячин приказал кучке офицеров: «За мной!»
– Погоди… – остановил его Тимо, – сначала расставь везде патрули… пока… пока подойдут с миноносцев подкрепления…
Но матросы уже валили гурьбой с винтовками и красными бантами. Камеристка Ее Величества Поломба тоже с ними и тоже с красным бантом. Ей было очень весело, она хохотала, обнажая редкие зубы, и в их широком оскале было что-то крокодилье. Недаром профессор Тунда назвал ее «крокодилкой».
– Товарищи, за мной! – приглашала матросов Поломба. – Я вас поведу к этой старой ведьме! Мы ей покажем! Мало еще надо мной измывалась. Довольно! Теперь на нашей улице праздник! Доберемся до ее шкатулочки. Полным-полнехонько бриллиантов…
«Шкатулочка» вдохновила матросов, и, все ускоряя, ускоряя шаги, они бежали за Поломбой сквозь длинные анфилады покоев.
Бежали, спотыкаясь, как на льду, на паркете тронного зала, где на возвышении под балдахином уже развалился на троне какой-то оборванец с бутылкой.
Издали Поломба крикнула ему, сделав ручкой:
– Товарищ, наша взяла!..
Матросы попутно кололи штыками портреты, картины:
– Сволочи! Все наше, трудовое!..
Еще несколько больших комнат, коридор, площадка лестницы, и вся ватага под предводительством Поломбы очутилась на частной половине королевы Маргареты.
Еще немного, и Поломба увидит бледную, дрожащую Маргарету, насладится ее испугом, расхохочется ей в лицо, униженной, беззащитной…
– Товарищи, в этой голубой гостиной она занималась пакостями со своими любовниками. Ай-ай, чего-чего я только здесь не насмотрелась! А вот ее спальня. Ну-ка, выходи, паскудница…
Но никто не выходил. Никого не было в освещенной спальне. Поломба бросилась к драгоценностям, и сразу погасла вся. Шкатулка раскрыта, и на самом дне только забытая безделица какая-то.
– Товарищи, что же это такое?.. Не может быть. Вот ведьма… вот…
Поломба не успела договорить. Ближайший матрос закатил ей оплеуху.
– Обманывать, стерва! Так ты заодно с ней…
– Ей-Богу, нет… Ей-Богу, товарищ… Давайте искать ее, найдем и бриллианты… Давайте…
Начали искать. Кололи штыками постель, подушки, нащупывали под кроватью. Осмотрели уборную, ванную и квадратную комнату без окон.
– Вот здесь, здесь, товарищи… На этом самом диване…
Сегодня еще днем причесанная, вымытая, в строгом темном платье – это была горничная, – королева следила за ее опрятностью, – а сейчас – это уже растрепанная уличная девка, наглая, разухабистая, полная дикой, непонятной ненависти к своей поверженной благодетельнице, которая баловала ее всячески и у которой она таскала духи, тонкое белье, шелковые чулки и чего-чего только не таскала…
Убеждаясь, что нет ни Маргареты, ни драгоценностей, матросы не на шутку начали свирепеть. По взглядам, бросаемым на нее, бывшая горничная королевы почуяла, что эта буйная ватага может ее зверски избить до полусмерти за свои обманутые надежды. И глупая, но хитрая животным инстинктом, Поломба поспешила рассеять скопляющиеся над ее головой грозные тучи:
– Ах, товарищи, я и забыла… Ликеры у нас – первый сорт!.. Дорогие!.. Шкапчик целый…
Расселись в голубой гостиной. Поломба выкатила на стол целую батарею бутылок и раскупоренных, и запечатанных.
Матросы, отбивая горлышко, пили прямо из бутылок и заставляли пить Поломбу.
– Пей, сволочь, сука…
Угодливо хихикая, она не заставляла повторять…
Чем больше пили матросы, тем гуще багровели их грубые скуластые лица и тяжелой мрачной злобой наливались глаза.
В несколько минут от голубой гостиной, такой изысканной, одухотворенной тонким вкусом, – ничего не осталось. Картины Ватто и портрет королевы были сорваны со стен и растоптаны. Даже рамы, и те были изломаны в щепы. Мягкую мебель пороли штыками, а когда больше нечего было портить и когда вконец опьянили матросов и непривычный ликер, и дьявол разрушения, им захотелось женщин.
– Баб давай сюда, баб! – наступали они на Поломбу.
– Где же я возьму, товарищи? Где же я возьму? – еле ворочала она языком.
– А это видишь? – и красный, потный кулак угрожал ее красной, потной физиономии.
– Э, да чего там с ней долго канителиться! Тащи, ребята! – и несколько рук, схватив Поломбу, начали ее с таким похотливым жестоким бешенством тискать, мять, что она в истерике хохотала, визжала. Это еще больше подхлестнуло возбужденных горилл в матросской форме…







