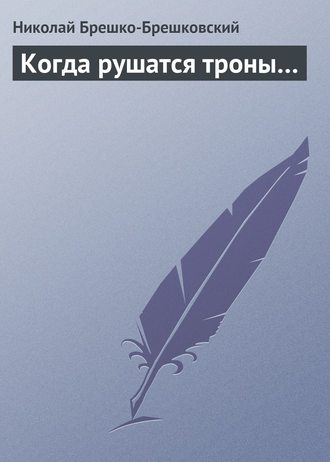
Николай Брешко-Брешковский
Когда рушатся троны…
5. Вопросы и ответы
На другой день в это же самое время, в этой же самой бедной комнате Маргарета позировала уже в том самом кресле, которое мерещилось вчера воображению Ловицкого.
Маргарета обошла несколько антикварных магазинов по бульварам Гаусман и Мальзерб, пока нашла наконец то, что искала. Мрачное монументальное великолепие было в этом кресле, и, почем знать, быть может, в нем сидели гранды и вельможи Филиппа IV и Карла V.
– Как оно отражает эпоху! – восторгался Ловицкий. – Здесь и красота, и блеск, и незыблемость… И веришь, что тогда, именно тогда, могла Испания дать и Сервантеса, и Веласкеса, и Колумба, и что в ее владениях никогда не заходило солнце…
Второй сеанс значительно подвинул работу. Уже достигнуто было и портретное сходство. Уже лицо, черты и голова были тщательно если и не отделаны пока, то прочувствованы, а легкая, воздушная техника воздушной мантильи, покрывавшей волосы, сделала бы честь даже очень большому мастеру.
Сеанс кончен. По желанию Маргареты юноша рассказал ей о себе.
Он родился на берегу Черного моря, в Одессе, где его отец был директором банка. Сережа имел еще двух старших братьев. Сам он в первый день своего появления на свет обещал быть крупным, здоровым мальчиком. Когда его взвесили, в нем оказалось пятнадцать фунтов. В гимназии он был сильнее всех. Он ходил даже зимой без фуражки, и за это ему доставалось от начальства. Зимой же он купался в море. За это доставалось тоже. На это хватало у него и энергии, и воли, а на все остальное – нет.
Он ни разу не пришел вовремя в гимназию. Каждое утро мать самым решительным образом старалась его добудиться. И если бы не это, он спал бы до полудня, а то и дольше. Учиться не было никакого желания. Особенно трудно давалась математика и, когда на выпускном экзамене учитель хотел поставить ему двойку, другой учитель-ассистент остановил своего коллегу:
– Вы только посмотрите на него! Какие плечи, грудь, мускулатура! Ну, зачем, зачем ему ваша математика, если он и без нее будет счастлив?
Экзаменатор подумал-подумал, четко вывел тройку, и аттестат зрелости был спасен.
Еще в гимназии Сережа начал заниматься скульптурой. Мать настаивала, чтобы он шел в Академию художеств. Подоспела революция. При большевиках отец был арестован как буржуй и увезен куда-то. Он успел шепнуть жене, чтобы она бежала с младшим сыном за границу. Старшие сыновья были уже там. Миша имел свою торговую контору в Галаце, Борис жил вместе с женой в Швейцарии.
Сережа с матерью бежал в Румынию. Там они разделились. Мать уехала в Швейцарию к Борису, а Сережа в Милан. Почему в Милан – Сережа и сам не знал. Первое время он бедствовал, зарабатывая гроши своей скульптурой. Но вот он познакомился с синьором Гамерио, владельцем большой кинофабрики «Гамерио-фильм».
С первой же встречи Гамерио постановил:
– Вы будете у меня на главных ролях… Я сделаю из вас знаменитость!..
Сережа играл в пятнадцати кинодрамах. Кого он только не играл! И английского офицера, и «салонного» атлета, бродягу и художника, герцога и индийского магараджу в тюрбане и в фальшивых бриллиантах. Снимались в Венеции, в Неаполе на вилле д'Эсе, на берегу Комо. Сережа зарабатывал много и еще больше тратил, неизвестно даже на что. Хотя, вернее, раздавал больше, чем тратил. А мать за это время очутилась в Париже и настойчиво требовала в письмах бросить кинематографию и ехать в Париж, чтобы серьезно заняться скульптурой.
И вот они вдвоем в Париже, в этой самой комнате. Под влиянием матери и под ее неусыпной опекой Сережа начал работать, посещать Академию художеств. Материально было очень тяжело. Братья помогали, но этого еле-еле хватало. В последнее время Сережа получал кое-какие заказы, и стало много лучше.
Маму угнетало отсутствие всяких известий о муже. Говорили, что он в Крыму, но никто ничего не знал в точности. Мучимая неизвестностью, мама, всегда склонная к истерии, все больше и больше нервничала. Все резче и резче проявлялась в ней лунатичка. Стоило месяцу заглянуть в окно, как неодолимая сила тянула ее из дома. Она ходила по всему Парижу с закрытыми глазами, спокойно лавируя среди автомобилей, трамваев, экипажей. Она ходила так быстро, что Сережа едва поспевал за ней. Однажды ночью на авеню Клебер она сказала ему, не открывая глаз:
– Я сейчас найду двадцать франков…
Через несколько десятков шагов нагибается и поднимает двадцатифранковую бумажку. Это было весьма кстати. У них было всего несколько сантимов.
В такие «сомнамбулистические» моменты в нее вселялась громадная физическая сила. Однажды они шли во время этих скитаний по Парижу через мост Александра III. Мать каким-то несвойственным ей хищническим движением рванулась к перилам и уже занесла ногу, чтобы броситься в Сену. Сережа вовремя успел схватить ее и оттащил, оттащил после тяжелой борьбы. А ведь он легко справлялся с двумя-тремя мужчинами обыкновенной средней силы. Еще на днях Карпантье звал его: «Идите ко мне. Через полгода я сделаю из вас чемпиона бокса».
Около двух месяцев назад мать истерзалась вконец сама, и вместе с ней истерзался и сын. Приступы лунатизма обострялись все в более и более опасной и жуткой форме. С закрытыми глазами, в трансе, она твердила, что отец расстрелян, описывала во всех подробностях картину убийства. Наяву же ничего этого не помнида, жадно стараясь получить хоть какую-нибудь весточку об исчезнувшем дорогом человеке.
И вот она пришла – весточка, неумолимая, не оставляя никаких сомнений… Он погиб в Крыму. Погиб в той самой обстановке и в тех самых условиях, как рисовалось матери в лунные ночи. Этот удар сломал ее, и без того надломленную. У несчастной помутился рассудок. Из Швейцарии приехал Борис, увез с собой мать и поместил ее в лечебницу для душевнобольных в окрестностях Люцерна.
А Сережа? Сережа остался один. Портрет маленького князя Радзивилла – это последний заказ, добытый матерью. Сам же он в этих делах ничего не понимает. Ему кажется неловким и странным брать деньги за то, что ему самому доставляет удовольствие…
Окончив свой рассказ, он умолк с виноватым видом. Молчала и Маргарета. Теперь, после всего услышанного, укрепилась она в сложившемся с первой же встречи мнении, что этот мальчик погибнет при всех своих богатых данных. Пропадет без теплой, душевной ласки и без строгой, умной опеки. До сих пор и то, и другое ему давала мать, но, увы, она очутилась в доме для душевнобольных, и этот ребенок с фигурой юного Геркулеса предоставлен самому себе в громадном, чужом и холодном Париже…
После длительной паузы между юным скульптором и его моделью начался диалог из прямо поставленных, как бы экзаменационных вопросов и еще более прямых обезоруживающих ответов.
Королева. Вы работали как артист кинематографа. Теперь вы занялись скульптурой. К чему же у вас большее влечение?
Сережа. Ни к тому, ни к другому…
Королева. Ну, хорошо. Вы играли интересные роли, вы перевоплощались, меняли обстановку… Вас окружали красивые артистки. Неужели все это вас не захватывало?..
Сережа. Ничуть, мадам… Уверяю вас, мне было скучно, и, если бы не Гамерио, заставлявший меня играть едва ли не из-под палки, я бы давно его бросил…
Королева. А скульптура? Ведь это же настоящее, глубокое творчество!
Сережа. Процесс работы иногда увлекает меня, но чтобы я любил скульптуру, желал посвятить себя ей целиком, – нет, не скажу…
Королева. Странный мальчик… Такой одаренный и такой…
Сережа. И такой пустоцвет! Да, я пустоцвет. Из меня никогда ничего не выйдет…
Королева. Но почему же? Почему?.. Хорошо, оставим в покое искусство, но вы же молоды, красивы, цветущи. Перед вами – жизнь, полная самых прекрасных возможностей, ярких пленительных радостей. Неужели вам не хочется жить? Просто, язычески просто упиваться жизнью без всяких мудрствований, сомнений?..
Сережа. У меня нет вкуса к жизни…
Королева. Но вы влюблялись? Были у вас романы?
Сережа. Нет, не влюблялся… А романы были… Но… помимо моего желания.
Королева. То есть как это?
Сережа. Так… Я никогда не делал первых шагов… Лень была. Если даже мне кто-нибудь и нравился… Обыкновенно инициативу брала в руки женщина… И я… подчинялся…
Королева. Даже если она вам не нравилась?
Сережа. Да… У меня не хватало воли для сопротивления.
Королева. Вам часто проходилось «не сопротивляться»?..
Сережа. Да… Я не знаю, что их тянуло ко мне… Как будто мало на свете мужчин…
Королева. Но все-таки, вы же хотите чего-нибудь от жизни. Есть же у вас какие-нибудь идеалы?
Сережа. Я хотел бы лежать целыми днями, не вставая, и думать…
Королева. О чем?
Сережа. Я и сам не знаю… В последнее время, прочитав «Тарзана», я все приставал к маме: «Почему ты не отдала меня на воспитание к обезьянам? Я жил бы среди них в джунглях, лазил бы по деревьям».
Королева. Вот видите, лазили бы! Приходилось бы добывать пищу, бороться за существование… Тарзан, лежащий целыми днями в гамаке из древесных ветвей, – надеюсь, вы себе его не таким представляете?..
Сережа. Вы правы, мадам… В таком случае, я не хочу быть Тарзаном… Но я утомил вас своими глупостями. Вы думаете: «Вот еще урод!»
Королева. Да, урод, но какой неиспорченный, чистый…
Сережа. Нет, я испорченный! Я одно время нюхал кокаин.
Королева. Зачем вы это делали?
Сережа. Меня заставляли…
Королева. Женщины?
Сережа. Да, женщины…
6. Раскаяние…
Внешне Адриан почти не изменился. И в штатском он держался так же прямо и так же энергичны были его движения. Движения солдата-спортсмена, которому всегда тесно в четырех стенах и как если бы он продолжал носить шпоры и зеленоватый гусарский доломан, расшитый белыми бранденбургами.
Но в душе его и катастрофа, и все последующие события оставили глубокий след. В конце мая 1924 года он впервые лицом к лицу столкнулся с человеческой несправедливостью и подлостью, узнал истинную цену этой несправедливости и этой подлости и увидел всю их отвратительную, неприкрашенную изнанку…
Уже спустя месяц с чем-то начались паломничества из Пандурии в Париж, Приезжали отдельные граждане, приезжали целые депутации «ходоков» из горных и степных провинций. И все в один голос:
– Ваше Величество, горе нам! Эта республика, – будь она проклята… Мы никогда не знали, что такое голод. И хлеба, и овец, и свинины, и кислого молока, – всего было вдоволь, а теперь уже кое-где начинается недохватка всего… К зиме будет хуже. Шайка, захватившая власть, разоряет и грабит казну. На деньги народа президент сам себе полносит имение за имением. Эти подарки обошлись уже в сорок два миллиона франков. За один месяц на содержание дворца и семьи президента истрачено больше, чем отпускалось по цивильному листу на всех членов династии на весь год. Но династия создавала страну, ковала ее благополучие и мощь, а эти мерзавцы губят и разоряют ее… Вся Пандурия плачет по своему законному Государю, который был вместе со своим народом и своей армией и вместе с ними испытал и сладость успехов и побед, и горечь несчастий и поражений. Мы знаем, Ваше Величество, что у вас ничего нет в заграничных банках, а эти канальи Мусманек и Шухтан уже перевели потихоньку за границу большие миллионы в золоте и в крупной иностранной валюте…
Молча, с неподвижным лицом и без своего обычного, такого обаятельного выражения томных миндалевидных глаз, выслушивал Адриан эти жалобы, ничуть его не трогавшие. Выслушивал, потом говорил в ответ:
– Ах, вот какие теперь вы печальные песни поете!.. Я знаю наперед все ваши возражения. Все! Не вы хотели революции, и не вы ее делали… Так, верю вам, вполне верю. Нужна была революция ничтожной кучке бездельников, тунеядцев и мелких честолюбивых неудачников, жадных, злых, завистливых… Да, кучке! Все вы знаете меня, слава Богу, не со вчерашнего дня… Я всегда был с вами в самые трудные минуты, я, король ваш… Но когда стало очень тяжело, когда под меня начался подкоп, когда певица в парламенте и певица в прессе начала травить меня и расшатывать государство, где были вы? Не знаю где, но только не вместе с королем и не вместе с Пандурией!..
– Вы спросите, что же вы могли бы сделать? – продолжал после небольшой паузы Адриан. – Все! Одним вашим гневом, одним вашим порывом, стихийным, как лавина, могли бы вы смести все то, что губило Пандурию и валило династию, валило тысячелетний трон пятидесяти восьми королей, я – пятьдесят девятый… Но, допустим, ленивые, беспечные, сонные, вы прозевали, проспали ту ночь, когда я чудом избежал смерти и во дворец ворвалась пьяная чернь, вслед за которой вошел туда Мусманек… Допустим… Но и тогда, в первые же дни, вы могли спасти положение. Вы могли отрезать Бокату, не дать ни одного кило хлеба, подчинить себе новую власть и продиктовать свои условия. И узурпаторы немедленно капитулировали бы перед вами, несмотря на все свои броневики, пулеметы и пушки… Вы этого не сделали… Вы предпочли вместо позиции наступательной занять созерцательную: «Посмотрим, что из всего этого выйдет»… И вот теперь, когда собственным горбом начали убеждаться, что дело дрянь и банда захватчиков вместе с четырьмястами парламентских болтунов губят Пандурию, вы раскачались и нашли дорогу ко мне… Все это противно и больно… Сейчас я и слышать ни о чем не желаю. Вам хочется возвращения короля? Вы этого пока не заслужили… Нет! Короля надо выстрадать… Потерпите… Попробуйте большевизма, который еще чаще заставит вас вспоминать «Кровавого Адриана»! Пусть повластвует, поиздевается над вами вся эта темная международная шайка… Пусть она покроет Пандурию сетью своих чрезвычаек, пусть превратит вас в своих рабов, пусть проделает все, что проделали с несчастной Россией, и вот когда вы поживете несколько месяцев в этом «земном раю», тогда приходите ко мне… Может быть, мы до чего-нибудь договоримся… Может быть… Но предупреждаю: я поставлю железные условия. О конституции придется забыть: вы не доросли до нее… Только я, один я, буду отвечать перед народом, перед Богом и перед собственной совестью… Если я въеду в столицу моего народа и моих предков, то лишь как самодержавный монарх…
Так или приблизительно так заканчивалась каждая аудиенция в трехэтажном особняке близ Булонского леса. Речь короля, полная гнева и горечи обиды и в то же время полная веры в себя и в свои силы, производила на ходоков громадное, подавляющее впечатление. И, провожаемые седоусым Зорро, смущенные, виноватые, пристыженные, покидали они виллу своего монарха, долго не решаясь посмотреть в глаза друг другу…
А через несколько дней ходоки были у себя дома, в своих горных селах и равнинных деревнях. С оглядкой и с опаской собирались то по хатам, то под открытым небом. За многие десятки километров стекалось христианское и мусульманское селячество послушать ходоков, вернувшихся из Парижа. И блестели глаза, пресекалось дыхание, учащенно билось сердце и нетерпеливо-жадно сыпались вопросы. И чаще всего:
– Ну, а как же они там живут? Как?
– Живут в обрез, – отвечали ходоки, – не держат автомобиля… Дорого! Сами помогают еще беженцам. Принцесса Лилиан такая же святая и теперь, в изгнании, какой была во дни своего величия… Королева-мать продает свои бриллианты, и через несколько месяцев, пожалуй, и продавать-то нечего будет… Это все нам Джунга, Зорро да Бузни рассказывали…
Молчание. Вздохи. Смущение. Покачивание головами.
– До чего дошло! Король нуждается! Наш король! А эти прощелыги, эти вчерашние голодранцы, черт их знает, из каких крысиных подполий, греют рученьки да набивают себе карманы пандурскими миллионами. Эх, бросить клич по всем деревням и селам, от края до края, собрать этак миллионов пять и отвезти Его Величеству.
– Не возьмет, прогонит!.. – отмахивались ходоки. – Не заслужили мы этого… Не заслужили!..
– Да, что верно, то верно… Не заслужили мы такой чести, не уберегли его, – наше солнце… Потому-то с тех пор и темно все кругом… Темно и на сердце… – и, потупившись, чесали пандуры свои затылки…
– Так не хочет ехать, не хочет? – допытывался кто-нибудь.
– И слышать не желает!..
– Видать, до самого дна души прогневали мы его…
– А если бы появился он среди нас, то-то хорошо было бы!.. Все встали бы! Все! И деды, и внуки… Муллы в мечетях газават объявили бы; попы в церквах – крестовый поход против нечисти. И сказали бы ему: «Веди нас, солнце наше, веди!..»
Кто-нибудь из ходоков несколькими словами вспугивал эти мечты, опрокидывал иллюзии. И эти слова были ужасны:
– Он хочет, чтобы мы испили чашу до дна, чтобы помучились под большевиками…
– Он жесток!
– Нет. Он только справедлив!.. Мы без вины причинили ему страдание, теперь мы сами должны его выстрадать. Грех должен быть искуплен жертвой, а мы великие против него грешники… Нам не миновать большевизма, и он будет, будет, и через него придет очищение…
И все затихало в такой цепенеющей жути, словно красное коммунистическое чудовище было уже совсем близко, за спиной у каждого… Так близко, что уже обдавало своим смрадным дыханием, обдавало запахом крови, едкой гари и пороха… И ежились человеческие тела, и головы уходили в спину, как бы прячась от прикосновения липких лап омерзительного чудовища…
7. В новой роли
Хотя этикет в королевской вилле упрощен был до крайности, но все же лицо, желавшее получить аудиенцию у Маргареты или у Адриана, попадало сперва к Джунге.
Так и в данном случае. Пухлый, розовый, подвижный иностранец, впущенный лакеем и пронизанный суровым взглядом Зорро из-под пучковатых бровей, никак не мог миновать адъютантской комнаты с дежурившим в ней Джунгой. В штатском платье адъютант имел значительно менее свирепый вид, но зато казался гораздо шире и массивнее.
– С кем имею удовольствие? – спросил Джунга, слегка привставая.
– Ван-Брамс… Издатель и журналист… А впрочем, вот моя карточка… – ответил розовый господин по-французски, хотя и довольно бегло, но с заметным акцентом.
– Журналист? – переспросил адъютант, и «крысята» зашевелились над его верхней губой. – Мне запрещено давать какие бы то ни было сведения в печать. Их Величество не дают никаких интервью… Поэтому… – многозначительно не договорил Джунга, выпрямляясь.
Но господин Ван-Брамс сделал успокоительно-плавный жест, и на его мизинце заиграл бриллиант. И после этого уже обратил внимание адъютант на крупную жемчужину в темном галстуке издателя-журналиста.
– О, господин полковник, вы не так, совсем не так изволили меня понять… Я приехал не для получения сведений и не для интервью… Цель моего посещения куда более широкая, интересная. Я – издатель. Я разбрасываю ежегодно миллионы экземпляров книг по всему земному шару и, по крайней мере, на двенадцати языках. У меня отделения и свои типографии в Нью-Йорке, Париже, Берлине, Брюсселе, Гааге, Милане. Словом, я прошу вас устроить мне аудиенцию у Его Величества.
– Аудиенцию? Я обязан в точности доложить, о чем вам желательно беседовать с Его Величеством… И, в зависимости…
– О, да, да, конечно… Я вас понимаю, – вежливо перебил Ван-Брамс. – Предмет беседы следующий, господин полковник: я хочу обратиться к Его Величеству с предложением, не соблаговолит ли он написать для меня свои воспоминания, которые я мог бы выпустить одновременно на нескольких языках. Желательно один большой том, хотя еще лучше разбить весь труд на две книги среднего формата. Если воспоследует принципиальное согласие, я уже в личных переговорах с королем выясню сумму гонорара, которая, смею надеяться… Но не будем забегать вперед… Когда я могу узнать ответ Его Величества?
– Оставьте ваш телефон…
– Телефон имеется на моей карточке… Звонить наверняка можно от восьми до девяти утра.
– Завтра я вам дам ответ…
И действительно, на другой день Джунга позвонил господину Ван-Брамсу. Уже в десять утра Ван-Брамс был принят Адрианом в его полукабинете-полугостиной.
– Какую цель преследуете вы, желая издать мои воспоминания? – спросил Адриан.
– Коммерческую, исключительно коммерческую… От Вашего Величества не скрою, на этой книге я могу заработать. Я очень рад, что идею мою до сих пор еще никто не предвосхитил. Я не сомневаюсь, воспоминания Вашего Величества будут интересны и живы, чего, например, никак нельзя сказать про воспоминания императора Вильгельма и кронпринца.
– Как вы представляете себе мои воспоминания в смысле материала? Что вам желательней подчеркнуть и оттенить?
– Все, Ваше Величество, все! Полная творческая свобода. Коснитесь вашей династии, задержитесь на ваших детских впечатлениях! Встречи, знакомства, воспоминания об иностранных дворах. Хотелось бы, чтобы, по крайней мере, четверть книги была уделена минувшей войне и почти столько же последним годам вашего царствования до этой нелепой революции включительно. Подходят Вашему Величеству мои условия? Условия купца, желающего иметь первосортный товар?..
– Подходят… Но не знаю, подойдут ли вам мои условия?..
– Ваше Величество, я ассигновал…
– Нет, я не об этом… – улыбнулся король. – Дело не в деньгах, а в моем субъективном освещении, которое я намерен придать этим воспоминаниям. Я буду резок, буду беспощадно правдив по отношению ко многим государственным деятелям, играющим и теперь еще большую роль в своих республиках и монархиях. Затем я буду бичевать социалистов и большевиков. Книга должна быть боевой, агитационной, иначе я ее себе не представляю… Если это вас не пугает…
– Нисколько, Ваше Величество! Наоборот, все, что вы изволите требовать – залог успеха! Это будет настоящей «бум»! А теперь позвольте, Ваше Величество, перейти к стороне финансовой и технической. Я приобретаю воспоминания в полную собственность… Размер их должен быть не менее двадцати печатных листов большого формата, другими словами, около трехсот двадцати страниц. Никак не менее! Желательно – больше. Срок написания – три месяца со дня заключения договора. Я буду рукопись брать по частям. Она будет перестукиваться на машинке в нескольких экземплярах и раздаваться переводчикам. Смею полюбопытствовать, на каком языке будет оригинал?
– Я буду писать по-французски, а редактировать будет королева Маргарета, владеющая этим языком в совершенстве.
– Великолепно! А с французского мы переведем на английский, немецкий, итальянский, голландский, шведский и на русский. За все это я могу предложить триста двадцать тысяч долларов, примерно по тысяче долларов за каждую страницу. Ваше Величество не имеет ничего возразить против назначенной суммы?
– Ничего…
– Порядок уплаты следующий: треть я вношу в момент подписания условия, следующую треть – через шесть недель и, наконец, последнюю треть – по окончании рукописи. Возражений со стороны Вашего Величества не имеется?..
– Нет…
– В таком случае, когда вам будет угодно подписать условие?
– Да хоть сейчас…
– Прекрасно! Я захватил с собой готовый текст и чековую книжку.
– Вы очень предусмотрительны, господин Ван-Брамс!
– Ваше Величество, нельзя иначе! Необходимо ловить момент! Настроения меняются…
Этот «заказ» доставил Адриану большую радость. Весело, как никогда еще весело за последнее время, говорил он Бузни:
– Вот где можно будет отвести душу!.. В этих воспоминаниях!.. И вообще очень интересный труд… Я уже увлечен… А затем, затем, подумайте, Бузни… Это первые деньги, заработанные мной по-настоящему!.. И более чем кстати! Деньги нам нужны весьма и весьма!..
– Я так счастлив, так счастлив, как если бы это был мой собственный успех! – сиял Бузни.
– Да? – как-то значительно спросил Адриан, всматриваясь в него и прибавил задушевно, тепло:
– А знаете, милый Бузни, я виноват перед вами… Виноват…
– Чем, Ваше Величество? Чем? Наоборот, я всегда был так обласкан… И в лучшие дни, и теперь, в изгнании…
– Видите, бывали моменты, когда я сомневался в вас. Иногда мне казалось, что в тяжелую минуту вы можете… можете меня покинуть… Действительность же показала совсем другое. И вот я чувствую себя виноватым и каюсь…
– Ваше Величество, в данном случае виноваты не вы…
– А кто же?
– Я! Вернее, моя внешность! Бывают подлецы, мошенники и предатели с необыкновенно честной благообразной внешностью. И бывает совсем наоборот. Люди, более или менее порядочные, – от рождения, от Господа Бога загримированы какими-то темными личностями. И вот я, именно я, из этой второй категории. Лишний раз очарован благородным мужеством Вашего Величества…
– Мы обязаны всегда сознавать свои ошибки… А вот что, Бузни. У вас бисерный почерк. Не согласитесь ли вы писать под диктовку мои воспоминания. Так гораздо скорее пойдет…
– Соглашусь ли я? – с жаром воскликнул Бузни. – Это для меня будет таким наслаждением!..







