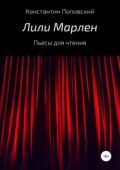Константин Маркович Поповский
Монастырек и его окрестности… Пушкиногорский патерик
12. Шашка отца Иова
Глубины человеческой души, как известно, никому не ведомы и не поддаются ни исчислению, ни поверхностному толкованию, ни ссылкам на те или иные авторитеты, – одним словом, ничему тому, что худо-бедно примиряет нас сегодня с мнимым хаосом повседневной жизни. Однако время от времени случается, что эти глубины вдруг позволяют нам заметить на своей поверхности кой-какие детали и подробности, которых не замечали прежде, и тогда, вглядываясь в их молчание, мы начинаем узнавать какую-то другую изнанку жизни, о которой никогда и не догадывались.
В качестве примера, я думаю, можно было бы привести историю монастырского духовника отца Иова, который по каким-то совершенно непонятным причинам считал себя выходцем из солнечной казачьей вольницы, тогда как по всему выходило, что он был выходцем из мест прямо противоположных, что и было засвидетельствовано хранящимися у отца Нектария соответствующими документами.
Впрочем, документы документами, а живое, непосредственное чувство имело, конечно, больше значения, чем какие-то там сухие строчки канцелярских записей, которые уже одним тем вызывали сомнение, что томились в стальном сейфе и не могли предоставить в свое доказательство ничего, кроме мертвых слов и сомнительных цифр. В этом чувстве потаенная страсть к казацкой жизни нет-нет, да и давала о себе знать то мурлыканьем какой-нибудь удалой казацкой песни, то умелым и непонятно откуда взявшимся обращением с лошадьми, а то и какими-то залихватским словечками, которые на поверку оказывались почерпнутыми из неведомого казацкого лексикона.
Многое, слишком многое напоминало в келье отца Иова о его тщательно скрываемой тайне. На подоконнике келии, в подтверждение сказанного, нашли себе место два десятка керамических фигурок, изображающих казаков на лошадях и без, сражающихся, стреляющих, рубящих и колющих, а чуть ниже иконостаса, после маленьких иконок второстепенных святых висела застекленная в рамке литография известной картины Репина «Казаки пишут письмо турецкому султану».
Но больше всего хотел отец Иов иметь боевую шашку – этакую изогнутую красавицу, какая была у него на одной фотографии, которую он вырвал когда-то из какого-то календаря и повесил за шкафом, надеясь, что никто туда не заглянет и не станет допытываться о содержании этой фотографии, где был изображен солидный казак в папахе, который скакал на врага, обнажив над головой шашку и, видимо, подбадривая криком и себя, и своих товарищей. Впрочем, во избежание путаницы, так, на всякий случай, надпись под фотографией утверждала, что на ней изображен никакой не казак, а святой Георгий, убивающий, к вящей славе Божьей, дракона.
Впрочем, и без всякой фотографии отец Иов уже давно заметил мистическую связь, существующую между ним и боевой казацкой шашкой, так что стоило только случиться какой-нибудь неприятности, например, появлению на горизонте отца наместника или началу чрезвычайно громкого храпа отца Тимофея, как правая рука его рефлекторно начинала тянуться туда, где когда-то, много лет назад, у его дедушек и прадедушек висела у изголовья шашка, один только вид которой должен был недвусмысленно указывать присутствующим, за какие рамки им ни в коем случае не стоило бы выходить.
Увы! В реальной жизни все было далеко нет так идеально, как хотелось бы, так что всегда некстати появлявшийся отец Нектарий по-прежнему вечно ворчал и ругался, а братия не ходила ни на братский час, ни на чтения Псалтири и все норовила исчезнуть сразу после обеда, выдумывая себе в оправдание сомнительные дела и нелепые занятия.
Слушать выговоры отца наместника было, конечно, так же тошнехонько, как и смотреть на отлынивавшую от молитву братию, тем более что мистическая связь между отцом Иовом и виртуальным оружием ни в коем случае со временем не слабела, а, напротив, крепчала все сильнее и сильнее, так что правая рука его – случись такая необходимость – прямо-таки рвалась налево, нервно перебирая пальцами в поисках успокаивающей рукоятки, а потом разочарованно отступала назад, и отец Иов чувствовал горечь и недоумение перед своей потаенной мечтой.
Конечно, для мистических встреч оставалась еще ночь, когда, кажется, ничто уже не препятствовало обратиться к волшебству и чудесам, вглядываясь в окружающую тебя бесконечную тьму, готовую вот-вот открыть тебе все свои богатства, среди которых затерялось и это нехитрое стальное чудо, которое всегда говорило своему хозяину только «да».
И вот она приходила к нему во сне, эта прекрасная шашка, чьи ножны были богато инкрустированы драгоценными камнями, а по лезвию змеилась почти невидимая надпись про Бога, Царя и Отечество. В этих снах шашка была продолжением самого отца Иова, она летала, со свистом разрезая воздух, и вместе с ней летел и сам монастырский духовник, верша свой праведный суд над силами зла, которые чаще всего возникали в знакомом образе отца игумена, грозившего отцу Иову большим столовым ножом и обещавшего вскоре добраться до него, что конечно было смешно тому, кто держал в руке это остро наточенное и не знающее поражения лезвие.
– Господи! – говорил он не устами, а сердцем, которое было открыто и трепетало от восторга. – Господь Всемогущий!.. Подай мне, недостойному, шашку колюще-режущую, чтобы я мог достойно наказать врагов Твоих и сотрясти ненавидящих Тебя!
И Господь, конечно, ответил ему, но ответил опять-таки по-своему, так что даже непонятно было, говорит Он серьезно или шутит.
– Мы тут больше по части милосердия, сынок, – сказал Господь, откашливаясь. – Милосердим все, что еще милосердию поддается… И, обрати внимание, не без успеха.
Услышанное было непонятно и в чем-то даже немного сомнительно.
– Что ж? И отца Павла тоже милосердить будете? – спрашивал отец Иов, недоумевая и морща лоб.
А Господь с незримой высоты, вновь отвечал ему:
– Непременно.
– А как же отец игумен? – не унимался отец Иов. – Что, и его тоже?
– И его, – говорил Господь, загадочно улыбаясь.
– Где же тогда справедливость? – спрашивал отец Иов, выскальзывая из своего сна. – Где, извиняюсь, основа морали, без которой не мыслит себя ни одна религия? Где мировой порядок, свидетельствующий о величии Творца?
– Ишь чего, – сказал Господь, приглашая ангелов посмеяться вместе с ним, чем они немедленно и воспользовались. – Основа морали… Тебе что? Мало Господа твоего, что ты еще желаешь поклоняться неизвестно чему?
– Как же это неизвестно чему, – бормотал отец Иов, путаясь в обрывках сна. – Ты ведь сам, Господи, говорил, – возлюби ближнего своего и все такое.
В ответ вновь раздался громкий хохот ангелов.
– Ну, будет, будет, – останавливал смеющихся ангелов Господь. – Вам только повод дай, так любого засмеете… Он ведь не виноват, что у него такие в голове куцые мысли живут…Посострадательнее надо быть, а остальное приложится…
И странное дело – прошло совсем немного времени, и Господь удовлетворил просьбу отца Иова и одарил его колюще-режущей красавицей, хотя, может, и не совсем такой, какой ему хотелось бы.
Шашку принес в монастырь какой-то мальчишка, который откопал ее на своем участке и теперь хотел поменять на хорошую удочку. У принесенной шашки не было рукоятки и был обломан колющий конец, да и вся она, ржавая и смешная, больше напоминала кусок строительной арматуры, а не достойное боевое оружие. И тем не менее, это была именно она, – та самая, которую отец Иов часто чувствовал у своего левого бедра и которая так долго приходила к нему в сновидениях, рассказывая о какой-то другой, далекой и счастливой жизни, которая не поддается ни заклинаниям, ни теоретическим рассуждениям, но сама находит тебя, когда посчитает это нужным.
… Конечно, мы не знаем и никогда, наверное, не узнаем, чем руководствовался Господь, вручая отцу Иову эту сомнительную ржавую шашку, которую тот немедленно повесил за шкафом, но мы можем быть совершенно уверены, что это был вовсе не акт отвлеченной справедливости, о которой так любят распространяться религиозные деятели всех рангов, – и это так же верно, как и то, что в своих молитвах и воплях мы, как правило, уповаем не на справедливость, а на нечто совсем другое, чему, возможно, даже нет названия на куцем человеческом языке.
13. Наставление больному
Службой отец Нектарий себя особенно не утруждал, справедливо полагая, что Бог и так видит его, Нектария, рвение, чтобы ему еще вставать в такую рань и торопиться на братский час. Поэтому ходил он на службу, главным образом, по воскресениям да по праздникам, а иногда, случалось, и по субботам, что можно было посчитать прямо-таки исключительным геройством, за которое милость Господня не заставит долго себя ждать. Если же случалось, что попадался ему какой-нибудь нерадивый монах, который отлынивал от службы, то тут уж отец Нектарий был неутомим и напоминал сам себе Христа, изгоняющего из Храма разных нечестивцев, место которых не в монастыре, а в самой преисподней.
«Ты в церкви-то сегодня был?» – спрашивал он какого-нибудь бледного и кашляющего монаха, который вышел на десять минут подышать свежим воздухом.
«Болею я», – отвечал монах и заливался в подтверждение кашлем.
«В церковь ходить надо, – отец Нектарий отворачивался от кашляющего монаха. – Какой ты пример всем подаешь, ты подумал?.. Подумал ты или нет?»
«Так ведь болею», – монах для пущей убедительности стучал кулаком по груди.
«Ты кулаками-то не махай, – не унимался Нектарий, с отвращением смотря на лживого собеседника. – Болеть болеешь, а сам вон бегаешь, как козел по огороду… После обеда пойдешь посуду мыть. Понял, что ли?»
«Понял», – говорил монах, радуясь, что так легко отделался.
«И сто земных, и чтоб без обману», – добавлял Нектарий.
«Так ведь температура», – болящий уже проклинал час, когда ему вздумалось прогуляться по двору и подышать чистым воздухом.
«У Христа, у него тоже температура была, – вполне резонно замечал отец Нектарий, радуясь удачному ответу. – Да только ему это не помешало таких дураков, как ты, спасать!»
«Я-то, вон, не Христос, слава Богу», – негромко возражал болезный, дергая за ручку двери и желая отцу наместнику немедленно провалиться в тартарары.
«Оно и видно, – наместник сверлил болящего злобным взглядом. – Давай-ка отправляйся, и чтоб без обмана у меня, пожалуйста».
«А как же температура? – робко говорил болящий. – Ее вроде тоже Бог посылает».
«Поговори еще у меня», – обрывал его Нектарий, поворачиваясь и давая понять, что воспитательный процесс, наконец, завершился. Затем он исчезал, напоследок хлопнув дверью и оставляя болящего один на один с его горькими раздумьями.
Впрочем, заставить монахов ходить на братский час или ночное чтение псалтыри отец Нектарий не мог, хотя бы потому, что, чтобы кого-то заставить, надо было проснуться в шестом часу самому, а это как раз в планы отца наместника никак не входило.
14. Небольшой штрих к характеру наместника
Выйдя как-то раз прогуляться по монастырскому садику с клумбой, отец Нектарий заметил маленькую девочку, сидящую на скамейке.
«Отдыхаем?» – спросил он, усаживаясь рядом.
«Хочу взять благословение в дорогу», – сказала девочка.
«Хорошее дело, – сказал Нектарий, чувствуя себя в одном лице и Кириллом, и Мефодием, и вспоминая, что говорил Господь по поводу детей, каковые должны были приходить к Нему беспрепятственно в любое время дня и ночи. – Если отправляешься в путь, то надо брать благословение, потому что так надо. Так нам Господь заповедовал».
«Я знаю», – сказала девочка.
«Вот и хорошо, что знаешь… Ну-ка, иди сюда, я тебя благословлю».
Но девочка сказала:
«А я хочу взять благословение у отца Тимофея или у отца Иова».
Лицо наместника сразу побелело.
«Это почему же у Иова»? – спросил он внезапно охрипшим голосом.
«Потому», – сказала девочка и отодвинулась от отца наместника, словно опасаясь, что отец Нектарий благословит ее насильно.
«Ну и хоти», – сказал наместник, поднимаясь со скамьи и чувствуя, как знакомая горечь непонимания разрывает ему грудь, заставляя сдерживаться изо всех сил, чтобы не ударить ногой по скамейке или не опрокинуть мусорное ведро, или же не обозвать, наконец, эту маленькую паршивку бранным словом, от которого пожухла бы придорожная трава.
Что-то не клеилось в этой жизни, что-то было не так, как следовало, вот только непонятно было, что же именно было это не так, которое заставляло его глухо стонать по ночам и пить с вечера приготовленный бокал красного вина, чтобы побороть бессонницу?
Было время, когда он ждал по окончании воскресной службы, когда последний прихожанин покинет храм, и тогда он выходил из храма сам, чтобы быть немедленно окруженным толпой прихожан, которые рады были услышать от него хотя бы небольшое наставление, поймать его улыбку, получить благословение, перекинуться парой ни к чему не обязывающих слов.
«Придите ко мне все страждущие – было написано тогда на лице отца Нектария – и я успокою вас».
Наверное, в этом заключалась его великая тайна – подобно всем тиранам мира, он втайне мечтал о том, чтобы быть для всех любящим отцом и авторитетным наставником, которого при этом еще бы бескорыстно и самозабвенно любили и готовы были отдать за отца Нектария самое дорогое, что у них было.
Тогда он чувствовал за своей спиной шелест ангельских крыльев, под которыми он готов был объединить если не всех, то, по крайней мере, тех, кто его любил, – эти огромные белые крылья, которые могли бы накормить всех голодных, напоить всех жаждущих и исцелить всех болящих, как и написано было во всех тех книгах, которые отец Нектарий когда-то читал, но со временем стал забывать, полагая, что есть в мире дела и поважнее, чем старые книги, пусть даже и такие, которые читают с амвона, прежде чем вино обратится в кровь, а хлеб в плоть.
Однако время шло, а прихожан перед храмом почему-то становилось все меньше и меньше, и скоро, выходя после воскресной службы из храма, отец Нектарий почти со страхом ожидал всякий раз, сколько человек встретят его и сколько подойдут под благословение.
А потом пришел день, когда, выйдя после воскресной службы на площадку перед храмом, отец Нектарий с изумлением увидел, что никто не спешит ему навстречу, никто не складывает руки для благословения, никто не улыбается и не кланяется ему. Пуста была площадка. Пусты лестницы, ведущие вниз. Не толпился народ ни у Святых ворот, ни у могилы Пушкина. Разве что какие-нибудь голоштанные туристы заглядывали ненадолго в храм и, не пожертвовав ни копейки, спешили на свежий воздух.
И еще увидел отец Нектарий, что вся присутствующая воскресная братия прекрасно видит его позор и вместе с ними его видят невидимые миру ангелы, чей смех, словно колокольчики, раздавался прямо у него в ушах, напоминая давно прошедшие детские праздники, которые уже никогда не вернутся.
И горечь его, надо полагать, была весьма велика.
15. Мелочи из жизни келейника Маркелла
Жизнь келейника Маркелла была печальна и поучительна, как печальна и поучительна бывает жизнь большинства келейников и келейниц, всецело отданных в беспредельную власть предержащих и почти повально утративших понимание о различии между смирением и самодурством монахов.
Можно было бы сказать, что Маркелл родился в монастыре и при этом родился именно в качестве келейника, то есть готовый немедленно приступить к своим обязанностям: чистить, прибирать, вытирать пыль, знать все о гардеробе наместника, заботиться об облачении, бегать, распоряжаться, читать переписку, мыть окна, вести разного рода отчетности – одним словом, делать всю мыслимую и немыслимую работу, оставив отцу наместнику только тяжелый труд молитвенника и предстоятеля перед Царицей небесной за всю монашескую братию, всю страну и весь крещеный мир.
Худенький, невысокий, с ввалившимися щеками и острым носом, Маркелл появился в монастыре, отслужив в армии, чтобы потом несколько лет быть келейником у отца наместника, и так этому последнему полюбился, что тот долгое время не хотел отпускать Маркелла из келейников, для чего он всегда имел сотню важных причин, среди которых не последняя касалась кулинарных способностей Маркелла, которые были по достоинству оценены и отцом наместником, и даже самим владыкой Евсевием, как-то раз заметившим, что не будь он владыкой, он хотел бы быть поваром, готовящим так, как это получалось у Маркелла. Когда же расставание с отцом игуменом стало, благодаря заступничеству владыки Евсевия, неизбежным, отец Нектарий специально подгадал рукоположение Маркелла на Маркелла Апамейского, так что Маркелл как был Маркеллом, так им и остался, поменяв лишь святого, а наместнику, в свою очередь, не пришлось тратить время, чтобы осваивать новое имя, на что у него не было, разумеется, никакого желания.
Вообще говоря, Маркелл был скорее похож на мальчика-подростка, который натянул на себя неосторожно оставленный кем-то черный подрясник и в таком виде принялся дурачить проходящих мимо людей.
Первое, что бросалось в глаза в келье Маркелла, было большое количество механических игрушек, главным образом, самолетов и вертолетов, которые – если не было поблизости наместника – Маркелл выносил во двор и устраивал нечто похожее на боевой смотр, когда машины, слегка жужжа и мигая бортовыми огнями, поднимались в воздух и кружили над монастырем, то опускаясь, то вновь поднимаясь, и тогда по лицу Маркелла можно было легко прочесть, что он, наконец, вполне и основательно счастлив.
В один из таких счастливых смотров в конце аллеи показалась никем не ожидаемая фигура наместника.
Появление это было столь неожиданно, что пульт управления в руках Маркелла дрогнул, и модель тяжелого военного вертолета с размаху опустилась прямо на голову игумену.
В ответ наместник присел и издал такой звук, что греющиеся на солнце кошки настороженно подняли уши и повернули головы, в то время как вертолет каким-то образом умудрился не только зацепиться за клобук отца наместника, но и подняться вместе с ним над пустынным в этот час двором, после чего вертолет завертелся на одном месте и рухнул к ногам наместника.
Какое-то время во дворе царило напряженное молчание. Затем отец Нектарий издал боевой клич и принялся топтать ни в чем не повинный вертолет, сопровождая эти прыжки какими-то утробными звуками, отдаленно напоминающими стремительное журчание спускаемого унитаза.
«Вот тебе… Вот тебе… Вот тебе!» – прыгал отец игумен, поднимая пыль и оставляя в недоумении сидящих на кустах птичек. Потом он перестал прыгать и изо всей силы поддал погибший вертолет, так что тот описал дугу и свалился прямо в ноги Маркелла. По лбу и щекам наместника текли капли пота.
«Ломать-то было зачем», – сказал Маркелл, глядя на искореженные останки вертолета.
«А ты смиряйся! – закричал наместник, наливаясь кровью и поднимая с земли искалеченный клобук. – Смиряйся, а не вещи порти!.. Ишь, взяли манеру – в игрушки в монастыре играть!.. А если бы ты мне, допустим, глаз выбил?»
«Ну ведь не выбил же», – проворчал упрямый Маркелл, подбирая остатки вертолета.
«Вот и смиряйся теперь, потому что не выбил!» – закричал какую-то несуразицу наместник, да при этом так громко, что птички поспешно снялись со своих мест, а кошки отползли от солнца в тень.
Чего-чего, а смирения отец Маркелл за время своего келейничества хлебнул от наместника сполна, тем более что все педагогические таланты отца Нектария ограничивались одним единственным пожеланием, чтобы обучаемый смирился, смирился и ещё раз смирился, если не хочет, чтобы отец игумен перешел к более суровым методам воспитания.
«А ты смиряйся», – говорил наместник всякий раз, когда Маркелл собирался открыть рот, чтобы возразить или даже просто вставить безобидную реплику, которая почему-то сердила и раздражала Нектария.
«Ты здесь зачем? – спрашивал он, глядя на Маркелла сверху вниз и не давая ему возможности ответить. – Ты здесь затем, чтобы смиряться. Вот и смиряйся, если не хочешь, чтобы я тебе чего-нибудь сломал, а заодно благодари Бога, что ты попал в руки ко мне, а не в руки какого-нибудь нехристя вроде вон отца Тимофея».
Ради справедливости следовало бы, между тем, отметить, что, в свою очередь, и самого отца наместника следовало бы считать попавшим, некоторым образом, в руки отца Маркелла, ибо – если пренебречь мнением отца наместника – был Маркелл на самом деле пунктуален, обязателен, сострадателен, умен, обстоятелен, верен, изобретателен и к тому же всегда входил в положение другого, – то есть был прямой противоположностью отцу наместнику, благодаря чему время от времени случались в наместничьих покоях невидимые миру слезы и видимые миру синяки и ссадины, чье происхождение сам Маркелл охотно объяснял неудачным падением с лестницы, или неудачным падением с велосипеда, или даже неудачной попыткой погладить кошку, которых здесь было видимо-невидимо.
Одна из таких неудачных попыток произошла однажды в покоях отца Нектария, когда он за что-то выговаривал отцу Маркеллу, пытаясь перекричать самого себя, что, как правило, могут себе позволить только настоящие виртуозы крика, знающие, что обычно такого рода звуки заканчиваются более или менее серьезным мордобоем.
Чем его разозлил Маркелл – так и осталось навеки неизвестным. Говорили, правда, что дело было совсем не в Маркелле, а в отце Несторе, который, не выдержав наместнического самодурства, написал владыке несколько обличительных писем, а тот, особо себя не утруждая, отправил переписку все тому же отцу Нектарию, а он, ознакомившись с ней, незамедлительно обрушил свой праведный гнев на того, кто был ближе всех, а именно на Маркелла и на отца Нестора, который – как в плохой пьесе – как раз и появился в поле зрения отца наместника и был немедленно смешан с землей и назван Антихристом и Вельзевулом, что в устах отца Нектария звучало даже вполне прилично. При этом все тычки и удары, конечно, доставались поначалу бедному отцу Маркеллу, но потом досталось и отцу Нестору, который хоть и знал хорошо известный текст, призывающий терпящего насилие немедленно подставить вторую щеку, однако, будучи человеком по природе благородным, не раздумывая, бросился выручать товарища, которому к этому времени уже сломали нос и повредили руку.
Должно быть, это была сцена – два худеньких, немощных и слабосильных монаха пытаются изо всей мочи совладать с истошно вопящим наместником, тогда как ангелы небесные не переставая хохочут и свистят, слыша этот почти неприличный писклявый голос отца наместника и видя, как недавно вымытый пол покрывается пятнами крови.
«Вон! – кричал между тем отец наместник, делаясь сначала свинцово-бледным, а затем неестественно багровым, что случалось с ним всякий раз, когда он принимал участие в воспитательном процессе. – Вон из монастыря, мерзавцы!.. И чтоб я больше вашей ноги тут не видел!.. Экие сволочи, прости Господи!.. На меня вздумал жаловаться, да еще владыке… Ах вы, мерзавцы!.. Чтобы утром вашего духа тут не было, еретики!.. На игумена руку подняли, мерзавцы!»
Силы были, конечно, неравны, ибо ко всему прочему был отец наместник, как мы уже видели, и горяч, и бесстрашен, и гневлив, и к тому же не всегда верно понимал, где кончается его педагогический талант, а где начинается царство его самодурства, каприза и хамства.
Через сорок минут после начала битвы машина скорой помощи увезла отца Маркелла в больницу, а отец Нестор отправился в свою келью собирать вещи, чтобы завтра утром уехать с первым же автобусом в Псков.
Как провел остаток ночи отец Нектарий, мы не знаем. Можно, впрочем, представить себе, что, проснувшись среди ночи, игумен позвал Маркелла, желая, чтобы тот принес ему стакан холодной воды. Когда же никто не отозвался, он вдруг вспомнил вчерашний скандал и горько устыдился своего поведения, чувствуя, как краска заливает ему лицо. Потом, кряхтя и вздыхая, он слез со своего ложа и, полный раскаянья, вознес перед своим иконостасом горькие слова слезного покаяния, которые поднялись над грешной землей и в ту же минуту достигли небесного Престола. И был голос с небес, сказавший:
«Се сын Мой возлюбленный, на котором Мое благоволение. Ибо был он от Меня далек, но теперь принес достойные плоды покаяния и прощен».
«Слыхал? – сказал наместник, обращаясь к невидимому Маркеллу и чувствуя, как целительный бальзам прощения обволакивает его раны. – А ты говоришь: «наместник»… Вот тебе и «наместник». Будешь теперь знать, как под горячую руку попадаться… А нос починишь, будет как новенький. Тем более что ты у меня столько вещей перебил, что лучше и не вспоминать…»
Последнее замечание требовало небольшого пояснения.
Дело было в том, что отец наместник питал небольшую и вполне, в общем-то, простительную страсть к разного рода домашним безделушкам, то есть ко всем этим мраморным слоникам, русалкам, фарфоровым чашечкам, ко всей этой посудной мелочи и статуэткам, которые смотрели на тебя из всех углов наместничьих покоев и словно приглашали вернуться назад, в давно ушедшее детство, которое прятали за собой все эти стеклянные и фарфоровые чудеса. Страсть эта была, повторяю, совсем безобидная, но все же это была страсть, с которой Маркелл, как настоящий монах, пытался бороться и иногда даже вполне удачно.
«Вот ведь умеют делать, – говорил отец наместник, когда очередная финтифлюшка занимала свое место среди прочих достойных бутылочек и статуэток. – Хоть и католики, а умеют».
«Протестанты, – поправлял его Маркелл. – Тут написано – Ганновер. Значит, это протестанты».
«А ты смиряйся, – сердито говорил отец наместник, не любивший, чтобы его поправляли, тем более, чтобы это делал какой-то там келейник. – Ишь, тоже мне, специалист нашелся. Лучше «Отче наш» про себя прочитай. Все больше толку будет».
Судьба этой протестантской финтифлюшки, впрочем, была печальна, как и судьба многих стеклянных предметов, которые попадали рано или поздно в руки Маркелла. Вытирая как-то с полки пыль, Маркелл случайно задел это протестантское чудо, которое нет, чтобы упасть самому, так еще потянуло за собой все прочие стеклянные чудеса: все эти разноцветные фигурки, глиняные колокольчики и фарфоровые тарелочки, с которых уже никто и никогда не будет есть. Последним со страшным грохотом упал и разбился стеклянный подносик, на котором был изображен Александр Сергеевич Пушкин, стоящий на берегу моря.
Вышедший на шум из внутренних покоев игумен остановился и, посмотрев на масштабы разрушений, тяжело вздохнул и сказал:
«Триста утренних земных поклонов».
И вздохнув, добавил:
«И триста вечерних».
Так, во всяком случае, рассказывал сам Маркелл, демонстрируя свежие следы от падения с лестницы.