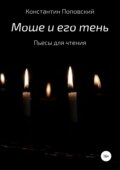Константин Маркович Поповский
Монастырек и его окрестности… Пушкиногорский патерик
107. Продолжение великого путешествия. Машина
Никто не знал, где и как отец Фалафель и Сергей-пасечник провели последние два часа, однако доподлинно известно, что где-то в половине четвертого их видели у носовского моста, где Сергей-пасечник обучал отца Фалафеля нехитрым навыкам диверсионной службы.
– Если машина груженая, то бей по передним колесам, а если пустая, то по задним, – говорил Пасечник, едва высунувшись из кювета и посыпав себя для маскировки прошлогодними листьями.
– Понял, – говорил отец Фалафель, тоже посыпая себя листьями и украшая свою рясу цветами репейника. – А что делать с машиной?
– С какой машиной? – не понял Пасечник
– А вон, – сказал отец Фалафель, глядя на повернувший с перекрестка «Газик».
– Не боись, сейчас сделаем, – сказал Пасечник, вылезая из кювета. – Подстрахуй меня в случае чего.
– Само собой, – сказал отец Фалафель, отступая в придорожные кусты.
«Газик» был уже совсем близко.
– Стоять! – закричал Сергий-пасечник, выскакивая на дорогу прямо перед машиной. – Стой, паскуда. Убью!
В руках он держал какой-то засохший сучок, отдаленно напоминающий винтовку.
Машина дернулась в сторону и пошла юзом, но, благодаря небольшой скорости, почти сразу же остановилась. Дверь ее, судя по всему, слегка заклинило.
– Всем приготовиться, – сказал Сергей и для пущей убедительности постучал по заднему крылу «Газика».
Тут из кустов вышел отец Фалафель с палкой в руке, которую он держал наподобие ружья.
– Это ограбление, – сказал он и захихикал.
– Вы что, монахи, сдурели? – сказал шофер, открывая, наконец, дверь. – Совсем с ума посходили? А если б я не успел тормознуть?
Глаза его между тем подозрительно блестели.
– Но ведь успел же, – сказал Сергей, подходя к шоферу. – Ты кто?
– А ты кто? – спросил шофер, но, увидев в руке у одного из монахов красную корочку, сразу присмирел, однако, все-таки заметил, что первый раз видит у монаха чекистское удостоверение, что и в самом деле было довольно странно.
– Мы на особом задании, – сказал Фалафель и зачем-то показал пальцем в сторону Сороти.
– Машину реквизируем, и притом вместе с шофером, – сказал Сергей, похлопывая по капоту. – Будешь реквизированной технической единицей.
– Вот за это спасибо, – сказал шофер. – Глаза б мои на нее не смотрели. Поверите ли, только баранку целый день и видишь. Никакого досуга!..
– Будет тебе досуг, подожди еще немного, – сказал Сергей. – Сейчас поедем в ближайший продуктовый, а ты, Фалафель, останешься тут и будешь ждать подкрепления.
– Это у него, что ли, имя такое – Фалафель? – поинтересовался шофер, с интересом рассматривая Фалафеля.
– Это у него позывной такой, – сказал Сергей. – Требуется, когда он выходит на связь. Только чтобы об этом ни гу-гу.
– Понимаю, – сказал шофер и еще раз не без интереса поглядел на Фалафеля.
– Выпей-ка, сынок, перед дорожкой – сказал тот, протягивая шоферу складной пластмассовый стаканчик.
– Ты, что ль, не видишь, за рулем я, – неуверенно сказал шофер, но предложенный стаканчик взял и немедленно и деловито его осушил, не потребовав к принятому никакой закуски, что обличало в нем опытного человека.
– Вот это по-нашему, – сказал отец Фалафель, глядя на просвет через пустую бутылку. – Все бы так пили, так другая страна была бы.
– Стой-ка, – отец Сергей заглянул в кабину. – Это что тут еще у тебя за подозрительная фляжечка?
– И ничего она не подозрительная, а чистый самогон, – ответил шофер. – Его в Захнино гонят. Целая, между тем, бригада. И хорошего качества, кто понимает.
– Мы-то как раз понимаем, – сказал Сергей, нюхая содержимое фляжечки. – Можешь не сомневаться. А вот понимаешь ли ты степень своей ответственности перед Родиной, это еще надо проверить.
И с этими словами он поднес фляжечку ко рту и опрокинул ее, издав при этом какой-то болезненный тоскливый звук, похожий на то, как если бы кто-то выключил включенную на всю мощность заставку Windous.
– Служу Советскому Союзу, – сказал шофер и отдал честь. Потом он взял из рук Сергея опустевшую фляжку, допил остатки и добавил:
– Если что, то говорите, что вы меня взяли в заложники.
– И скажем, – сказал Пасечник, потрепав шофера по плечу. – Можешь не сомневаться.
Потом Пасечник и шофер сели в машину и отбыли в неизвестном направлении, а Фалафель присел у обочины дороги, снял с себя обувь и задумался, предавшись нехитрой науке ожидания. А потом уснул.
108. Борода
Откуда взялась у отца Иова странная привычка поглаживать во время беседы свою бороду – этого, конечно, не знал никто. Достоверно известно было другое, а именно то, что сама эта борода была на редкость несимпатична, вызывающе вульгарна и совершенно не отвечала тем задачам, которые должна была исполнять борода монастырского насельника, напоминая о близости Божьей и предупреждая о неподкупной неизбежности Страшного Суда. Эта борода росла совершенно по каким-то своим законам, то давая в одном месте завидную густоту, то наоборот, производила нечто, напоминавшее игривую плешивость, просвечивая насквозь до самой кожи и при этом еще позволяя себе завиваться на концах, что выглядело уже совсем неприлично.
Единственное, в чем эта борода явно преуспела, была ее длина, которая – как говорили знающие люди – достигала аж до самого пола, – но и тут она выглядела далеко не комильфо, а скорее так, словно её хозяину приходилось просить милостыню или петь в подземном переходе.
«Если бы случился конкурс на худшую бороду, то твоя бы заняла первое место», – сказал как-то отец наместник, который сам был бородой не обделен и поэтому безбоязненно позволял себе по этому поводу всякие замечания.
Замечание это было, конечно, обидное, но еще обиднее были смех и хихиканье братии, которая почти открыто показывала этим глупым смехом свою зависть и заскорузлую – как говорил сам Иов – неприязнь, которые братия демонстрировала в отношении своего духовника.
Однако Бог и без нас знает, как вести нас от поражения к победе.
Кто внимательно читал святых отцов, тот, конечно, хорошо знает, что на чужом несчастии не въедешь не только в Рай, но и в свою собственную келью. Глядя на хихикающих братьев, отец Иов, как истинный христианин, не подавал вида, что его задевают их насмешки, твердо уповая на Бога и справедливо полагая, что смеется тот, кто смеется последним.
Так оно и вышло.
Господь не только утешил отца Иова, найдя новый источник радости и довольства, но и вдохнул в него некоторую уверенность, которой ему никак недоставало в общении ни с братьями, ни с отцом игуменом. Те же, кто подпевал и подхихикивал отцу Нектарию, остались, судя по всему, в дураках, позабыв, что Дух Божий дышит, где хочет, поднимая каждый день над нашими головами сияющий солнечный шар и не делая до поры различия между злыми и добрыми.
А дело было так.
Прогуливаясь как-то по монастырскому дворику и прячась от солнечных лучей, отец игумен вдруг наткнулся на сборище монахов, которые плотной стеной окружили скамейку, с которой раздавался и голос отца духовника, и другие знакомые голоса.
«Ну, давай, Иов, – услышал отец наместник голос отца Мануила, к которому присоединился голос отца эконома и голос самого отца Иова, который сказал: «И при этом совершенно не обжигает».
«А главное – не кончается, – сказал восторженный голос отца Маркелла. – Как это возможно, вот вопрос».
«Чудо», – сказал неизвестный голос и добавил: «Чудо и есть».
– Это что еще у вас тут за чудо? – сказал отец наместник, протискиваясь сквозь толпу и заставив нескольких монахов в страхе отступить. – Ну-ка, ну-ка…
Тесня и наступая друг другу на ноги, сборище расступилось, и отец наместник увидел сидящего на скамейке отца Иова, который поспешно засовывал что-то за ворот подрясника. Вид у него при этом был самый подозрительный.
– Ага, – сказал отец Нектарий, оглядывая присутствующих. – И как это прикажете понимать?
Так как все монахи, напуганные неожиданным явлением отца игумена, молчали, слово взял отец Иов, который быстро откашлялся и в двух словах попытался объяснить игумену причины этого сборища. А так как Демосфен из отца духовника был совершенно никакой, то и объяснение его было совершенно непонятно, неубедительно, а главное, подозрительно.
– Электричество, – сказал отец Иов, зачем-то показывая указательным пальцем на небо. – Такие вот разряды. Особенно если их наэлектризовать.
– Какое там еще электричество, – игумен с отвращением смотрел на отца Иова. – Вы зачем тут собрались, я спрашиваю?.. Или для вас закон не писан?.. Служба через полчаса, а вы тут по скамейкам рассиживаетесь!
Способность отца архимандрита начинать каждое дело с грубости и оскорблений была, впрочем, хорошо известна всем насельникам и никого не удивила.
– Так ведь это опыт, – сказал отец Мануил, о котором говорили, что он не так сильно робеет хамства Нектария, как остальные. – Между прочим, описан в учебнике физики для седьмого класса.
– И что? – сказал Нектарий, обливая монахов почти осязаемым презрением.
– Давай, Иов, покажи, – сказал Мануил.
– Я и сам бы не поверил, если бы не Мануил, – Иов старался, чтобы слова его звучали как можно убедительнее. – И остальные тоже подсказали.
– Ну, – мрачно поторопил игумен, начиная сердиться.
Иов вздохнул, затем – запустив куда-то под подбородок руку – вытащил на свет божий свою бороду, после чего обвел насельников тоскующим взглядом и вдруг несколько раз быстро провел рукой по лежащей на его груди бороде.
Немедленно вслед за этим на скамейке раздался сильный треск, и десятки электрических разрядов вспыхнули и погасли в бороде отца Иова.
От неожиданности отец наместник попятился и чуть было не сел на клумбу.
– Это что еще за фокусы? – спросил он, не понимая, что происходит.
– Электричество, – сказал с благоговением Иов. – Чтобы это понять, надо такую вот книгу прочесть.
И он показал размеры этой самой книги.
Монахи согласно закивали.
– Книга у нас, слава Богу, уже есть одна, – игумен подошел ближе. – Евангелие называется… А ну-ка. Давай-ка еще, если сможешь.
– Нет проблем, – сказал отец Иов, который в последнее время курировал старшие классы местной школы и многому от них набрался. – Сделаем в лучшем виде.
Потом он распушил свою бороду и несколько раз быстро провел по ней свободной рукой
Треск. Искры. Запах жженой бумаги.
– Однако, – протянул отец игумен даже с некоторым удивлением. – И давно это у тебя?
– С утра, – сказал отец Иов и добавил: – Прямо хоть в Академию звони.
– Зачем в Академию, не надо в Академию, – и наместник осторожно протянул руку к бороде духовника. – У нас тут такой народ, что без всякой Академии трусы на ходу снимут.
Окружающие скамейку монахи сдержано рассмеялись.
Чудо, между тем, продолжалось.
Стоило отцу духовнику слегка провести рукой по бороде, как множество электрических искр вспыхивали, словно далекие звезды. Одна большая искра, треща, обожгла игумену руку и быстро прожгла подрясник.
– Ай, – игумен отдернул руку. – Ты тут поосторожней со своими огнями-то. А то сожжете монастырь к чертовой матери.
Голос его стал похож на кусок наждачной бумаги.
– Мы осторожно, – сказал отец Иов, догадываясь вдруг по каким-то своим признакам, известным только одному ему, что у игумена вдруг сильно испортилось настроение. Причина этого, разумеется, сомнений не вызывала. Отец игумен завидовал, и завидовал он именно вот этой самой наэлектризованной бороде, которую нельзя было ни спрятать, ни запретить, ни отнять, так что оставалось только смотреть, как вспыхивают и гаснут перед тобой манящие искры, и чувствовать, как твое лицо становится все мрачней и мрачней.
В то время как настроение отца Нектария заметно ухудшилось, настроение отца Иова, напротив, вдруг заметно улучшилось, да так, что не было ничего удивительного в том, что его внезапно пронзила мысль, что мечта о настоящей бороде, которую он так таил долгие годы, вдруг стала реальностью! Было ясно, что такой бороды нет ни у старцев, ни у владыки, ни даже у самого Патриарха, который не упустил бы, конечно, случая покрасоваться перед членами Синода такой вот чудесной бородой.
«Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!» – с чувством прошептал отец Иов и перекрестился, чувствуя где-то совсем рядом присутствие Того, кто подвесил на небесах хрустальный свод и стреножил великого Левиафана, а теперь осчастливил отца Иова, сняв с него тяжесть, которую он носил много-много лет.
«На службе креститься будешь», – злобно сказал наместник, поднимаясь со скамейки, и чувствуя, как боль и обида готовы вот-вот захлестнуть его.
Но его, похоже, уже никто не слушал.
Глядя, как вспыхивают таинственные электрические искры, приходящие из ниоткуда и возвращающиеся в никуда, монахи словно забыли о существовании отца игумена, загипнотизированные волшебными искрами, которые, похоже, хотели им что-то важное сказать, но все никак не могли найти нужных слов.
109. Местная история. Гений Бозырева
Местная история Пушкиногорья не знает ни своего Тацита, ни своего Тита Ливия. И все же, время от времени, всплывают из небытия странные истории, которые вполне могли бы произойти в древней Греции или Риме, лишний раз подтверждая ту незамысловатую истину, что человек всегда и везде остается самим собой.
История же была вот какая.
В году этак пятидесятом приехал в Пушкинские горы сразу после распределения молодой специалист по фамилии Бозырев. Был он сведущ в комсомольских делах, поэтому довольно быстро пошел в гору, довольно скоро вступил в партию и занял какой-то значительный, по местным меркам, пост в районной администрации.
Поселился же он в деревне Савкино, по которой когда-то давным-давно любил гулять Пушкин, ничего, к счастью, не знавший ни про партийную работу, ни про райком, ни тем более про партийные взносы.
Время, между тем, шло, семья росла, и скоро Бозыреву стало тесно в его уютном, но небольшом доме. Как советский человек, к тому же, как человек партийный, он не пошел для решения своей проблемы каким-то сомнительным путем, но просто написал заявление, в котором описал свое печальное положение и попросил вышестоящие органы поставить его в городскую очередь на квартиру в Пушкинских горах.
И тут выяснилось, что по закону сельские жители не имели права стоять в городской очереди, – не то потому, чтобы удерживать их в сельском хозяйстве, не то по какой другой причине, но все мечты и фантазии Бозырева о собственной квартире рухнули в один час.
Для него настали тяжелые дни, и даже помощь друзей и поддержка семьи не приносили облегчения и не делали его боль меньше.
Однако мучения его длились, к счастью, недолго.
На одном из заседаний райкома неожиданно возникло предложение помочь товарищу Бозыреву в получении расположенной на территории Пушкинских гор квартиры.
Все гениальное, как известно, просто.
Посоветовавшись с друзьями, поразмыслив и полистав Административный кодекс, Бозырев продвинул в райком предложение – передать деревню Савкино, где он жил, – под непосредственную власть городской администрации – другими словами, лишить Савкино статуса деревни, а взамен считать его частью Пушкинских гор. Так Савкино стало улицей, принадлежащей поселку, а Бозырев – поселковым жителем, стоящим на законных основаниях в городской очереди на квартиру в Пушгорах.
Я хорошо представляю себе эту картину
Заседание пушкиногорского райкома. В сегодняшних темах – доклад о достигнутых районом успехах, международное положение и – в части «Разное» – квартирные затруднения гр. Бозырева.
– Есть еще один – последний – вопрос, – говорит Ответственный за идеологическое воспитание молодежи. – Вы все знаете нашего молодого специалиста, товарища Бозырева. Знаете и его тяжелое семейное положение, в смысле квартирного вопроса, конечно. Так вот у нас есть предложение, позволяющее, наконец, встать товарищу Бозыреву в общегородскую квартирную очередь. Прошу вас ознакомиться.
Далее идет знакомство с предложением.
– По-моему, это стоит внимания, – говорит Ответственный за техническое состояние машинного парка.
– Ну, все-таки деревня. Поймут ли нас? – замечает Председатель.
– А мы сообщать никому не станем, – говорит Ответственный за идеологию. – Почему мы должны кому-то рассказывать о наших внутренних делах? Это непорядок.
– Верно, – говорит Председатель. – Что ж, давайте голосовать. Да и по домам. Все-таки банный день.
Дальше история пошла по накатанной.
Бозырев встал в квартирную очередь и скоро получил в Пушкинских горах неплохую квартиру. Что же касается всех остальных, то прошло еще много времени, прежде чем местные жители догадались, что они живут теперь не в деревне Савкино, а на Савкинской улице, и сами они – уже не деревенские мужики и бабы, а самые натуральные городские жители, перед которыми открыты все пути.
110. Василевич
1
Говорить о Василевиче немного затруднительно в силу положения, которое он занимает в иерархии местных и не местных чиновников, а также в силу того огромного количества рассказов, слухов и нелепостей, которые мы встречаем всякий раз, когда сталкиваемся с этой легендарной фигурой, – независимо от того, хвалим ли мы этого героя или, наоборот, стыдим и порицаем.
Самые разнообразные и противоречивые факты умудрялись находить себе место здесь, рядом друг с другом, в результате чего фигура директора Заповедника приобрела со временем нечто эпическое, – нечто, что роднит ее с Моисеем, Одиссеем и Наполеоном в одном лице.
Потому, когда одна экскурсоводная барышня ответила на мой вопрос, как они относятся Василевичу: «Мы его боимся», – я не удивился.
И верно.
Нельзя не бояться разбушевавшейся стихии, несущейся на тебя электрички или желающего облагодетельствовать тебя чиновника, пусть даже этот чиновник пишет стихи и награждается премиями «За вклад в искусство и культуру».
Все эти (и еще множество других) соображения послужили, видимо, причиной того, что с некоторых пор все, что говорилось о Василевиче и его Заповеднике, носило налет некой недостоверности; этакая ложка дегтя в бочке меда.
Добрый Ангел, швыряющий в прохожих камнями.
Рассказчик, забывший начало своего рассказа.
Достоверным, пожалуй, было только то, что господин Василевич соизволил родиться в богоспасаемом городе Минске, а с 21 марта 1994 года возглавил Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».
Была ли эта дата черным днем Музея или, напротив, она знаменовала собой близость светлых и прекрасных горизонтов – это пусть каждый решает сам.
В конце концов, история – это всего лишь противоборство мнений, которые не нуждаются ни в каких-либо доказательствах, ни в каких-либо изящных аргументах, в череде которых созидается то, что, ничтоже сумняшеся, мы называем наукой историей.
Впрочем, – и с этим нельзя не согласиться – ни одна история никогда не обходилась без истории, снисходя со своих теоретических высот в гущу человеческой глупости, героизма, мужества, подлости и всего того, что мы с легкостью наблюдаем каждый день, стоит только пошире открыть глаза.
2
Что же касается нашей Истории, то она – если верить многим достоверным и недостоверным источникам – была вот какая.
Жила была на свете девочка, и звали ее Анна. Место, куда она переехала, называлось поселок Пушкинские горы, а известны они были потому, что в трех километрах от поселка находился известный всему миру Пушкинский Заповедник, который долгие годы возглавлял Семен Степанович Гейченко.
Время шло, и скоро девочка стала работать в Заповеднике, помогая Семену Степановичу и быстро продвигаясь по служебной лестнице.
Анну ценили, и притом не только в окружении Семена Степановича. Такое место, куда приезжали десятки известных людей, где собирались, Бог знает зачем, какие-то «Дни» и «Вечера Поэзии», где, казалось, сам воздух пропитан неповиновением и иронией, – все это не могло остаться в стороне от руководящей роли партии и вездесущих органов, которые давно уже положили глаз на этого странного человека, которого называли Директором Заповедника.
В один прекрасный день Анне было предложено, что называется «присматривать» за Семеном Степановичем.
Так, по крайней мере, утверждают многие слухи и предположения.
Впрочем, инструкции были самые простые.
Следовало – как следовало из приятного, но серьезного разговора с представителем КГБ, – принимать во внимание все, что касалось Семена Гейченко и приглядывать за его окружением, донося обо всем, что могло быть интересно органам.
Узнал ли Семен Степанович об этом каким-то образом сам, или разоткровенничалась с ним Анна, но только легенда о том, что они вместе писали на Директора донесения – является одним из самых лучших подарков, которые преподнесла нам когда-то история
Можно представить себе эту чудесную картину – донос на Семена Степановича в исполнении самого Семена Степановича.
Гейченко: Пиши. Восхвалял американский образ жизни… Пиши, пиши.
Анна: Неудобно как-то, Семен Степанович.
Гейченко: Чего там неудобного?.. Ну, тогда пиши – не одобрял политику партии в области музейного дела.
Анна: Надо что-нибудь такое, позаковыристей, просили.
Гейченко: Тогда пиши. Замечен в регулярном искажении фактов, близких сердцу каждого россиянина. Искажал историю нашей великой Родины, а особенно историю после 1917 года.
…Позже она оправдывалась тем, что кто-то же должен был заниматься этой неаппетитной работой.
Но это было потом.
3
В начале августа 1993 года умер Семен Гейченко.
Временно исполняющим обязанности Директора стал, если я не ошибаюсь, Бозырев.
Все складывалось как нельзя лучше.
Тем более что вся команда Гейченко проявила исключительную неосведомленность и непрофессионализм, не ударив и пальцем о палец для того, чтобы не соглашаться с Министерством культуры, а избрать Директора из числа работающих в Заповеднике профессионалов.
Со смерти Семена Степановича прошло полгода, и вот в один прекрасный день, собрав всех работников Заповедника, Бозырев вышел вперед, держа под локоть Василевича, и сказал: «А это наш новый Директор».
На что зал ответил ему гробовым молчанием.
4
На этом наша история, пожалуй, заканчивается, потому что нельзя же, в самом деле, считать историей вечные российские темы, когда меняются только имена, суть же остается прежней.
Конечно, недовольные по-прежнему распускали различные слухи и нелепицы, но и без них было понятно, что с приходом Василевича, по большому счету, Время остановилось, а История – в какой уже раз – закончилась, не успев начаться.
Возможно, именно поэтому так увеличилось в это время число подметных писем и различного рода анекдотов вокруг нового директора, которого поначалу наградили совершенно неприличным и глупым прозвищем, повторять которое мы, пожалуй, воздержимся. Некоторые из этих писем доходили до полного абсурда, но при этом были довольно смешны и местами даже остроумны, что дает нам возможность продемонстрировать их нашему читателю.
5
Однажды, – как свидетельствует один известный недоброжелатель, – в голове Директора вдруг образовалась странная, но в то же время манящая мысль. Мысль эта была о том, что если бы по аллеям Михайловского гулял сам Александр Сергеевич Пушкин, то приток посетителей Заповедника, несомненно, увеличился бы, а он, Директор Заповедника, возможно, получил бы еще одну премию и тем самым обогнал бы по премиям самого себя, что удавалось далеко не всем.
Сказано – сделано.
Первым делом стали думать – кому же поручить такое ответственное дело? Кого нарядить в одежду Пушкина, чтобы это было естественно и красиво?
«Вы себе только представьте, – говорил Отец и Благодетель, размахивая руками, что было признаком сильного интеллектуального напряжения. – Идет, допустим, человек по лесу, никого не трогает, и вдруг из-за кустов появляется Пушкин! Сам! С тросточкой и во фраке!.. А теперь подумайте, сколько денег этот человек отдаст за то, чтобы хотя бы сфотографироваться вместе с поэтом?.. Вот посидите и подумайте, если сами не понимаете».
После долгих размышлений решили, что лучше всего для этой роли подойдет маленький и незаметный рабочий, которого звали Степан, а отчества никто давно уже не помнил.
Степан работал на грядках и про Пушкина знал только то, что Пушкин платил ему, Степану, зарплату и премиальные, о чем можно было судить по выражению лица Директора, когда тот сказал однажды: «Да что бы вы тут без Пушкина делали?»
Именно поэтому весь Пушкинский Заповедник ласково именовал Пушкина «Кормильцем».
Между тем позвали Степана. Он пришел, боязливо оглядываясь по сторонам и явно находясь не в своей тарелке.
– Пушкиным будешь, – сказал Василевич, с сомнением оглядывая кряжистую фигуру Степана. – Пойдешь, пусть они тебе приличный костюм подберут.
– Это можно, – сказал Степан.
– Без тебя догадаемся, – прикрикнул Василевич, который с рабочим людом особо не церемонился. – Чтобы завтра же во фраке был, а с деталями мы как-нибудь позже разберемся… Да не забудь кружку для сбора денег, а то знаю я вас, все помните, кроме того, что нужно!
И удалился, прекрасный и мудрый, как юный бог.
6
Если – как говорил один известный недоброжелатель – судить о Василевиче только по тому, что происходило в Заповеднике, то можно было бы с некоторой долей вероятности утверждать, что господин Василевич был сторонник идеи, так сказать, национального парка на французский манер, то есть парка, прореженного до такой степени, что с одного его края можно было хорошо видеть, что творилось на другом. Собственно, в этом не было ничего оригинального. Эта была мечта всякого чиновника, сидящего в Кремле и мечтающего ясно и отчетливо видеть всю Россию, не цепляясь особенно ни за что взглядом, и вообще не любившего это цепляющее, всегда ехидное, портящее вид и отчетность. Об этом, среди прочего, свидетельствовал и тот факт, что по сторонам главных, так сказать, магистральных аллей Заповедника, лес прореживался хоть и не до полного его приведения к нулю, однако же так, что после этого взгляд уверенно скользил на довольно приличные расстояния, не боясь наткнуться на какой-нибудь неприятный предмет, мнение или событие.
Сама идея национального парка, нечто вроде французского, прореженного, с дорожками, посыпанными песком, – невольно наводила его на желание гулять по этому прозрачному парку, и чтобы вдали танцевали пары, а пейзане шептали «Барин идет», тогда как сам он неторопливо шел бы под руку с верной подругой, которую почему-то звали Василиса.
Прореженный лес чудесно гармонировал с финской краской, очищенными домами, – тут словно проступала мечта о хорошей комфортабельной жизни, некоторый намек на то, что хорошая, комфортабельная и со всех сторон обустроенная жизнь и есть, собственно говоря, жизнь, тогда как все остальное – это только недоразумение и удел жалких неудачников, которым досталась судьба до гробовой доски жить в каких-нибудь отвратительных блочных домах, из которых есть только один путь – на кладбище.
7
Впрочем, – как заметил все тот же недоброжелатель – можно было допустить и еще одно объяснение любви господина Василевича к прореженному лесу.
– В конце концов, – сказал он, – всякий чиновник имеет о себе, как правило, завышенное представление. Ему кажется – стоит только ему слегка отпустить удила, как все понесется без плана и стройности в тартарары, чтобы там оказаться в руках наших врагов, которые ведь особо миндальничать не будут.
Страх врагов и страх начальства – типичная болезнь чиновнической братии.
Поэтому я бы не удивился, если бы узнал, что господин Директор подвержен в какой-нибудь форме известной болезни или даже нескольким болезням, которыми болеют чиновники и партийные функционеры, – болезни, которые я не стану здесь называть, тем более что все они хорошо и давно всем известны.
8
Мнение недоброжелателя:
Однажды в Петровском я был свидетелем того, как с конька крыши барского дома, то есть с дома Ганнибала, снимали флюгер в виде слона, который до сих пор мирно занимал свое место высоко над усадьбой. На вопрос, зачем снимают слоника, экскурсовод ответила: «Он не отвечает исторической правде». Так, как будто что-то тут отвечало этой самой правде, – новодел усадеб, финская краска, крашеные стены, новодельные окна, ухоженные клумбы. – Ничего здесь нет, «как при Пушкине». Ни ухоженных дорожек, ни изящных скамеек, ни вместительных, увитых плющом, беседок. Есть только пейзаж, такой, каким его видел Александр Сергеевич. Таким, каким видим его сегодня и мы – таким же точно, как будто и не было этих лет.
И вот этот-то пейзаж Василевич, мягко говоря, не заметил. Достаточно посмотреть на открывающийся вид с Савкиной горки. За двадцать лет своего правления Василевич приобрел опыт директорства, получил государственную и другие премии, ел, пил, веселился, ездил в Италию и принимал именитых гостей, – но не сделал главного – не настоял на законе, который мог бы оградить Михайловское и его окрестности от застройки и прочих безобразий. Собственно, это дело всякого директора, – кроме прочего, – защищать вверенное ему хозяйство.
И больше ничего.
9
Последняя история, которую я услышал, касалась отношений Василевича и отца Нектария.
Два гиганта отечественной духовности, конечно, не смогли найти общего языка относительно раздела монастыря и в результате – как рассказывают – стали злейшими и непримиримыми врагами. "Он в Бога не верует", – сказал про Василевича о. Нектарий, а уж страшнее этого, конечно, ничего нельзя было придумать. Неверие в Бога было, ко всему прочему, еще и непонятно, ибо на собственном своем примере отец Нектарий смог убедиться за много лет служения, что вера в Бога чревата разными прекрасными дарами, отказываться от которых – значило бы погрязнуть в гордыне, поскольку Господь прекрасно знает и без нас – кому, сколько и когда Он собирается благодетельствовать.
Что же сказал Василевич про отца настоятеля, о том мы можем только догадываться. Тем более что это уже совсем другая история.